Паремии как лингвокультурная репрезентация языковой личности: На материале немецкого языка
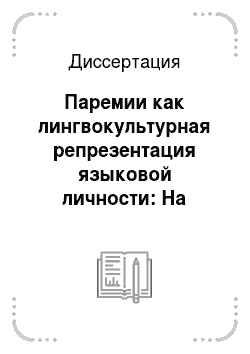
Диссертация
Теоретической базой исследования послужили следующие положения 5 современной лингвистики, разрабатываемые в трудах зарубежных (Ф.Вандер, А. Вежбицкая, В. фон Гумбольдт, К. Клоста, Э. Сепир, Б. Уорф, Т. Шиппан) и отечественных (Н.Ф.Алефиренко, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, В. В. Виноградов, С. Г. Воркачев, В. Даль, Д. О. Добровольский, Н. Красавский, А. А. Потебня, В. Н. Телия и др.) лингвистов… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Паремии как источник этнокультурной информации
- 1. История изучения паремий в лингвистике
- 1. 1. Истоки немецкой паремиологии
- 1. 2. Паремиология на современном этапе
- 1. 3. Место паремий в системе языка
- 1. 4. Понятийная структура термина «пословица»
- 1. 5. Паремия как средство вербализации концепта
- 2. Особенности экспрессивно-оценочной коннотации паремиологических единиц
- 2. 1. Синонимия, антонимия и гиперо-гипонимические связи в паремиях
- 2. 2. Вторичная номинация в формировании образной семантики паремий
- 2. 3. Оценочная категоризация в паремиологии
- 3. Категоризация и концептуализация мира в аспекте паремиологии
- 3. 1. Паремии в отражении реальности в наивной языковой картине мира
- 3. 2. Понятие этноса и этнокультурной языковой личности
- 3. 3. Вербализованные категории культуры как средство изучения языковой личности в пространственно-временном континууме
- 1. История изучения паремий в лингвистике
- 1. Категория «субъект» в отражении немецких паремий
- 1. 1. Концептуальный ряд «человеческое тело с точки зрения анатомии и физиологии»
- 1. 2. Концептуальный ряд «базовые эмоции и чувства»
- 1. 3. Концептуальный ряд «человеческая одежда»
- 1. 4. Концептуальный ряд «еда»
- 1. 5. Концептуальный ряд «употребление спиртных напитков и пьянство»
- 1. 6. Концептуальный ряд «смерть»
- 1. 7. Концептуальный ряд «испражнения»
- 2. Категория «время» в отражении паремий
- 2. 1. Общее понятие времени и его лексические репрезентанты в паремиях
- 2. 2. Отражение в паремиях концептов «прошлое — настоящее — будущее»
- 2. 3. Лексические средства выражения категории времени как членимой оси
- 3. Категория «пространство» в отражении паремий
- 3. 1. Обобщенное — относительно ограниченное пространство
- 3. 2. Пригодное — непригодное для жизнедеятельности субъекта пространство
- 3. 3. Открытое — замкнутое простанство
- 3. 4. Далекое — близкое пространство
- 3. 5. Пространственные оппозиции с точки зрения рассмотрения местоположения субъекта/объекта относительно других субъектов/объектов
Список литературы
- Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики, — Волгоград: Изд-во ВГУ, 1999.- 274 с.
- Алефиренко Н.Ф. Значение в парадигме языкового сознания //Язык и национальное сознание. Вып. 2. Воронеж: ЦЧКИ, 1999.- 218 с.
- Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова: Синергетика языка, сознания и культуры.- М.: Изд-во Academia, 2002.- 394 с.
- Антонова О.Б. Фразеологизмы с орнитонимом в качестве опорного слова: стилистический аспект //Лексика и лексикография: Сб. статей. М.:Институт языкознания РАН, 2000.- С.3−5.
- Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1991.- 140 с.
- Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык (о языковой картине мира) //Вопросы языкознания.- 1987.- № 3.- С.3−19.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт.-М.: Наука, 1988.-341 с.
- Арутюнова Н.Д. О стыде и стуже //Вопросы языкознания.- 1997, № 2.-С.59−70.
- Арутюнова Н.Д. Метафора // Языкознание. БЭС.- М.: Науч. Изд-во Большая Российская энциклопедия, 1998.- С. 296−297.
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека.- М.: Школа «Языки русской культуры», 1999.- 896 с.
- Арутюнова Н.Д. Наивные размышления о наивной картине языка //Язык о языке: Сб. статей. М.: Школа «Языки русской культуры», 2000.- С. 7−19.
- Архангельский В.А. Устойчивые фразы в современном русском языке.- Ростов н/Д: Из-во Ростовского университета, 1964.- 194 с.
- Бабина Л.В. Вторичная репрезентация как проблема когнитивной лингвистики //Традиционные проблемы языкознания в свете новых парадигм знания.- М.: Институт языкознания РАН, 2000.- С. 11−12.
- Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1996.- 104 с.
- Бабушкин А.П. Калейдоскопочнская образность концепта «время» // Категоризация мира: пространство и время: Материалы научной конференции.- М.: Диалог МГУ, 1997.- 240 с.
- Бабушкин А.П. Этнолингвистический аспект в исторической лексикографии //Вопросы языкознания.- 1997.- № 3.- С. 48−53.186
- Барчунова Т.В. Способствует ли возрождение наук и искусств очищению нравов? //Вопросы философии.- 1997.- № 1.- С. 166−173.
- Бахтин М.М. Эпос и роман.- СПб: Изд-во Азбука, 2000.- 304 с.
- Беляевская Е.Г. Семантика слова: Учебное пособие для ин-тов и фак. Иностр. Языка.- М.: Высшая школа, 1987.- 128 с.
- Бендикс Э.Г. Эмпирическая база семантического описания //H3JL-Вып. 14.- М.: Прогресс, 1983.- С. 75−107.
- Берестнев Г. И. Самосознание личности в аспекте языка //Вопросы языкознания.- 2001.- № 1.- С.60−84.
- Бертова Т.С. К вопросу о языковой категоризации пространства и времени (на материале английского языка) //Когнитивный аспект языковой категоризации: Сб. научных трудов.- Рязань, 2000.- С. 47−51.
- Бертран Р. Исследование значения и истины.- М.: «Идея-пресс», Дом интеллектуальной книги, 1999.- 398 с.
- Бидерманн Г. Энциклопедия символов.- М.: Республика, 1996.- 335 с
- Богданова Л.И. Эмоциональные концепты и их роль при описании глаголов с позиций «активной» грамматики // Язык, сознание, коммуникация, — Вып. 3, — Москва: Филология, 1998, — С. 36−43.
- Болдырев H.H. Когнитивная семантика.- Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000.123 с.
- Болдырев H.H. Концепт и значение слова //Методологические проблемы когнитивной лингвистики.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001.- С. 25−36.
- Болдырев H.H. Языковые механизмы оценочной категоризации // Реальность, язык и сознание: Международный, межвузовский сборник научных трудов.- Тамбов: ТГУ, 2002.- 369 с.
- Бондарко A.B. Грамматическое значение и смысл.- Л.: Наука, 1978.175 С.
- Брагина Н.Г. Фрагмент лингвокультурологического лексикона (базовые понятия) //Фразеология в контексте культуры.- М.: Школа «Языки русской культуры», 1999.- С. 131−138.
- Булыгина Т.В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира.- М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.- 576 с.
- Василенко И.А. Диалог культур, диалог цивилизаций //Вестник Рос187сийской Академии наук, — 1996.- Том 66.- № 5.- С. 394−402.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание.- М.: Изд-во «Русские словари», 1997.-411 с.
- Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков.- М.: «Языки русской культуры», 1999.- 780 с.
- Верещагин Е.М., Косомаров В. Г. Лингвотрановедческая теория слова.- М.: Высшая школа, 1985.- 372 с.
- Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове.- М., Л.: Учпедгиз, 1947.- 784 с.
- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки.- М.: Наука, 1985.229 с.
- Вольф Е.М. Оценочное значение и соотнесение признаков хорошо/плохо //Вопросы языкознания.- 1986.- № 5.- С. 98−106.
- Воркачев С.Г. Безразличие У8 презрения (на материале испанского языка) //Вопросы языкознания.- 1992.- № 1.- С. 79−86.
- Воркачев С.Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности. Опыт сопоставительной паремиологии //Вопросы языкознания, 1997.-№ 4.-С. 115−127.
- Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становления антропоцентричной парадигмы в языкознании //Филологические науки.- 2001.- № 1.- С. 18−32.
- Гак В. Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке //Вопросы языкознания.- 1997.- № 5.- С.55−65.
- Гак В. Г. Лексическое значение слова //БЭС Языкознание.- М.: Научное издательтво «БРЭ», 1998.- С. 261−263.
- Гак В. Г. Языковые преобразования.- М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.- 768 с.
- Гачев Г. Национальные образы мира: Курс лекций.- М.: Асаёет А, 1998.- 429 с.
- Голева Г. С. Персидская фразеология (лингвокультурологический ас- «у пект) //Вопросы языкознания.- 1997.- № 5.- С. 135−141.
- Гришаева Л.И. Арминий, Барбаросса, ведьмы с Брокена и другие // Немецкий язык и культура через призму немецких прецендентных текстов.- Воронеж: Изд-во „Русская словестность“, 1998.- 147 с.
- Гумбольдт В. Язык и философия культуры.- М.: Прогресс, 1985.450с.188
- Гумилев JI.H. Этногенез и биосфера Земли.- Л. Изд-во ЛГУ, 1989.- 496с.
- Гуревич А .Я. Категории средневековой культуры— М.: Искусство, 1984.-350 с.
- Даль В.И. Пословицы русского народа: Сб. В. Даля: В 3 т.- Том 1.- М.: Русская книга, 1998.- 638 с.
- Девкин В.Д. Лексикография: проклятый жанр //Лекика и лексикография: Сб. науч. трудов.- М.: Инст-т языкознания РАН, 2000.- С. 20−26.
- Добровольский Д.О. К проблеме лексико-семантических универсалий //Филологические науки.- 1996.- № 5, — С. 24−30.
- Добровольский Д.О. Образная составляющая в семантике идиом // Вопросы языкознания.- 1996.- № 1.- С. 71−93.
- Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии (I) // Вопросы языкознания.- 1997.- № 6.- С. 37−48.
- Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии (II) // Вопросы языкознания.- 1998.- № 6.- С. 37−48.
- Дронова Н.П. Символическая семантика единиц в познании картины мира //Реальность, язык и сознание: Межвузовский сб. науч. трудов.- Вып. 1.- Тамбов: Изд-во ТГУ им Г. Р. Державина, 1999.- С. 119−123.
- Дронова Н.П. Особенности формирования и развития теонимов в немецком языке // Актуальные проблемы германского и общего языкознания.- Тамбов Москва: Изд-во ТГУ им. Державина, 2001.- С.84−86.
- Дудченко В.В. Лексико-семантический анализ значений одной тематической группы в русском и английском языках //Аспекты лексического значения, — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1982.- С. 71−77.
- Карасик В.И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования //Методологические проблемы когнитивной лингвистики. -Воронеж: ВГУ, 2001.- С.75−80.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.- М.: Наука, 1987.264 с.
- Касевич В.Б. Языковые и текстовые знания. Проблема представления знаний и естественный язык //Вопросы языкознания.- 1990.- № 6.- С. 13−16.
- Кирилина A.B. Так ли андроцентричны русские пословицы и поговорки //Реальность, язык и сознание: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1.- Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г .Р. Державина, 1999.- С. 97−101.
- Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке.- М.: Наука.- 1984.- 175 с.
- Корнилов O.A. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов.- М.: МАЛП, 1999.- 341 с.
- Красавский H.A. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах.- Волгоград: Перемена.-2001.- 495 с.
- Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация).- М.: Диалог МГУ, 1998.- 352 с.189
- Красных B.B. Национально-культурная составляющая русского языкового сознания (на материале кроссвордов) //Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей.- М.: МАКС-Пресс, 2000.- Вып. 15.- 124 с.
- Красных В.В. Точки над i или многоточие (к вопросу о современной научной парадигме) // Язык, сознание, коммуникация.- Вып. 16.- М.: Макс-Пресс, 2001.-С. 5−12.
- Кубрякова Е.С. Обеспечение речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона //Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи.- М.: Наука, 1991.- С. 82−140.
- Кубрякова Е.С. Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем //Язык и структуры представления знаний.- М.: ИНИОН РАН, 1992.- С. 4−38.
- Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения.- М.: РАН Институт языкознания.- 1997.- 327 с.
- Кубрякова Е.С. Языковое сознание и языковая картина мира //Филология и культура: Материалы международной конференции.- Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 1999.- С.6−13.
- Кубрякова Е.С. О понятиях места, предмета и пространства //Логический анализ языка. Языки пространств.- М.: 2000.- С. 84−92.
- Кунин A.B. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного опиания.- М.: Международные отношения, 1972.- 288 с.
- Лайонз Дж. Ведение в теоретическую лингвистику.- М.: Прогресс, 1978.- 543 с.
- Левицкий В.В., Стернин И. А. Экспериментальные методы в семасиологии.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1989.- 192 с.
- Леонтьев A.A. Психологическая структура значения //Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования.- М.: Наука, 1974.-С. 7−19.
- Лихачев. Д.С. Культура как целостная среда //Новый мир.- 1994.- № 8.- С. 3−8.
- Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф.- М.: Изд-во Московского университета, 1982.-479 с.
- Лосев А.Ф. Философия имени.- М.: Изд-во МГУ, 1990.- 269 с.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв.- М.: Гнозис, изд. Группа „Прогресс“, 1992.- 272 с.
- Лурье C.B. Национализм, этничность, культура. Категории науки и истории //ОНС Общественные науки и современностью.- 1999.-№ 4.-С. 101−111.
- Маковский М.М. Язык миф — культура (Символизм жизни и жизнь символов) //Вопросы языкознания.- 1997.- № 1.- С. 73−95.190
- Маковский М.М. Метаморфозы слова (табуирующие маркеры в индоевропейских языках) //Вопросы языкознания.- 1998.- № 4.- С. 151−180.
- Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию.- М.: Наследие, 1997.207 с.
- Маслова В.А. Связь мифа и языка //Фразеология в контексте культуры.- М.: Школа „Языки русской культуры“, 1999, — С. 159−163.
- Медведева A.B. Концепт „Дом“ в русской и английской концептосфе-рах // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Научное издание.- Воронеж: ВГУ, 2001.- С. 102−106.
- Мелерович A.M. Мокиенко В. М. Формирование и функционирование фразеологизмов с культурно маркированной семантикой в системе русской речи //Фразеология в контексте культуры.- М.: Языки русской культуры, 1999.- С.63−68.
- Милосердова Е.В. Семантика и прагматика модальности (на материале протого предложения современного немецкого языка).-Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991.- 196 с.
- Миронова H.H. Дискурс-анализ оценочной семантики.- М.: НВИ -ТЕЗАУРУС, 1997.- 158 с.
- Молчанова А.Н. О переносно-образных значениях слов //Аспекты лексического значения.- Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1982.- 160 с.
- Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. М.: Высшая школа, 1976.- 318 с.
- Неретина С.С. Средневековое мышление как стратегия мышления современного // Вопросы философии.- 1999.-№ 11.- С. 122−150.
- Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения.- М.: Высшая школа, 1988.- 168 с.
- Никитин М.В. Курс лингвистической семантики.- С.-Петербург: Научный центр проблем диалога, 1997 757 с.
- Оболенская О.В. Немцы в глазах русских XIX века: черты общественной психологии //Вопросы истории.- 1997.- № 12.- С. 102−128.
- Ожегов С.И. О структуре фразеологии //Лексикографический сборник.- Вып. 2.- М., 1957.- С. 29−46.
- Ольшанский И.Г. Лингвокультурология в конце 20 века: итоги, тенденции, перспективы //Лингвистические исследования в конце 20 века. Сб. обзоров.- М.: Серия „Теория и история языкознания“, 2000.- С. 26−55.
- Ольшанский И.Г. О сотношении лексической полисемии и метафоры //Лексика и лексикография. Сб. науч. трудов.- М.: Институт языкознания РАН, 2000.- С. 135−145.
- Опарина Е.О. Исследование метафоры в последней трети XX века //Лингвистические исследования в конце 20 века. Сб статей.- М.: Серия „Теория и история языкознания“, 2000.- С. 186−204.
- Павиленис Р.И. Проблемы смысла. Современный логико191философский анализ языка. М.: Мысль, 1983.- 312 с.
- Писанова Т.В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики. Эстетические и этические оценки.- М.: Изд-во ИКАР, 1997.- 320 с.
- Полищук В.И. Символы огня и света в культуре // Философские науки.- 1993.- № 1−2-3.- С. 211−216.
- Попова З.Д., Стернин И. А. Понятие „концепт“ в лингвистических исследованиях.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999.- 30 с.
- Попова З.Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике.- Воронеж: Истоки, 2001.- 191 с.
- Потебня A.A. Мысль и язык.- Харьков: Тип. А. Дарре, 1892.- 228 с.
- Потебня A.A. Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица.-Харьков: Тип. К. Счастии, 1914.- 162 с.
- Потебня A.A. Слово и миф.- М.: Правда, 1989.- 623 с.
- Пустовалова В.И. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (К проблеме оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте культуры.- М.: „Языки русской культуры“, 1999.-С. 25−33.
- Райхштейн А.Д. Немецкие устойчивые фразы //Ленинград: Просвещение, 1971.- 184 с.
- Райхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии.- М.: Высшая школа, 1980.- 143 с.
- Расел Б. Иследование значения и истины.- М.: Идея Пресс, 1999.400 с.
- Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость.- М.: Русские словари, 2000.- 416 с.
- Сафронова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций.- Воронеж: Истоки, 1996.-237 с.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии.- М.: Изд-я группа „Прогресс Универс“, 1993.- 656 с.
- Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление.- М.: Наука, 1998.- 242 с.
- Сорокин Ю.А. Введение в этнопсихолингвистику.- Ульяновск, 1998.138 с.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.» М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.- 824 с.
- Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979.- 156 с.
- Стернин И. А. Национальная специфика мышления и проблема лакунарности // Связи языковых единиц в системе и реализации: Межвуз. сб. науч. Трудов.- Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 1997.- С. 22−31.
- Суворина Е.В. Изучение эмоций в когнитивных исследованиях // Композиционная семантика: Материалы третьей международной школы-семинара по когнитивной лингвистике 18−20 сентября 2002 года, Ч. 2, Там192бов: Изд-во ТГУ, 2002.- С. 64−67.
- Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке.- М.: Наука, 1981.- 269 с.
- Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц.-М.: Наука, 1986.- 141 с.
- Телия В.Н. Русская фразеология.- М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.-288 с.
- Телия В.Н. От редактора //Фразеология в контексте культуры.- М.: Школа «Языки русской культуры», 1999.- 336 с.
- Тондл JI. Проблемы семантики.- М.: Прогресс, 1975.- 485 с.
- Топорова Т.В. Древнегерманские представления об идеальном пространстве и времени //Изв. РАН.- 1993.- № 5.- С. 43−49.
- Топорова Т.В. Об оппозиции «темный мир» «светлый мир» в древ-негерманской космогонии //Вопросы языкознания.- 1998.- № 6.- С. 39−47.
- Фесенко C. J1. Лингвокультурологическая специфика эмоциональных концептов //Композиционная семантика: Материалы третьей международной школы-семинара по когнитивной лингвистике 18−20 сентября 2002 года, Ч. 2, Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002.- 64−67.
- Фесенко Т.А. Реальный мир и ментальная реальность: парадигма взаимоотношений.- Тамбов: Изд-во ТГУ, 1999.- 247 с.
- Фесенко Т.А. Языковое сознание в интраэтнической среде.- Тамбов: Изд-во ТГУ, 1999.- 147 с.
- Филиппова М.М. Словари юмористических цитат и парадоксы межкультурного общения //Язык, сознание, коммуникация.- Вып. 14.- М.: Макс-Пресс, 2000.- С. 31−54.
- Филлмор Ч.Дж. Основные проблемы лексической семантики //Новое в зарубежной лингвистике.- Вып. XII.- Прикладная лингвистика.- М.: Радуга, 1983. С. 74−122.
- Харченко В.К. Переносные значения слова, — Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1989, — 198 с.
- Хатунцева Г. Ю. Смерть в русской и англо-американском сознании // Язык и национальное сознание.- Вып. 2.- Воронеж: ЦЧКИ, 1999.- С. 41−43.
- Хахалова С.А. Категория метафоричности (формы, средства выражения, функции): Автореф. Дис.. доктора филол. наук.- М., 1997.- 33 с.
- Черданцева Т.З. Идиоматика и культура //Вопросы языкознания.-1996.-№ 1.-С. 58−70.
- Чернейко Л.О. Представление о времени в обыденном и художественном сознании и представление времени в художественном тексте // Категоризация мира: пространство и время. Материалы научной конференции.-М.: Диалог-МГУ, 1997.- С. 125−128.193
- Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка.- М.: Высшая школа, 1970.- 200 с.
- Шаховский В.И. К типологии коннотаций //Аспекты лексического значения.- Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1982.- С. 29−34.
- Шелестюк Е.В. О лингвистическом исследовании символа //Вопросы языкознания.- 1997.-№ 4.- С. 125−142.
- Шенделева Е.А. Полевая организация образной лексики и фразеологии //Фразеология в контексте культуры.- М.: Школа «Языки русской культуры», 1999.- С. 74−79.
- Яковлева Е.С. О некоторых моделях пространства в русской языковой картине мира//Вопросы языкознания.- 1993, — № 4.- С. 48−62.
- Яковлева Е.С. Фрагмент русской языковой картины времени // Вопросы языкознания.- 1994.- № 5.- С. 73−89.
- Baur R., Chlosta Ch. Sprichworter Minimum fur den Deutschunterricht // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch: DAAD Bonn «Metatext» Ltd.- Moskva, 1997.- S. 243−266.
- Bausinger H. Deutsch fur Deutsche. Dialekte, Sprachbarrieren, Sondersprachen.- Frankfurt a.M.: Fischer, 1976.- 160 S.
- Bojkova Irina B. Der Raum im Deutschen und im Russischen //Das Wort/ Germanistisches Jahrbuch: DAAD Bonn: Metatext Ltd.- Moskva, 1997- S.267−273.
- Brysz-Mladenovic S. Sollen Sprichworter und Redensarten Thema im Fremdsprachenunterricht sein? //Актуальные проблемы языкознания и медо-ды обучения иностранным языкам: Материалы международной научной конференции.- Воронеж: ВГПУ, 2000.- С. 32−34.
- Bu?mann Н. Lexikon der Sprachwissenschaft.- Stuttgart: Kroner, 1990.904 S.
- Cassirer E. Das Symbolproblem und seine Stellung im System der Philosophie //Zeitschrift fur Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1927.- S. 295 312.
- Casmir F.L. Interkulturelle Kommunikation als Prozess //Interkulturelle Kommunikation.- Munchen, Basel, 1998.- S. 15−26.
- Dobrovolskij D. Gibt es Regeln fur die Passivierung deutscher Idiome? //Das Wort. Germanistisches Jahrbuch: DAAD, 1998.- S.21−40.
- Dorschner N. Lexikalische Strukturen: Wortfeldkonzeption und Theorie der Prototypen im Vergleich.- Munster: Nodus-Publ., 1996.- 126 S.
- Eco U. Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen.- Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 1987.-439 S.
- Eismann W. Nationales Stereotyp und sprachliches Klischee. Deutsche und194
- Slaven im Lichte ihrer Phraseologie //In: B. Sandig (ed.), Europhras 92. Tendenz der Phraseologieforschung.- Buchum, 1994.-S.81−107.
- Engelkampf J. Mentales Lexikon: Struktur und Zugriff //Die Ordnung der Worter und lexikalische Strukturen // hrg. Von Gisela Harras.- Berlin- New Jork: de Gruyter, 1995.- S. 98−118.
- Fischer H-D. Einfuhrung in die deutsche Sprachwissenschaft: ein Arbeitsbuch.- Munchen: Ehrenwirth, 1996.- 240 S.
- Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache.- Lpz. Bibl. Institut, 1982.- 250 S.
- Fleischmann E. Probleme der Kulturspezifik in der fachlichen Kommunikation: Produktlokalisierung und die Translation instruktiver Texte // Das Wort. Germanisches Jahrbuch, DAAD, 1998.- S. 41−65.
- Gorner Н. Redensarten. Kleine Idiomatik der deutschen Sprache.- Lpz.: Bibliographisches Institut, 1979.- 262 S.
- Jost H. Die Kultur der BRD: 1965−1985.-Berlin: Ullstein, 1990.- 675 S.
- Klappenbach R. Probleme der Phraseologie //Wiss. Zeitschr. d. Karl-Marx Univ. Leipzig: Gesellschafts und sprachwiss. Reihe, 1968.- 221 S.
- Kleinsteuber HJ. Stereotype, Images und Vorurteile. Die Bilder in den Kopfen der Menschen // Die ha? lichen Deutschen. Deutschland im Spiegel der westlichen und ostlichen Nachbarn.- Darmstadt: Wissenschaftliche Buchhandlung, 1991.- S. 60−71.
- Kokanina L.B. Lexikalisxh-phraseologische Besonderheiten der deutschen Sprache in der Schweiz //Das Wort. Germanistisches Jahrbuch DAAD, 1991.- S. 95−100.
- Maletzke G. Interkulturelle Kommunikation: zur Interaktion zwischen Menschen verschidener Kulturen.- Opladen: Westdt. Verl., 1996.- 226 S.
- Mecklenburg N. Uber kulturelle und poetische Alteritat. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik (1987) //Hermeneutik der Fremde.- Munchen: indicium Verlag GmbH, 1990.- S. 80 102.
- Mermet G. Die Europaer. Lander, Leute, Leidenschaften.- Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 1993.- 365 S.
- Mieder W. Verwendungsmoglichkeit und Funktionswerte des Sprichworts195in der Wochenzeitung (Untersuchung der Zeit fur das Jahr 1971) //Muttersprache.- 1973.- № 83.- S. 89−119.
- Mieder W. Sprichworter im modernen Sprachgebrauch (1977).- Hamburg, 1983.-S. 53−76.
- Millitz H.-M. Kopfstand der Sprichworter// Sprachpflege.- 1983.- № 6.- S. 83−84.
- Piirainen El. Geschlechtspezifik in der deutschen Phraseologie // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch: DAAD, 1999.- S. 97−122.
- Schippan Th. Einfuhrung in die Semasiologi.- Lpz.: Bibl. Inst., 1972.- 2461. S.
- Ахманова O.C. Словарь лингвистических терминов.- М.: Советская энциклопедия, 1966.- 608 с.
- Демьянков В.З., Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов.- М.: Изд-во МГУ, 1996.
- Языкознание. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. В.Н.Ярцева/.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.- 685 е.: ил.
- Большой энциклопедический словарь (БЭС).- М.: Большая Российская энциклопедия, 2001.- 1456 с.
- Немецко-русский фразеологический словарь.- М.: Русский язык, 1975.- 656 с.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.: Русский язык, 1982, — 816 с.
- Философский энциклопедический словарь (ФЭС).- М.: Советская энциклопедия, 1983.- 840 с.
- Байер X., А. Немецкие пословицы и поговорки.- М.: Высшая школа, 1989.-392 с.
- Немецкие пословицы и поговорки /Сост. Шалагина B.K./.- М.: Изд-во ИМО, 1962.- 88 с.
- Петлеванный Г. П., Малик О. С. 400 немецких рифмованных пословиц и поговорок.- М.: Высшая школа, 1990.- 48 с.
- Beyer Horst und Annelies Sprichworterlexikon: Sprichworter und sprichwortliche Ausdrucke aus deutschen Sammlungen vom 16 Jahrhundert bis zur196
- Gegenwart.- Lpz.: Bibliographisches Institut, 1984.- 712 S.
- Deutsche Sprichworter fur Auslander: Eine Auswahl mit Beispielen.- Lpz, VEB Verlag Enzyklopadie, 1972.- 119 S.