Проза Владимира Максимова
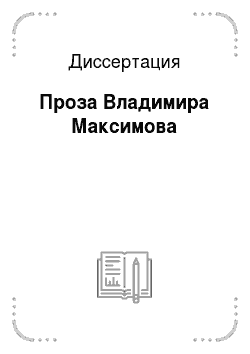
ГМВА 1 В. МАКСИМОВ И ЕГО РОМАН «СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ» ПАРАГРАФ 1НАЧАЛО ТВОРЧЕСЮГО ПУТИЛитературный дебют В. Максимова состоялся в 1956 году, когда в Черкесске тиражом 5000 экземпляров вышла книжка его стихов «Поколение на часах». Будущий писатель осел тогда на несколько лет в Черкесске, сотрудничая в местных газетах и занимаясь переводами национальных поэтов. Эти переводы, вкупе с собственными… Читать ещё >
Содержание
- 1. лава X В. Мамов ж его роман «иемь дней творения»
- Параграф X Начало творчого пути параграф 2 «иемь дней творения» в контексте судьбы и творчва птеля
- Параграф 3 Идейно-художвенноеоеобразие романа
- Хлава 2 Христианскийжет в прозе Владимира Максимова. 86 Параграф I Христианские мотивы и художественные поиски в романах «Карантин» и «прощание из ниоткуда»
- Параграф 2 Судьба России в романах «Ковчег для незваных» «и «Ьаглянуть в бездну»
- Параграф 3 В. Максимов — драматург и публицист. с* Х
Проза Владимира Максимова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Диссертация посвящена рассмотрению прозы Владимира Максимова. Судьба и творчество этого писателя занимают в современной русской литературе особое место. Выходец из социальных низов, В. Максимов стал играть видную роль в литературе и общественной жизни. Состоявшись как писатель и получив признание на родине, он вступил в конфликт с политическим строем, оказался в эмиграции, где стал одним из признанных авторитетов ее литературной и общественной жизни. Автор нескольких повестей и романов, более десятка пьес, В. Максимов выступает, кроме того, еще и как публицист. Его произведения стали возвращаться на родину в конце 80-х годов, когда имя писателя вновь стало упоминаться в положительном контексте.
В русской литературе XX века В. Максимов выделяется своеобразием судьбы, отразившемся на многих аспектах его творчества.
Писатель родился 27.11.1930 года в Москве в семье рабочего. В четырнадцать лет ушел из дома, несколько лет скитался по стране, побывал в детдомах, спецприемниках, лагерях и психиатрических больницах. С 1952 года — на Кубани, сотрудничает в одной из местных газет. Занятия журналистикой переросли в профессиональную литературную деятельность. В 1956 году В. Максимов, уже будучи автором сборника стихов, возвращается в Москву, где в начале 60-х публикует свои первые прозаические произведения, а в 1963 году вступает в Союз писателей.
Важно заметить, что факт демократического происхождения стал для писателя не просто формально-биографическим моментом, а материалом для творческой рефлексии, многое обусловив в его произведениях. От него отталкивается В. Максимов в своих размышлениях.
Стремление утвердиться в иной жизненной сфере, чем досталась от рождения, было главной причиной метаний и поисков, которым писатель посвятил немало лет:" Я родился, вырос и вышел из самого массового слоя нашего общества — рабочих и крестьян, но с детства окунувшись в книжный омут как в нирвану, освобождающую от ужасающей повседневности, я мечтал вырваться из цепких объятий своей социальной среды, переиначить собственную судьбу и оказаться там, где живут, работают, мыслят другие, не похожие на окружающих, люди. Красивые, мудрые, сильные, озабоченные прежде всего не изнуряющим трудом ради хлеба насущного, но подвигом во имя малых сих и прекрасного будущего человечества" /63,16/. «Книжный омут» также сыграл роль в становлении судьбы. В. Максимов признавался:" В юности увлекался Горьким, Леоновым" /62/. Возможно, влияние Горького сказалось на выборе псевдонима. Настоящее имя писателя — Лев Алексеевич Самсонов. Владимиром Емельяновичем Максимовым он стал во времена своих скитаний, и фамилию Максимов мог избрать, образовав ее от имени своего литературного кумира тех лет. Биографически писатель тоже как бы повторял горьковский путь:" выломившись" из родной среды, проИдя весьма тернистый путь — собственные «университеты», давшие опыт, расрывшийся в творчестве, он, войдя в новую для себя сферу культуры, не ассимилировался, а противопоставил себя новощ окружению.
В эмиграцию В. Максимова привел мировоззренческий поворот, который в творческом аспекте проявился романом «Семь дней творения». Этот роман, изданный в 1971 году «Посевом», содержал в себе самую резкую, самую радикальную критику и отрицание революции с позиций христианства. Пережив религиозное обращение, писательпримкнул к диссидентам и вступил в непримиримый конфликт с властями.
В 1974 году он выехал на Запад, влившись, таким образом, в ряды эмиграции. В. Максимов уже к тому времени обладал системой идейных и творческих принципов, которые позволяют говорить о нем как о самостоятельной и значительнож фигуре и в литературном, и в обще ственном планах. Еще в первых произведениях писатель заявил о себе как приверженец традиционно-реалистической манеры письма. Его худо жественное кредо сложилось как под воздействием советских авторов, в особенности Горького и Леонова, так и под влиянием русской классики XIX века. Творческое освоение этих традиций проявилось в ранних повестях, написанных в 60-е годы. В них В. Максимов разрабатывал нравственную проблематику на материале, предоставленном личным жизненным опытом. С укрупнением проблем, оказывавшихся в центре произведений, произошел переход к более масштабной жанровой форме — роману. Это совпало с поворотным моментом в мировоззренческой эволюции писателя: в конце 60-х годов Максимов пережил религиозное обращение, перешел на христианские позиции.
В «Семи днях творения» в полную силу прозвучали идеи неприятия основанного на насилии революционного пути преобразования общества, идея утверждения освобождающегося от социальных догм и заблуждений человека, ищущего путь к вере.
И в художественном творчестве, и в публицистике В. Максимов заговорил о необходимости возвращения к традиционным для России духовным основам жизни, к вере. Вся послереволюционная действитель ность однозначно отвергалась им как результат внедрения разрушительной и античеловеческой по своей сути доктрины марксизма.
Как основной негативный результат послеоктябрьских десятилетий писатель выделял разрушение традиционных духовно-нравственных основ личности русского человека.
С этим идейным кредо, означавшим разрыв с советской литературой и общественным строем В. Максимов включился в диссидентское движение и выехал затем в эмиграцию. Здесь он оказался в гуще литературной и общественной жизни, заняв видное место среди деятелей «третьей волны». В русскоязычных эмигрантских издательствах выходили его новые произведения — как написанные еще в СССР, такие, как романы «Карантин» и «Прощание из ниоткуда» /Книга первая/, так и созданные уже на Западе — романы «Ковчег для незваных», «Заглянуть в бездну», повесть «Как в саду при долине» и многочисленные пьесы. В. Максимов стал создателем и редактором ежеквартального журнала «Континент», одного из ведущих литературных и общественно-политических изданий «третьей волны» .
Оказавшись вне привычной культурной и жизненной среды, писатель не прервал своих связей с русской жизнью — его творческая и человеческая судьба складывалась и складывается в постоянном соприкосновении с самыми жгучими проблемами родины.
В кругах третьей эмиграции В. Максимов прослыл консерватором и даже «реакционером». Причиной было то, что его взгляды на судьбу России, на природу коммунизма и причины его распространения были решительно противоположны тем, что бытуют в либеральной среде.
В своих многочисленных публицистических произведениях, в художетственном творчесве писатель занят утверждением христианских идеалов как единственной действенной альтернативы наступлению разрушительных сил. Его позиция отличается цельностью и принципиальным неприятием антирусских настроений, характерных для значительной и довольно влиятельной части третьей эмиграции.
Роль, которую В. Максимов играл в общественной жизни «третьей волны», часто бывала ключевой, что связано с его деятельностью в качестве редактора «Континента» и авторитетом в западных интеллектуальных кругах. Это позволяет говорить об особом положении писателя в среде третьей эмиграции. При том, что на страницах «Континента» бывали представлены взгляды большого числа политических и эстетических течений как восточноевропейского, так и западного происхождения, кроме наиболее радикальных, для самого редактора журнала была характерна антилиберальная, в конечном счете, позиция. Проблематика и тематика публицистических и литературных публикаций «Континента» целиком была посвящена Восточно! Европе, в особенности СССР. В. Максимов, утверждающий в своем творчестве ценности и идеи, характерные прежде всего для русской истории, неизменно обращается все эти годы к российскому материалу.
В отечественном, как и в западном литературоведении, можно считать уже утвердившимся взгляд на литературы руссшй метрополии и эмиграции как на" две ветви единого потока", временно разделенные историческими обстоятельствами, но соединенные куда более существенным и прочным родством.
Впервые, по-видимому, эта мысль прозвучала у Г. П. Струве, который в своем фундаментальном исследовании «Русская литература в изгнании» /94/ приходит к выводу:" Зарубежная русская литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который — придет время — вольется в общее русло этой литературы" .
В выступлениях участников дискуссии, проведенной недавно журналом «Москва» /74/, в работах таких исследователей, как Н. Аж-гихина, А. Кустарев, А. Соколов/3−31−93/ также преобладают суждения о единстве русской литературы XX века.
Мнение о том, что творчество писателей-эмигрантов существует в общенациональном контексте, высказывает и современный западногерманский филолог-русист Вольфганг Казак. В предисловии к своему" Энциклопедическому словарю русской литературы с 1917 года" он пишет:" Словарь подтверждает наличие единства современной русской литературе, которое существует, несмотря на раскол ее на две части: советскую, признанную цензурой в СССР, и несоветскую часть русской литературы" /26,5/. Эти оценки, сделанные исследователями применительно к состоянию литературы в предыдущие десятилетия, подтвердились в настоящее время.
С точки зрения современного исследователя А. Г. Соколова, «эмигрантская литература предстает как явление общероссийского литературного процесса. Но это не исключает и дифференциации его, и дифференциации его частей. Причем дифференциация происходила в пределах не только зарубежной, но и советской литературы». Рассуждая об общих принципах оценки творчества того или иного писателя-эмигранта, А. Г. Соколов замечает:" На первый план в ней выходит то общее, что роднило всех русских художников, и советских и зарубежных: мысль о судьбах России. В этом их глубинная общность и единство. Разнился лишь ракурс осмысления истории, будущего родины. В своем понимании событий революции, исторических путей России обе стороны могли впадать в мировоззренческие крайности././ Россия и революция, Россия и ее будущее — вот основные проблемы творчества всех русских писателей, живущих и в России, и в эмиграции. Революция принималась или не принималась, но Россия была для всех единственной нерушимой цен-ностью" /93,13−14,17/. Представляется, что это мнение, вполне, справедливое по отношению к писателям «первой волны», едва ли верно применительно ко всем и даже к большинству современных писателей-эмигрантов. Произведения авторов «третьей волны» явно не предоставляют оснований думать, что судьба России находится в центре их творчества, В. Максимов в этом отношении относится, скорее, к исключениям. В эмиграции его художественный: мир не претерпел значительных изменений. Писатель однажды высказался на тему «эмиграция и творчество» таким образом:" Эмиграция не способствует духовной работе, разрушительно действует на художника. Пусть на меня не обижаются, но почти все, что создано в эмиграции, во всяком случае, писателям!, ниже того, что было написано здесь. Я тоже не исключение. Развитие литературы, любого вида искусства, философской мысли в условиях эмиграции невозможно. Это все естественно: человек живет в чужой среде, в чужой языковой стихии, что влияет на ход его мыслей, манеру поведения. В этих условиях можно лишь стараться сохранить тот духовный, творческий потенциал, который был в тебя заложен на родине" /48,39/.
Творчество В. Максимова периода эмиграции складывается под влиянием как традиций русской зарубежной литературы, так и советского литературного и жизненного опыта. Сочетанием, синтезом этих влияний, происходящих из разных источников, но приобретающих единство в личности писателя, обусловлены своеобразие и значимость его творчества.
В.Максимову свойственна широта жанрового диапазона: из-под его пера выходят стихи и пьесы, рассказы и повести, публицистические эссе и романы. Жанровое многообразие сочетается с четкостью художественной позиции: в центре произведений — важные проблемы национальной жизни, изображенные в реалистическом ключе. С течением лет менялись ракурс и идейные мотивы, в чем проявлялась связь с процессами, характерными для литературы в 60−80-е годы.
В судьбе и художественном мире писателя пересеклись тенденции и веяния, охватывающие широкий круг имен и характерные для целого движения. В. Максимов, воспитанный коммунистической системой, впитавший продиктованные ею представления и состоявшийся как человек и литератор в ее рамках, в дальнейшем «выломился» кз литературной и общественной среды и нашел себя в христианстве. Он испытал религиозное обращение, как бы приподнявшее его над собственным опытом и предопределившее переход на христианские позиции в творчестве. Писатель своей литературной и человеческой судьбой обозначил великий разлом эпохи. Он, однажды назвавший себя и себе подобных «детьми революции», был побужден к бунту чувством моральной ответственности за ее последствия.
В центре рассмотрения диссертации — проблема своеобразия творческого пути писателя, в котором раскрылись важные закономерности русской истории XX века. В. Максимов, откликаясь своими произведениями на духовные процессы современности, как художник старался опереться на традиции русской литературы XIX века. Советский опыт раскрылся для него в соприкосновении с отечественной гуманистической традицией. Важной вехой оказался Ф. М. Достоевский. В. Максимов писал:" Можно без преувеличения сказать, что Достоевский сформировал психологию и мировоззрение, в частности, моего поколения. Через него и с его помощью каждый из нас, его поклонников и последователей, вдруг открыл для себя в плоскостном, трехмерном, сугубо социальном и пропагандно упрощенном мире совсем иное — четвертое измерение, в котором наше «я» обрело новые ценности и другие точки нравственного отсчета. № как бы приподнялись над собственным бытием, с предельной ясностью убеждаясь, что вопреки, казалось бы «железной» логике литературы критического реализма, мало изменить социальные обстоятельства в обществе, чтобы изменить человека к лучшему././ Ш поняли, что человек должен прежде всего менять себя и окружающий его нравственный климат в обществе и любые социальные реформы могут быть только следствием такого внутреннего преображения" /Континент, № 27, 1981.-С.354−355.
Писатель формулирует здесь нравственную программу, противопоставляя свое кредо идеалам социального прогресса. Путь к гармонии лежит через прогресс нравственный, утверждает он.
Соприкоснувшись со многими важными сторонами исторического и литературного процессов, В. Максимов отразил их в творчестве как факты своей писательской и человеческой биографии, они раскрылись в логике художественного поиска.
Писателю свойственны размышления по поводу своей судьбы как отражения чего-то знаменательного в судьбе всей страны. Обосновывая причины, побудившие его взяться за перо, он написал однажды: «.Я, сам по профессии рабочий-каменщик, по сложившейся судьбе и положению ставший интеллигентом, являю собой как бы квинтэссенцию, в значительной мере социальную и духовную субстанцию общества, из которого я выломился. Все это вместе взятое уже в ранней юности породило такое испепелявшее меня изнутри желание рассказать обовсем, что я видел и пережил, что если бы я не сумел этого сделать, то наверное, сошел бы с ума» /33,т.9,150/. Писатель был ко времени профессионального вступления в литературу насыщен тяжелейшим личным опытом бродяжьих скитаний по стране, пребывания в детдомах, тюрьмах, психиатрических больницах. Это жизненное знание излито в ранних повестях — таких, как «Жив человек», «Мы обживаем землю». Им присуща та весомая реалистичность, вещественность изображения, которые возникают, когда автор идет к тексту не от некоей абстрактной идеи, а от жизни, от" зешш" поднимается к высотам духа.
Религиозное обращение повлекло за собой наполнение творчества новым содержанием. В. Максимов стал стремиться вернуться к истокам, к закрепленному исторической традицией духовному облику и мироощущению русского человека. Такие мотивы проявились в «Семи днях творения» и последующих романах. Идея своеобразного «возвращения к себе» лежала в основе творческих намерений, осуществившихсяв создании «христианской автобиографии» романа «Прощание из ниоткуда». Она же присутствует в публицистике и близкой к ней проблемно-тематически драматургии.
Структура диссертации определяется логикой материала, а ее открытая концепция обусловлена открытостью судьбы и творчества писателя — они еще не сложились окончательно, находятся в движении, в развитии. На это же указывает и проявляющееся у В. Максимова варьирование идейных и художественных мотивов, автобиографическая подоплека большинства произведений.
Важное место в диссертации занимает рассмотрение взаимодействия и взаимосвязи мировоззрения и творчества. Эта проблема является ключевой в изучении художественного мира В.Максимова. Крутые мировоззренческие перемены как эхо отзываются в его произведениях, приводя и к обретениям, и к утратам.
В структуре работы центральное место занимает анализ романа «Семь дней творения». Именно он стал воплощением мировоззренческого поворота, который В. Максимову как художнику дал новое видение мира, дал ключи к решению важных проблем. Роман увидел свет на Западе, но был написан в Советском Союзе. В. Максимов как писатель со своим языком, идеями, крутом тем и песонажей сформировался на родине, именно советский опыт определил его творческую индивидуальность.
Первые отклики критиков на произведения В. Максимова появились еще в 60-е годы. Первоначально они носили в основном рецензион-ный характер. Таковы были статьи и заметки Е. Осетрова, Ф. Левина, А.Берзер. К концу 60-х уже с более основательными работами выступают Л. Аннинский, А. Пайщиков, В. Петелин, ряд других авторов. После эмиграции освоение творчества писателя на родине прервалось, а в западной и эмигрантской критике оно проходило в значительной мере под знаком идеологического и политического противостояния систем. Характерный пример в этом отношении представляет книга Ю. Мальцева" Вольная русская литература 1955;1976 годов" /72/. Обычным было и тенденциозное рассмотрение тех или иных отдельных произведений В. Максимова в рамках какой-то ограниченной концепции. Этим отличаются работы Н. Антонова/псевдоним//6−7/. Показателен для этого направления и подход, продемонстрированный В. Иверни/20/. Вот в чем его суть. В «Семи днях творения'1 и других романах В. Максимова присутствует мотив сна, наваждения, бреда, в которых герою открывается нечто важное. Частое использование этого мотива позволило В. Иверни построить на нем концепцию творчества В. Максимова как живописания „сна“ ,» наваждения" ," бреда": «.Герои Максимова живут по-настоящему, то есть наиболее полно и достойно этого слова, только находясь в состоянии полусна, полузабытья, полумедитации. Их действия в реальности, их участие в сиюминутно совершающихся событиях есть всего лишь знаки, отзвуки той стороны бытия каждого из них, которая течет в потемках сознания, на оборотной стороне памяти, в самых бессветных ее углах» /20,37/ Исследовательница явно преувеличивает значение частного приема, возводя его до уровня общей закономерности творче? ва.
Более сбалансированным подходом отличаются работы Л. Ржевско-го/88−89/, Ж.-П.Мореля/79/- с достаточной академической обстоятельностью освещено творчество В. Максимова в исследованиях Д. Брауна, Э. Брауна/108−109/.
Вышедший в 1986 году сборник «В литературном зеркале. С творчестве Владимира Максимова» /13/ собрал под своей обложкой выдержки из критических статей, написанных советскими авторами в 60-е годы, а также отрывки из работ западных и эмигрантских критиков.
В целом можно констатировать, что художественный мир писателяне подвергался до сих пор достаточно полному и всестороннему изучению. В поле зрения литературоведов и критиков не попали многие важные аспекты творчества В.Максимова. Мир его произведений не был раскрыт как целостное явление, не прослежен путь становления и эволюции писателя в единстве мировоззрения и творчества. Данная диссертация является одним из первых целостных литературоведческих исследований прозы В.Максимова.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ обусловлена самой его темой: творчество нашего современника, писателя Владимира Емельяновича Максимова не находило до сравнительно недавнего времени пути на родину, а его публикации доэмигрантского периода были под запретом. Соединение «двух потоков» русской литературы предопределило необходимость выявить место и значение писателя в литературной и духовной жизни 60−80-х годов.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования определяется тем, что диссертация представляет собой одно из первых специальных исследований, посвященных творчеству В.Максимова.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Цель исследования заключается в том, чтобы на основании материала произведений и судьбы писателя провести целостный литературоведческий анализ его творчества и мировоззрения в контексте литературного и духовного процессов, протекавших в метрополии и эмиграции.
Этой цели соответствуют конкретные задачи исследования: -Исследовать творчество писателя в его целостности и полноте, в соотнесенности с творческим поиском писателей-современников, с опытом советской и с традициями эмигрантской литературы.-На основании анализа повестей и романов В. Максимова выявить основные мотивы, проблематику и художественное своеобразиеего произведений.-Исследовать основные этапы писательского пути, сосредоточившись на поворотных моментах, раскрывающих содержание и смысл художественных исканий, черты творческой индивидуальности.-Выявить связь прозаичесикх произведений В. Максимова с его драматургией и публицистикой.?ШОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ диссертации являются исследования современных литературоведов, выработанные ими концепции и подходы. Автор опирался на работы таких отечественных и зарубежных литературоведов и критиков, как М. М. Бахтин, Е. М. Мелетинский, В. Казак, В. Бондаренко, А. Б. Грибанов, А. Г. Соколов, Л. Д. Ржевский, Д. Браун, Э. Браун и др.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ определяется сочетанием проблемно-аналитического подхода с использованием сравнительно-исторического и типологического методов.
НАУЧНО-ПрдайЧЕСКСЕ значение диссертации заключается в том, что ее положения и выводы могут быть использованы как основа для дальнейшего изучения творчества В. Максимова, при разработке вузовских курсов современной русской литературы, при чтениии спецкурсов по отдельным проблемам современной литературы.
СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Работа состоит из двух глав, введения, заключения и библиографии.
ВВЕДЕНИЕ
содержит общую характеристику работы, определение предмета, обоснование целей и методов исследования. Рассматривается место писателя в литературном и общественном контексте, выявляются характерные особенности его творческой и общественной позиции.
ПЕРВАЯ ГЛАВА состоит из трех параграфов. Первый параграф посвящен рассмотрению повестей, написанных В. Максимовым в 60-е годы.
Второй содержит общую характеристику романа «Семь дней творения», а ташке обоснование конкретных путей анализа этого произведения. Третий параграф посвящен непосредственно анализу текста романа.
ВТОРАЯ ГЛАВА также состоит из трех параграфов, в ней рассматривается творчесво писателя после «Семи дней творения». Первый параграф содержит анализ романов «Карантин» и «Прощание из ниоткуда», во втором рассматриваются романы «Ковчег для незваных» и «Заглянуть в бездну». Третий параграф посвящен публицистике и драматургии В. Максимова, а также его общественно-литератунои деятельности.
ЗАКЖЗЧЕНИЕ содержит выводы, касающиеся оценки роли и места творчесва писателя в современной русской прозе, идейно-художественного своеобразия его произведений.
ГМВА 1 В. МАКСИМОВ И ЕГО РОМАН «СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ» ПАРАГРАФ 1НАЧАЛО ТВОРЧЕСЮГО ПУТИЛитературный дебют В. Максимова состоялся в 1956 году, когда в Черкесске тиражом 5000 экземпляров вышла книжка его стихов «Поколение на часах». Будущий писатель осел тогда на несколько лет в Черкесске, сотрудничая в местных газетах и занимаясь переводами национальных поэтов. Эти переводы, вкупе с собственными стихами молодого автора и вошли в его первую книгу. Вот как В. Максимов вспоминает о ней в автобиографическом «Прощании из ниоткуда»: «О, эта первая книга, любовь и проклятие всех начинающих! При всей обычной ее немощности она вбирает в себя столько душевных сил, страданий и сердечного горения, что в зрелом возрасте всего этого с лихвою достало бы на целое собрание сочинений с приложениями. Нет таких унижений /во всяком случае, любому автору впоследствии так кажется/, такого горя /об этом говорить не приходится /, такой жестокости /а это уж само собой/, каких не вынес бы автор ради того, чтобы подержать в руках пахнущий типографией экземпляр собственного сочинения и впервые начертать на нем: свой первый автограф» /33,т.5, 64−65/. Появление «Поколения на часах» не стало, конечно, событием, хотя и открывало автору путь в литературу, позволяя более уверенно идти к читателю. Впоследствии В. Максимов весьма скептически оценил свой первый литературный опыт, назвав уровень этой поэзии «неандертальским». «Это было. привыкание к литературной жизни через поэзию довольно конформистскую» , — сказал он в одном интервью/43,30/. Стихи впитали горячку и рутину журналистских будней районного газетчика. Отклики «на злобу дня» соседствуют в них с углубленным размышлением, «гражданская тема» — с лирикой. Художественный уровень был, конечно, невысок. Но стоит отметить, что сквозь штампы и расхожую назидательность в духе массовой поэзии 50-х годов пробивались биографические мотивы. «Есть в Москве окраинаСокольники, улица есть Митьковская в них.1.' - автор оглядывается назад, в свое прошлое, где остались недоговоренности, неразрешенные нравственные проблемы. Стихотворение „Рубаха“ посвящено тетке В. Максимова — Марии Самсоновой. Открывается оно строками:» Вернулся блудный сын домой,//Пропавший сын родной". А в" Поэме о моей матери" выражена уверенность:" Время и слова мои, и душу,//И дела, и помыслы сличит". Есть в сборнике стихи, адресованные сестре Кате, а сама книга посвящена деду В. Максимова по матери, Савелию Михееву. Именно он стал потом прототипом старого большевика Петра Дашковагероя «Семи дней творения». Строчки стихов приоткрывали нечто в жизненном опыте их автора.
Первое самоопределение состоялось, 26-летний В. Максимов вошел в литературу. Но полновесной заявкой на бытие в ней стала повесть «Мы обживаем землю», опубликованная в 1961 году в альманахе «Тарус-ские страницы». Б. Окуджава, в то время один из приятелей В. Максимова, вспоминал:" Как-то получилось так, что прозой мы с Владимиром Максимовым занялись одновременно, не сговариваясь. Видимо, что-то носилось в воздухе. Это был шестидесятый год. Я написал военную повесть о себе самом, он — повесть «Мы обживаем землю», тоже на автобиографичесокм материале. Хотелось высказаться. Затем наши вещи очутились рядом в сборнике «Тарусские страницу» ." /84,70/.
Среди авторов альманаха были К. Паустовский /главы из второй книги «Золотой розы» /, В. Корнилов /" Шофер." Повесть в стихах/, Б. Окуджава /" Будь здоров, школяр" /, Ю. Казаков /" Запах хлеба", «В город», «Ни стуку, ни грюку» /, Б. Балтер /" Трое из одного города" /, Ю. Трифонов /" Однажды душной ночью" /.
В задачи данной работы не входит подробная характеристика альманаха, равно как и исследование литературного процесса 60-х гг. Стоит отметить, однако, что это было время вхождения в литературу новой творческой генерации, заявившей о себе главным образом на страницах журнала «Юность». На рубеже 50−60-х годов одна за другой появляются повести А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского» /1956/, А. Кузнецова «Продолжение легенды» /1957/, В. Аксенова «Кол-леги» /1960/, «Звездный билет» /1961/, Б. Балтера «До свидания, мальчики! «/1963/, в которых, как отмечает современный исследователь Д. Харитонов, «были разрушены стереотипы в изображении молодого поколения и одновременно очерчены новые нравственно-мировоззренческие ориентиры молодого современника» /99,3'/.
На этой волне вошел в литературу и В. Максимов, Но следует отметить, что, будучи связанным с литераторами «молодежной прозы» тесными дружескими отношениями, он никогда не шел в творческом фарватере, избранном для себя В. Аксеновым, А. Гладилиным, Е. Балтером, Б.Окуджавой. И давалось это нелегко. Впоследствии опыт первого литературного самоопределения отложился иронической характеристикой в «Прощании из ниоткуда» :" Но, видно, в обманчивой легкости, с какой выстраивались у него строчки, таился коварный подвох, если всякий раз, когда он отдавал их на суд вновь обретенному другу /речь идет о Б. Окуджаве — А.Д./, тот, небрежно листая рукопись, морщился:-Ну сам посуди, Влад, кому это нужно? — Желтые, с темным отливом глаза его светились досадой. — Опять какие-то Богом забытыетипы, ни то ни се, сполшой горъковский маскарад, не более того, только на церковный лад, брось ты эту свою ахинею, возьмись за настоящую тему, смотри, вон Г. в новой вещи какой пласт поднялмолодежь после двадцатого съезда, или возьми нашего с тобой приятеля Борю Б., о 'предвоенных мальчиках, завтрашних фронтовиках, замечательную вещь выдал, Паустовский, говорят, плакал, а это на, бери, спрячь, и больше никому не показывай.
Влац выходил от друга, и небо над ним выглядело с овчинку, и солнце казалось черным. «Что же тогда делать г, не, если они естьэти люди? — изводился он горьким недоумением. — Я с ниш жил, ел, пил, спал, работал, их миллионы, им нет никакого дела до двадцатого съезда или духовного кризиса интеллигентных мальчиков, у них просто нет времени, чтобы об этом думать, они заняты одной-един-ственнрй заботой от колыбели до гробовой доски: как прожить, просуществовать, прокормиться, неужели их судьба не представляет никакого интереса и не стоит слез Паустовского?» Нет, с этим Влад смириться не мог, не хотел! Смириться с этим означало для него предать тех, кто остался у него за спиной, продолжая отчаянно выживать в том мире, где день начинался с мыслью о куске хлеба, а ночь — с надежды на милость Всевышнего.
И Влад писал, писал, и писал. И только о них" /33,т.5,104/.
Раздумья о самоопределении, о пути в литературе выливались и в непосредственно публицистические оценки:" В литературной среде своего поколения я с самого начала оказался изгоем, пасынком. Меня мало волновали вопросы, занимавшие в те времена моих товарищей по перу: извращения в сельском хозяйстве, драма доморощенных битников, культ личности. Отсюда — полное непонимание в окружающих, а зачастую /особенно в отношении к моему религиозноиу поиску/ - и откровенная насмешка, tee хотелось сразу же «во всем дойти до самой сути», нащупать истоки процесса, раздирающего общество, выявить для себя историческую концепцию. '.'/61,125/. В. Максимов со всей определенностью обозначает собственный путь в литературе: к воплощению жизненного и духовного опыта, открытий, ставших результатом напряженной работы ума и «горчайшего личного опыта». В темах и конфликтах первых произведений, в типе героя, остроте нравственных оценок и драматизме действия проявился этот опыт. Он даже, можно сказать, потребовал своего воплощения.
На специфику авторского мироввдения обращали внимание западные исследователи творчества В. Максимова, но они рассматривали его произведения преимущественно в социальном контексте. Так, Д. Браун в своей книге «Русская советская литература после Сталина» отмечал:" Произведениям писателя присуще постоянство в том смысле, что они неизменно включают в себя моральную реабилитацию антисоциальных героев или изображают возвышающее воздействие сильной индивидуальности на коллектив. Интерес Максимова к психологии отверженных, к социальному негативу и бесчеловечности часто приводит его к пессимистическому взгляду на проблему добра и зла. Своих героев писатель изображает не просто как социальную категорию, а как индивидуумов в определенном моральном контексте, занятых своей одинокой борьбой за свободу с обществом, которое они находят угнетающим. И преступление у них — не плод черствого цинизма, а скорее результат того отчаяния, которое вызвано разрывом с обществом. Вина., угрызения совести, осознание неизбежности искупления — все это очень значимо для них" /108,212/. Д. Браун, таким образом, видит самобытность и значительность творчества В. Максимова в его особом взгляде на социальное «дно». «Самое интересное в этих историях — исследование психологии отверженных, выкинутыхиз общества людей и описание окружающих их обстоятельств. Максимов не испытывает сентиментальности к своим героям-преступникам, не пытается смягчить их вину. Но он показывает, что именно вина общества перед личностью — главный источник всех несчастий» /108,212/. Мысль исследователя здесь явно остается в рамках, продиктованных социологическим каноном, а В. Максимов предстает певцом бродяжьей романтики, живописателем цветистой экзотики «дна». Такой подход, конечно же, сужает представление о писателе, в творчестве которого присутствуют многие мотивы, имеющие саше широкие связи с разными сторонами действительности.
Прошлое бродяги и беспризорника стало для В. Максимова не экзотическим материалом, а полем для раздумий, для постановки насущных жизненных проблем. Присутствует в них, этих раздумьях, и образтПроходящего сквозь жизнь, навеянный, верояно, М.Горьким. В. Максимов признавал за М. Горьким наставническую роль:" .Горький всейтсистемой своего творчесва проник меня своим главным, основополагающим качеством — умением распознавать в самых, казалось бы, окончательно падших душах ростки добрых начал и прозрений. И моя благодарность к Учителю, совершенно, правда, неосознанно, сказалась в том, что эпиграфом к своей первой совсем еще юношеской повести я поставил вопрос из его переписки:" Знаю ли я людей?" «/70/.
Узел проблем стягивался вокруг центральной теш повестейсамоопределения человека в мире, исполненном трагических противоречий. В литературном произведении, где господствует «личность писателя как единственная творящая сила, занятая самосознанием, но исключительно в пределах творчеСва» /12,534/, немалое значение имеет выбор писателем мотивов, составляющих образ главного героя. «В образной системе произведения, — отмечает А. И. Хватов, — особая роль принадлежит герою, человеческие свойства которого являютсяодним из решающих условий творческого осуществления замысла. Его характер, а точнее — личность как бы должны удостоверить подлинность тех идей, которые автор утверждает в своем произведении. Дело не только в том, что в каждом персонаже есть частица его сердца, и в парадоксе Флобера:» Эмма Бовари — это я" - содержится смысл, открывающий тайну художественности. Выбор героя и его подлинность, реализованные художественно, являются одним из важных показателей творческой позиции писателя. Выбор лица, которому писатель предназначает роль «своего героя», мотивирован бывает прежде всего тем, могут ли стать его судьба и духовный мир тем инструментом, с помощью которого возможно осуществить замысел произведения. Человеческие свойства героя, взаимодействие сюжета повествования с его судьбой создают художественную ситуацию суждения о тех проблемах, которые вошли в сознание писателя как неотложные проблемы времени и побудили взяться за перо" /100,295−296/.
В повести «Жив человек» Сергей Царев совершает нравственный выбор и платит за него самой высокой из возможных цен — жизнью. В «Мы обживаем землю» Виктор Суханов переживает стремительное взросление, когда в трагических обстоятельствах ему открываются глубины человеческой натуры. Жизнью за прозрение платит Иван Васильевич Грибанов из повести «Дорога» ,. За свои преступления держит ответ перед родными Михей Коноплев /" Стань за черту" /. Просветление после тяжелых невзгод испытывает Савва /" Баллада о Савве" /.
Жизненное прозрение, сопряженное с трагической ценой за неговот лейтмотив повестей В. Максимова 60-х годов. В откликах критики тех лет отмечались жесткость, бескомпромиссность нравственного суда, под действие которого попадают герои писателя. Вот мнение А. Нинова: «В этих повестях настойчиво повторяется один мотив. В центре егоистория нравственного перелома, совершающегося в сознании герояпод влиянием уроков ижзни. В произведениях В. Максимова правдиво и разносторонне зафиксирован кризис ущербного мировоззрения, медленный, но закономерный процесс исцеления человеческой души от привитого ей зла» /81,262/. А Л. Аннинский отмечал:" Человек у Максимова осуществляет себя в условиях беспощадно действующего нравственного закона, при котором и воздаяние, и возмездие непреложны «/4,267/.
В фокусе авторского внимания — судьба человека, ценой невосполнимых жизненных потерь приобретающего трагическое знание, которое поднимает его на новый, максималистски выверенный нравственный уровень и заставляет самого сделать шаг к наказанию: стреляется Михей Ко ноплев, не вынеся мук запоздалого раскаяния и суда детейраскрывается окружающим, обрекая себя на вероятную смерть, беглый заключенный Сергей Царев." История нравственного перелома, совершающегося в сознании героя под влиянием уроков жизни" - история тяжбы эмпирического, живого и омертвляющей внутренней установки. Рождался этический конфликт, выливавшийся в душевную ломку. Под напором обстоятельств в герое проявлялся новый человек.
В свое!": художественном исследовании действительности В. Максимов обращался к истокам формирования негативного отношения героя к обществу. Эти истоки виделись ему в трагических изломах отечественной истории. Так, Сергей Царе^ - отщепенец с детства, выброшенный арестом отца за борт жизни. В нем, как и в других героях, писателя интересуют прежде всего «ростки добрых начал и прозрений», пробивающиеся сквозь плевелы времени. Остра^борьба за душу человека, когда жизненная патология в силу тяжелых об— с'.оят ель с тв времени приобретает власть над ней, ко в муке, в том— лении герою открывается в виде неясной догадки, озарения, возмежность стать другим.
Повесть «Жив человек» — первая по времени написания. С-публикована она была второй, уже после прозаического дебюта в «Таруссквх страницах», но В. Максимов именно ее оценил как некую веху своего творческого и человеческого пути:" .С повести «Жив человек» качался какой-то перелом, началось осмысление своего положения в обществе, своей позиции, процессов, которые происходили в стране, истории. Я начал понимать мир ьокруг себя" /45,30/.
Б повести «Дорога» в центре внимания — судьба Ивана Васильевича Грибанова, начальника строительства Северной железной дороги. Действие начинается с того, что Грибанов узнает: строительство замораживается на неопределенное время, дорога никому не нужна. Этот поворот вдрут враз поставил под сомнение всю его жизнь, весь труд за многие годы. Герой не может легко принять крах своего дела — это. противоречило бы всей логике его судьбы. Грибановв тисках. Государственная необходимость, которой он всю жизнь подчинялся, требует отказаться от себя самого:" И он понял, что не может смириться. Смириться означало — зачеркнуть себя, свою жизнь, все, чему оставался предан и без чего просто не имело смысла жить" /33,т.1,168/. В. Максимов применил в «Дороге» композиционный прием, получивший затем развитие в романе «Семь дней творения»: герой, человек, умудренный жизненным опытом, на склоне лет в результате некоего неожиданного поворота получает возможность заново пересмотреть свою жизнь. Он отправляется в путешествие, во время которого в разговорах и встречах с людьми привычное и знакомое предстает с неожиданной стороны, оборачивается откровением. За общим герой вдруг получает возможность увидеть частное, неповторимое. Перекличка с образом Петра Васильевича Лашкова, героя «Семи дней творения», еще и в том, что тот, как и Грибанов, пере-Обстраивает свой взгляд на мир, начинает видеть его глубже." Впервые, пожалуй, за много лет жизнь, прогоняемая сквозь него все последнее время убыстренной кинолентой, когда он почти не успевал запоминать лиц, мест, событий, замедлилась, позволяя ему рассмотреть, кадр за кадром, мельчайшие свои подробности. И каждая из этих подробностей оказывалась для Ивана Васильевича откровением, открытием" /33,т.1,128/. А вот как изменяется взгляд Петра Васильевича Дашкова: «В течение многих лет Петр Васильевич по камушку, медленно и упорно выстраивал для себя свой мир. И вдруг — на тебе! — два-три крохотных события, две-три случайные встречи, и мир, взлелеянный с такай любовью, с таким тщанием, начинал терять свою устойчивость, трещать по швам, разваливаться на глазах. Сказывается, пока палка его, исполненная собственного достоинства и веса, с утра до вечера выстукивала одни и те же улицы, за стенами домов шла, творилась неведомая ему жизнь, которая не хотела и не могла укладываться в чьи-то схемы и построения» /33,т.2,31/. Сбоим героям за людскими массами, за заботами обо всех вдруг открывается уникальность единичной человеческой судьбы. Грибанову частное и общее в жизни предстают не только в неслиян-ности, но и в отторгнутости друг от друга:" Выходило, что у людей, которых он привык считать десятками и сотнями, и заботиться о них как о десятках и сотнях, есть свои личные, единственные заботы, куда более важные для них, чем дело, которым он жил и заставлял жить других. Между ними возникали конфликты, о которых он не подозревал, они несли в себе радости и беды, к каким он не имел каса-тельства" /33,т.1Д28/. У героя рождается сперва неясное сомнение, тревога, а затем, по мере «вчувствования» в эту несопряженностьи драматическое напряжение души. Сомнению подверглась цель жизни ^ Грибанова — строительство дороги, оправдывавшая, как ему преждедумалось, все нестыковки и невнимание к конкретным людям. Даже скорее не оправдывавшая, а заслонявшая, перекрывавшая своим масштабом и величием вложенного труда. Сама дорога, ведущая к морю, сливается с дорогой жизни героя. Крах одной предопределяет крах другой.
Трагический парадокс в том, что дорога, ставшая делом жизни Грибанова, никуда не ведет. Техническая сторона дела сама по себе могла бы стать поводом для сожалений, поводом для раздумий об ошибках хозяйствования, не более. Важно друтое. Строительство, как становится явственно видно герою, было делом, не обеспеченным нравственно. В этом его действительный крах. Это одновременно и крах Грибанова как руководителя, носителя идеологии государственной необходимости. Когда схлынула производственная суета, обнажились сущностные очертания его судьбы, он ощутил себя моральным банкротом. Ведь/ если возможно то, что произошло — дорога никому не нужна, дорога никуда не ведет, то обесценен весь его труд, не имеют смысла все жизненные усилия. Преобразование жизни, понятое только как объективная необходимость, говорит В. Максимов, корежит и мнет индивидуальные человеческие судьбы. «План неполон», не сопряжен с единичным, частным, неповторимо-человеческим.
В повести «Стань за черту» запечатлено противостояние бессмысленной, деградирующей, потерявшей свои ориентиры земной жизни и вечного:" .Медленно и бесшумно шла, гудела вещая разрушительная работа моря: рвались. связи и поры, страшная неведомая сила корежила самую основу земли и все, что было сущего на ней. И над всем этим, как проклятье слышалось истошное. Прохорове": «Ползем! Ползе-е-ем, кума, к чертям на закуску!» Но здесь, как бы навстречу этому кричащему страху, выплыла и заполнила собою пространство праздничная мелодия колоколов: в единственной слободскойцеркви благовестили к заутрене. Перед торжествующей мощью вековой • меди никли печали и беды слабого людского сердца" /33,т.1,с.252/. «Торжествующая мощь вековой меди» не проникает в жизненные ямы спасительным началом, не разрешает человеческие беды и несчастья, но заглушает их. Перспектива спасения плененного собственной слабостью человека намечена без его, этого человека, участия. Герои повестей «ш обживаем землю» и «Жив человек» Сергей Царев и Виктор Суханов, пройдя через трагические испытания, находят себя в гуманистическом единении с людьми. Но теперь писатель занят поисками нового положительного начала.
В «Стань за черту» религиозные мотивы вошли в повествование как антитеза, как авторское «нет» бесчеловечному миру. В дальнейшем писатель начинает вглядываться в них более пристально. Вникая в собственный жизненный опыт, В. Максимов находит в нем некие созвучия своему религиозному поиску.
В ?10 журнала «Октябрь» за 1967 год был анонсирован роман В. Максимова под названием «И ночь и утро», в котором, как явствовало из редакционного сообщения, «автор утверждает идею единения человека с обществом, с другими людьми в борьбе за преобразование мира». Произведения с таким названием на страницах «Октября» так и не появилось, а работа над романом «Семь дней творения» увела автора «на другой берег» .
Художественный опыт повестей присутствует в «Семи днях творения», где писатель обращается к широкому кругу тем и мотивов.
Произведения В. Максимова, как уже отмечалось, находились в 60-е годы в поле зрения литературной критики, которая отмечала их как важное явление современной прозы. Интересно, что делался и прогноз на будущее. Л. Аннинский, например, писал:" Максимовекая проза, затиснутая сейчас в изломы исключительных судеб, в полномсмысле слова чревата эпосом. Это чувствуется в том, как соединяются в цепочку максимовские повести, и герои переходят из одной в другую, и намечается первый слабый контур целого, где соединены концы и жизнь предстает как мироздание, а ряд моральных реакцийкак система морального сознания. Узкая при своей глубине проза Максимова ищет широкого поля, она готова объять весь многопроблемный мир. Она, одним словом, вплотную подошла к той черте, когда осмысление моральных реакций отдельного человека должно перейти в осмысление моральных ценностей, связанных со всей многосложной системой общественных связей человека" /4,270/. В этих суждениях, безусловно, есть немалая проницательность. Но в целом в тогдашней критике многие аспекты творчества В. Максимова не были рассмотрен^ Так, не обращалось внимание на своеобразие решения проблемы «изгой и общество». Герой, ставший жертвой крутых поворотов истории и собственных жизненных ошибок, обретает силу возвыситься над обстоятельствами, восприняв мир в единстве и осознав себя не случайной песчинкой, а необходимой частью этого мира. Воплощение этого процесса во множестве мотивов, в сюжетах судеб различных песонажей и выводило писателя к роману.
В истории семьи Дашковых В. Максимов постарался воплотить свои сокровенные раздумья о причинах и сути происходивших в России в XX веке катаклизмов. Тема преодоления заблуждения, начатая в повестях на локальном уровне как конфликт эгоизма и гуманистической морали, в романе продолжена как противоборство религии и материализма. В «Семи днях творения» смыкание проблематики повестей вылилось в открытие нового героя: человека," верящего в социализм, но воспитанного куда более глубинной христианской системойи/Ю/.
Обращаясь к созданию образа человека, преодолевающего плен материализма, В. Максимов совю собственную творческую и человеческую судьбу вводил в круг сюжетных и идейных мотивов как литературный материал, В своем первом романе он опирался и на историю семьи.
Среди писателей, обращавшихся к сходной проблематике, можно назвать Ю. Трифонова, в чьих произведениях звучат похожие мотивы. Старый коммунист, на склоне лет пересматривающий свое прошлое, представлен в повести «Старик». Но вот что важно: трифоновский герой опустошен, никаких нетронутых глубин, неоткрытых сторон в нем не осталось. На излете жизни, отягощенный усталостью от бесплодно прожитых лет и груза совершенных ошибок, он уныло доживает свои дни. Никакой обнадеживающей перспективы не открывается и автору. Просто подводятся грустные итоги эпохи, столь многообещающей сначала, а затем обернувшейся цепью ошибок и разочарований.
Совсем другой смысл у художественных приобретений В.Максимова. Как отмечала американская исследовательница Ф. Эберштадт," признание ценности личности, соединенное с уверенностью в том, что за все придется держать ответ, уверенностью, по сравнению с которой даже история кажется чем-то незначительным, и составляет основное отличие «Семи дней творения» от трифоновского «Старика», тоже книги о нравственном прозрении старого коше с ара. Если трифоновский герой оказывается щепкой во власти безжалостных волн истории, то роман В. Максимова озарен чувством художественного и религиозного единства, сознанием того, что все происходящие события имеют какой-то высший сшсл" /Ю4,213−214/. Весь пафос романа.В.Максимовав открытии нового в человеке. Проведя своих героев через «семь дней» трагических испытаний и утрат, погрузив в хаос и суету, подведя, кажется, к окончательной гибели, писатель все же не оставляет их на пути к обновлению, которое представляется не только жизненно необходимым, но и возможным. Лашковы утратили много, вавторской трактовке — отвернулись от своей природной сути, но их возвращение к себе — закономерность, которая обоснована их жизненными качествами.
На роман лег отпечаток совершавшегося в то время общественного самоопределения В.Максимова. Писатель занял место среди диссидентов, вставших в непримиримую оппозицию к существовавшей власти. Подчиняясь общественной ситуации, веяниям среды, с которой тесно контактировал, а в немалой степени и опираясь на свой личный опыт, который, конечно, мало располагал к умиротворенности, В. Максимов акцентировал те зримые признаки разрушения, которые принесло увлечение Дашковых революцией. Лашковы, став движущей силой революции, многое потеряли. Но только ли потеряли? Отзвуки этого вопроса в романе есть, но он не стал в центр произведения. Размышления писателя направлены на другое: где корни, истоки большевизма, кто виноват в разочаровывающих результатах исторического эксперимента? В поисках ключа к этим вопросам В. Максимов обращается к христианству.
ПАРАГРАФ 2″ СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ" В КОНТЕКСТЕ СУДЬБЫ И ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЯРоман «Семь дней творения» вышел в 1971 году в издательстве «Посев» во Франкфурт е-на^Майне. Появление произведения, не получившего положительной оценки в советском издательстве, а точнее, отвергнутого из-за заведомой «непроходимости» по политическим мотивам, вкупе с развернутой писателем в это время общественной деятельностью /интервью иностранным, корреспондентам с резкой критикой властей, подписи под коллективными заявлениями диссидентов/ послужили основанием для исключения В. Максимова из Союза писателейВ интервью журналу «Юность», данном в октябре 1989 года, он вспоминал:" Сначала все было мирно. Я сдал рукопись романа «Семь дней творения» в издательство «Советский писатель» /у меня с ними был заключен договор/. /./ Потом, в частных разговорах, рецензенты из издательства говорили, что им очень понравилось, но печатать сейчас нельзя, это непроходимо. Вот и все. А конфликт возник, когда рукопись попала «самиздатом» на Запад /причем, я ее не передавал/, издательство «Посев» довольно быстро ее опубликовало" /87,81/.
Результатом «конфликта» стало последовавшее в 1973 году исключение кз Союза писателей, закрывавшее дорогу в издательства и редакции. Разрыв с советской литературой был зафиксирован в строках официального документа:" 17 сентября 1973 г. Слушали: Решение Московской писательской организации: об исключении из членов Союза писателей СССР тов. Максимова В. Е. /Сообщение В. Ильина/. Постановили: утвердить постановление секретариата правления Московской писательской организации: за политические взгляды Максимова В. Е. и его творчество, несовместимые с Уставом Союза писателей СССР и званием советского писателя, исключить Максимова В. Е. из членов СП СССР" /Цит.по:87,81/.
Исключение только прибавило известности, интервью и публицистические выступления писателя все чаще появлялись на страницах западной и эмигрантской прессы. Непосредственное касательство он имел и к событиям, развернувшимся вокруг высылки из Советского Союза А.Солженицына. В. Максимов вместе с В. Войновичем, А. Галичем, А. Сахаровым, И. Шафаревичем подписывает 5 января 1974 года заявление в защиту А. Солженицынавместе с А. Сахаровым, Е. Боннер, Ю. Орловым, А. Марченко, ставит свою подпись под «Московским обращением», составленным в связи с арестом А.Солженицына. Так совпало, что выезд В. Максимова за границу /ему было дано разрешение выехать по приглашению в Париж сроком на 1 год/ пришелся на то же время, что и высыжа А. Солженицына, и как и последнего, его коснулось усиленное внимание западной прессы. Это, видимо, также сыграло свою роль в том, что именно В. Максимов был приглашен известным западногерманским промышленником Акселем Шпрингером для издания журнала.
В это время у писателя вышел, также в издательстве «Посев», его второй роман — «Карантин», а «Семь дней творения» в 1971;73 гг. был издан неоднократно, в том числе и в переводах.
Роман, название которого навеяно Библией, мифом о творении мира, стал неким синтезом, в котором можно услышать отзвуки многих мотивов предшествующей и современной В. Максимову русской литературы. Эти мотивы предстают в существенно переосмысленном и переработанном виде, под знаком новых мировоззренческих обретений.
Через образ главного героя Петра Васильевича Лашкова писатель вступил в соприкосновение с магистральным для советской литературысюжетом, связанным с рождением нового человека и нового мира. Но в «Семи днях творения» происходит такое обновление личности и намечается перспектива такого жизнетворчества, которые по своему смыслу решительно противоположны тем, что бытовали в советской литературе. Пафос романа, кроме прочего — еще и в отрицании тех ценностей, которые утверждались как господствующие в советской истории.
Роман непосредственно связан и с темой дома. Действие в нем, в сущности, протекает в пределах семьи, оказавшейся в круговерти истории. Подспудно Б. Максимов напал на коренную идею, которая питала художественную мысль в 70−80-е годы. Речь идет о поисках твердой опоры в условиях разрушения традиционных ценностей — семьи, рода. Тема разрушающегося дома, родного гнезда, утрат^ корней присутствовала во многих произведениях, написанных в этот период. Но если для таких авторов, как В. Астафьев, В. Распутин, В. Белов выход из жизненных тупиков и тягот был в приобщении к стихии народа, народной мудрости, иногда, может быть, с оттенком пантеизма или язычества, то для В. Максимова высшим мерилом стало христианство.
Сходные мотивы можно обнаружить и б творчестве известного американского писателя Уильяма Фолкнера. В таких его романах, как «Сарторис», «Шум и ярость», «Сойди, Моисей», «Свет в августе», «Особняк», действие сосредоточено в пределах одного населенного пункта. Зто — городок Дже$ферсон в штате Миссисипи. Источником жизненного материала для писателя оказывается сама среда, окружающая его с детства, повседневность. «Начиная с „Сарториса“ ,-говорил У. Фолкнер, — я обнаружил, что моя собственная крошечная почтовая марка родной земли стоит того, чтобы писать о ней, что всей моей жизни не хватит, чтобы исчерпать эту тему» /Цит.по:17,15/.
В цикле романов переплетаются события и судьбы героев. Семьи Сар-торисов, Компсонов, Сатпенов, Маккаслинов, живущие в йокнадатоф-ском округе на протяжении десятилетий, и то, что происходит с ними и вокруг них, судьба американского Юга /события в произведениях охватывают период с 30-х годов XIX века по 50-е годы XX/ - все это предмет постоянного интереса писателя. История старинных семейств, предки которых играли видную роль в гражданской войне 1861−65 годов, бурное и героическое прошлое, колорит американского Юга с его расовыми проблемами: — все сфокусировалось у У. Фолкнера в жизни Ёокнапатофы, художественно выразилось в «йокнадатофской саге» с единством места действия и героев.
Герои В. Максимова — жители городской окраины, потомки тульских крестьян, ставшие рабочими, принявшие активное участие в революции. В. Максимов сам вышел из семьи «комиссаров», из весьма политизированной среды. Жители станции Узловой под Тулой, окрестных деревень Сычевки, Свиридово, Дубовки, их судьбы в трагических коллизиях отечественной истории, представлены в романах «Семь дней творения», «Ковчег для незваных», в повестях «Баллада о Савве», «Как в саду при долине». Детство писателя связано также с московской окраиной, старым домом в Сокольниках. Там живут и оттуда выходят в «большую жизнь» герои «Карантина», «Семи дней творения». Оттуда же уходит в скитания Влад Самсонов, автобиографический герой «Прощания из ниоткуда» .
И У. Фолкнер, и В. Максимов немалое внимание уделяют маргинальному герою, герою-парии, которому не нашлось места в обществе. У В. Максимова типологический ряд таких героев представлен в повестях 60-х годов. Сергей Царев, Михей Коноплев, отчасти Виктор Суханов, Савва Гуляев, находятся в конфликте с обществом, неся в то же время на себе отпечаток трагической вины и приходят к катарсису, добровольной расплате, которая становится залогом душевного обновления.
Герой фолкнеровского романа «Свет в августе» Джо Кристмас всю жизнь мечется между двумя мирами — черных и белых. Став жертвой расовой непримиримости, он навсегда лишен возможности узнать, кто он — негр или белый. Для него нет «своих», общество беспощадно выбросило его из своей среды. Кристмас мстит ему, делая других людей причастными к своей драме, заставляя их расплачиваться за зло общества. Так поступает и Сергей Царев, герой повести В.Максимова. Становясь преступником, он мстит обществу, которое лишил©его отца.
Другой тип героя, присутствующий на страницах произведений и У. Фолкнера, и В. Максимова — сельский философ, мудрец., созерцатель жизни. Таков мелкий торговец Рэтлиф /" Особняк" /, бывший священник Хайтауэр /" Свет в августе" /. Определяющей чертой этих героев служит их простота, выступающая как признак мудрости. Наблюдает жизнь и старец Кирилл — герой повестей «Баллада о Савве» и «Дорога». Он — носитель некоего нравственного и духовного опыта, который позволяет выносить суждения о жизни, близкие авторской позиции. Наличие героя, как бы аккумулирующего разрозненные жизненные впечатления, в чьем сознании отпечатывается и обобщается опыт многих людей — характерная черта произведений и американского, и русского писателей.
Важным объединяющим моментом представляется и трактовка темы семьи, где младшее поколение отказывается от духовного наследства отцов. У У. Фолкнера семейства Компсонов, Сарторисы, Маккаслины проходят сначала через героический период своей истории, утверждая себя в противоборстве с природой, создавая и упрочивая семейные поместья, участвуя в гражданской войне Севера и Юга. Это — период титанизма, когда преступления неотделимы от подвигов. Новое поколение испытывает отчуждение от героического прошлого своих семей. Оно охвачено чувством стыда за рабовладельческое прошлое, средства, которыми было достигнуто богатство, видятся ему преступными. В «Семи днях творения» судьба семьи Лашковых дала на фоне отечественной истории, семейные конфликты и драмы являются прямым продолжением конфликтов и драл-, происходящих в жизни страны и народа. Они находят свое выражение в романе на бытовом, обыденном уровне. У У. Фолкнера трагические черты приобретает раскол между Севером и Югом, расовая ненависть калечит судьбы людей. У В. Максимова — социальная непримирим (c)сть разрушает семью Лашковых. Мдадшеее поколение в произведениях обоих писателей несет в себе чувство вины, которое может приводить к сломленности, капитуляции перед жизненными проблемами. Кончает с собой Квентин Компсон /" Шум и ярость" /, не выне-ся жизни в этом, «грубом, шумном мире». В «Семи днях творения» уходит из жизни Осип Меклер, потерпевший неожиданное для себя крушение идеалов, пытается покончить с собой младший из Лажовых — Вадим. Вадим Лашков отказывается от семейного «дела» — революции, не хочет иметь ничего общего с прошлым, в котором ему видятся только обман, кровь, насилие. Точно так же молодой потомок семейства Маккаслинов в фолкнеровском романе «Сойди, Моисей», отрекается от семейного наследства — и материального, и духовного.
Чередование действия в настоящем с ретроспективными сценами в «Жив человек», раскрывающее путь героя к себе сегодняшнему, соотносимо с композиционной организацией «Света в августе», где поведение Джо Кристмаса в настоящем объясняется его прошлым. По мере нарастания драматизма действия все полнее раскрывается путь, приведший героя в его нынешнее положение. Не испорченность натуры, а обстоятельства, которые заложили в нем отчуждение с детства, поставив в положение изгоя — причина преступлений Джо Кристмаса и Сергея Царева.
Пик действия — когда открывается сокровенное в герое, и одновременно обнаруживается то главное в прошлом, что предопределило его трагедию. В ситуации обоих героев это — обманутое доверие.
В романе «Свет в августе» нашли отражение христианские мотивы, Имя героя — Джо Кристмас — основано на игре слов: это как бы новый Христос, опять не принятый людьми и обреченный-на мученическую смерть.
В.Максимов, выросший в политизированной среде, в обстановке, которая была полностью, со всеми ее светлыми и темными сторонами, порождена революцией, не мог иметь перед собой примеров религиозности, не мог приобрести религиозный опыт. То, что одушевляло его произведения до «Семи дней творения», было сугубо «советского» происхождения. Все рождалось из личного опыта, знания жизни, было навеяно советской литературой.
Иначе обстояло дело с У.Фолкнером. Для него христианство было неотъемлемой частью жизни. Писатель говорил:" Вспомните, что писатель должен в своем творчестве опираться на свои истоки. Он должен писать, исходя из того, что знает, а христианская легенда является частью истоков каждого христианина, особенно деревенского мальчика, деревенского мальчика с Юга. Моя жизнь, мое детство прошли в маленьком городке в Миссисипи, и это было частью моего происхождения. Я вырос с этим. Я впитал это, воспринял, даже не зная, что к чему. — Это не имеет отношения к тому, насколько я в это верю или не верю, — это просто живо во мне" /Цит.по:17,15/.
В.Максимов же пришел к христианству как к чему-то совершенно для себя новому, пережил религиозное обращение. Усвоение евангельских истин было для него открытием двери в иной мир, оно должно было придать законченность и цельность творчеству, сцементировать осколки и фрагменты мира, воплотившиеся в повестях, в одно целое.- 39 Христианская идея художественно воплощается и художественно интерпретируется в творчестве писателя как единственная спасительная опора в мире. В системе размышлений самого В. Максимова безусловно необходимыми оказываются библейские симовлы, образные средства и философско-этические понятия, почерпнутые из Священного писания. В сознание и кругозор персонажей также внедрены блоки хри-стианско-библейской образности, играющие не орнаментальную, а сущностную роль. Поиски идеала воплощенного, художественно обозначенного и логика развития сюжета соприкасаются на уровне судьбы героя, мотивируя происходящие с ним перемены, определяя устойчивые и обнадеживающие признаки его возрождения к новой жизни.
Для ранних повестей был характерен поиск ценностных ориентиров на уровне сознания героев. Жизненный материал, ставший основой этих произведений, открывал герою возможность узнать некую правду о мире, которая оказывалась для него трагическим откровением. Авторская мысль развивается, идя по определенным вехам: соблазн-раская-ние-искупление. В повестях эти понятия существуют в общегуманистическом, так сказать, «светском» контексте. В «Семи днях творения» они раскрываются как традиционно христианские, в то же время сохраняя связь с традиционным для советской литературы мотивом преодоления заблуждения.
В интервью корреспонденту агентства «Франс-Пресс» писатель так сформулировал свой ответ на вопрос о связи религии и творчества: «Слово» вера" говорит само за себя, и мне нечего к этому добавить. Если же говорить догматически, то исповедую православное христианство. Эта Вера и вооружает меня критерием истины и красоты, безусловно обозначая мне цели, задачи и средства творчества" /61,137/.
Роман «Семь дней творения» выразил /во всем многообразии и противоречивости обозначившихся путей/ движение к этому идеалу.
Мир, представленный в разных своих ипостасях и отраженный в сознании персонажей, приобретает смысловую и ценностную определенность благодаря действию обобщающей авторской мысли, синтезирующей материал сознания героев в определенное единство.
Развитие сюжетных линий, развертывание характеров аггероев к мотивов определяется стремлением выявить и осмыслить в жизненном материале вечное — христианские сюжеты и образы.
Рождение романа «Семь дней творения» ознаменовало переход писателя на такие творческие и мировоззренческие позиции, которые позволили ему обрести себя в новом качестве и как человеку, и как художнику.
В свое время В. Максимов счел нужным специально подчеркнуть: «Я, сын и внук потомственных пролетариев, сам вышедший из рабочей среды, написал книгу о драматическом финале того дела, за которое отдали жизнь мой дед, мой отец, и большая часть двух восходящих ко мне фамилий. Эта книга для меня — результат многолетних раздумий над удручающими и уже необратимыми явлениями современности и горчайшего личного опыта» /33,т.5,248/. Писатель имеет дело с материалом, родственным ему в прямом смысле слова — отсюда специфичность взаимоотношений автора-повествователя и героев, через которых он реализует свои творческие намерения. О прототипичности персонажей в одном из интервью сам В. Максимов сказал:" В нем /в романе «Семь дней творения» — А.Д./ история нашей семьи. Давно хотелось об этом написать, герой — мой дед, самый любимый человек в моей жизни. Это семейная хроника, семейный роман, там сосредоточивается весь твой жизненный и человеческий опыт. Мне кажется, наша семья очень характерна для истории нашего общества: рабочие, вышедшие из крестьян, коммунисты, люди, которые внутри партии были по разныестороны баррикад, — отец был троцкистом, а дед сталинистом, — всепрошли через лагеря. Потом началось разложение общества со. всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне казалось, что это очень типичная семья, и на ее истории я хотел выстроить свою историческую концепцию: к чему мы пришли" /45,32/.
Б советской литературе 60−80-х годов известны произведения, навеянные личным опытом их автора, семейной историек. Таков, например, «Последний поклон» Б.Астафьева. Близость, подкрепляемая, может быть, и некоторыми биографическими параллелями /и В. максимов и В. Астафьев сполна изведали жизненных тягот и лишений/ проявляется в общем подходе к истории своей семьи как к части чего-то большего, отражающего это большее в его полноте. Семья выступает неким! кристаллом, вобравшим в себя судьбу народа и выразившим в ней самое характерное. Но для В. Максимова, в отличие от В. Астафьева, никогда не было характерно обращение к прошлому в поисках источника духовной устойчивости, гармонии. В. Максимов стремится к идеалу вневременной природы, к источнику брезжущей «из ниоткуда» надежды.
Скрепленное фигурой главного героя, действие распахивается в романе очень широко, охватывая множество жизненных сфер. Поиск истины в свободном сопоставлении мнений и позиций, переплетение судеб и движение характеров наводят на мюль о том, что в произведении нашла свое отражение полифоничность жизни, многоголосье и многозвучье которой В. Максимов сумел запечатлеть в слове.
Роман состоит из шести частей, каждая из которых представляет собой законченное повествование о жизни одного из Лапшовых.
В произведении проявляется принцип симфонизма — с пронизывающими ввсе повествоание лашковскими судьбами соприкасаются судьбы других людей, высвечивающиеся в этих пересечениях и выявляющие, в свою очередь, определенные черты в Лажовых." Понедельник. Путешествие к себе" - это рассказ о главе семьи, Петре Васильевиче. Старый коммунист, активный участник революционных событий, он переживает б конце жизни внутреннее обновление, пересматривает свои убеждения под знаком приобщения к евангельским идеалам. В этом ему способствуют наполнившие сознание картины воспоминаний, а главное — общение с человеком, несущим в себе свет христианской истины — религиозным активистом и проповедником Гупаком. Здесь же намечены в общих чертах фигуры главных действующих лиц следующих частей романа: младших братьев Петра Васильевича Василия и Андрея, дочери Антонины, внука Вадима.
Вторая часть — «Вторник.Перегон» — посвящена Андрею Дашкову. Действие ограничено одним, но самым характерным эпизодом егожизни. Во время войны Андрею было поручено возглавить отряд, эвакирую-щий колхозный скот. Оказавшись в непривычной роли командира, герой переживает сильнейшую душевную смуту и приходит к убеждению в несправедливости царящего в мире порядкаа, а также, что не менее важно — к осознанию своей вины за происходящее." Среда. Двор посреди неба" содержит жизнеописание Василия Лашкова, ограничившего свой: мир московским двором, в котором он работает дворником и умирает, прожив пустую и горькую жизнь.
Часть четвертая — «Четверг. Поздний свет» — рассказывает о метаниях младшего из Лажовых — Вадима. Неудавшийся артист, он в поисках выхода из жизненного тупика сближается с диссидентами, религиозными активистами и круто меняет свою жизнь, самоопределяясь в отрицании существующего общественного устройства. Здесь же представлены трагические судьбы людей, оказавшихся жертвами власти. Зто религиозный активист, бывший театральный режиссер Марк Крепе и священник отец Георгий, преследуемые за проповедь христианства." Пятница. Лабиринт". Эта часть переносит действие на среднеазиатскую стройку, где Антонина и ее муж Николай оказываются свидетелями и участниками трагических событий. Антонина испытывает здесь своеобразный катарсис, очищение страданием, и укрепляется в христианской вере. В-Максимов насыщает эту часть романа идейными спорами, делая героев свидетелями и участниками брожения в обществе. Картины жизни простых людей — рабочих-сезонников, перемежаются сценами, рисующими жизнь диссидентского подполья.
И наконец, последняя часть возвращает действие к главному герою, подводящему итог своей жизни. От ощущения тупика, бессмысленности существования Петр Васильевич проходит непростой путь к осветившей его жизнь надеаде. Он — на пороге веры. «Суббота. Вечер и ночь шестого дня» намечает перспективу возрождения мира, которое связано с возвращением Дашковых к христианству.
Разные стороны мира, внешне, как будто, не связанные, обнаруживают в ткани романа внутреннее единство. Семья Пашковых — своеобразные демиурги, творящие мироздание. Результат жизненного пути каждого из них — сама действительность. Они — участники творения мира, в этом — смысл названия романа. Их личный опыт приобретает трагический оттенок в осознании полной бесперспективности существования в рамках сложившегося уклада. Только порыв к иным, чем те, живет по которым жжет все окружающее, законам, придает их судьбам новое содержание. Весь семейный опыт вместе взятый, предопределяет вывод о крахе того дела, которому служил глава семьи — революции." Семь дней творения" стали романом, в котором В. Максимов в объемном и сложном цетворческом замысле воплотил целостную концепцию действительности, моральную программу. Устойчивый, ценностно определенный образ мира с его закономерностями, повторяющимися событиями символического значения, сложившийся в «Семи днях творения», повторяется и в последующа романах через сходные элементы структуры: систему персонажей, особенности сюжетостроения с главенством «библейского сюжета» в различных вариациях /акцент ставился тс на ново-, то на ветхозаветной проблематике/. Человек как соучастник творения мира впадает у В. Максимова в социальный соблазн, нарушая замысел Творца, противясь ему. Результатом такого своеволия оказывается падший мир. В' «Семи днях творения» старый ветеринар Бобошко говорит Андрею Дашкову:.Господь создал человека в один день. Только ведь это был не один земной день, а одна земная вечность. А мы с вами возомнили за двадцать быстротекущих земных лет содеять то же самое. Раненько, раненько ш возгордились, не по плечу задачку взяли. Вот и пожинаем плоды" /33,т.2, 138/. Этот мир не находит в самом себе источников, которые придали бы смысл и цель его существованию, нуждается в свете извне.
Это — отрицаемая В. Максимовым ипостась бытия. Но есть и то, что утверждается, и чему писатель ищет на страницах романа достойное воплощение. Приход в мир обновляющей, жизнетворной силы связывается им с победой евангельской истины в сознании человека. В финале романа намечается перспектива выхода из круга бессмысленного и угнетающего существования, «возвращение к себе», к своей подлинной человеческой сущности, заложенной в творении. Создание нового мира, предпринятое людьми, не удалось, но надежда, что род. Пашковых, ставший и его творцом и жертвой, не погибнет, не" изойдет" с земли /а такая перспектива как одна из возможных, тоже намечена в романе/, связана с переменами в судьбе Петра Васильевича. Его новое рождение как христианина — вот подлинное творение. Название романа, таким образом, оказывается многозначным. Седьмой день творения — «День Надежды и Воскресения» — это чистая, не написанная еще страница.- 45 Мотивы, связанные с судьбой главного героя романа, перекликаются с раздумьями известного русского философа, публициста и религиозного мыслителя, Ивана Александровича Ильина. Б одной из своих статей, вошедших в книгу «Наши задачи» он писал, размышляя о смысле трагической судьбы русского народа и путях его возрождения: «Русский человек должен перестать поклоняться чужим идолам и дьяволам. Он должен вернуться к себе /выд.мною — А.Д./, к живым и драгоценным корням своей национальной культуры. Он должен понять, принять и выговорить свою русскую Идею, с тем, чтобы затем осуществить ее во всем — в религии и в науке, в праве и в государственной форме, в искусстве и в труде, в суде, в медицине и в воспитании. Страдания и унижения революции даны нам для того, чтобы мы увидели ту бездну, в которую нас тянули дореволюционные соблазнители, и чтобы мы восхотели Божьегочтобы мы очистились, возродились и заткали ткань ново2 России» /22,т.1,160−161/.
Можно предположить, что опыт И. Ильина присутствует в исканиях В. Максимова, высвечивая перспективные для его творческой мысли направления. Здесь, конечно, нет ученичества или прямого следования в фарватере мысли философа. Отношение В. Максимова к идейному наследию И. Ильина уместнее определить как диалог, даже как часть большого диалога, ведущегося писателем с мыслителями, художниками и общественными деятелями прошлого и настоящего. Среди участников этого диалога, иной раз остро полемического, в разное время оказывались славянофилы и драматург Ионеско, влиятельные политики Запада и Достоевский, анонимные авторы диссидентского самиздата. Поиски путей национального возрождения России присутствуют не только в художественной прозе, но и в публицистике В.Максимова. Вот что писал он в предисловии к роману «Карантин» :" Мир ничего не забыл, но ничему так и не научился. Социальная бесовщина снова захлестывает человечество. С каждым днем людская жизнь все дешевле, а духовная нищета все беспросветней. Во имя материального дележа поднимаются народы и государства. Человек восстает на самого себя, на свою сущность, на свой Божественный лик. История, кажется, стремительно двинулась к своему эсхатологическому концу. Но, как говорится, нет худа без добра. В страстных борениях с веком и с самим собой, в современной России, словно птица-Феникс из пепла, заново рождается Свободный и Верующий человек. С молитвой на устах он сбрасывает с себя тяжкий кровавый груз темных сомнений: к ошибок, чтобы вновь ступить на путь духовной гармонии и служения Богу" /б1,159/. Похожим образом духовное возрождение России виделось и И. Ильину: «Страдания и унижения русского народа должны умудрить и очистить его, открыть ему новые земные горизонты и новые небесные высоты, пробудить его сердце и укрепить его волю. Весь наш душевный уклад должен быть обновлен: в этой трагедии должен завязаться и окрепнуть новый русский национальный характер, укорененный во Христе, сердечный и волевой, достойный и прямой, без изворотливо-лживой хитрости и с живым чувством духовного ранга» /22,т.1,160−161/.
В размышлениях В. Максимова, ставших основой романа, несомненно, много родственного этим идеям.
Суммируем изложенные выше соображения: Творчество В. Максимова складывается под знаком приобщения к христианским ценностям и идеалам, оказавшим глубокое воздействие на его художественный мир и нашедшим воплощение в романе «Семь дней творения» .
Этот роман занимает центральное место в логике и структуре твсческой судьбы писателя. Он стал переломным, выявив ее главное содержание, связав воедино биографию, судьбу, творчество.
В «Семи днях творения» художественно воплощается и художественно интерпретируется христианская идея. В. Максимов нашел здесь ориентиры, ставшие затем постоянными вего творчестве: «христианский сюжет» и другие элементы романной структуры представлены в последующих произведениях.
Действительность, исследуемая, осмысляемая и изображаемая в навеянных Библией понятиях и красках, приобретает у писателя черты падшего мира. Выход из царства зла и порока мыслится в утверждении евангельских идеалов в обществе через христианское обновление личности.
ПАРАГРАФ 3ВДЕЙНО-ЩОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНАСвоеобразным камертоном всего произведения является первая главка первой части. В ней в свернутом виде представлены мотивы, раскрывающиеся в масштабе всего романа. Главка представляет собой описание начала дня пенсионера Петра Васильевича Лашкова, живущего в провинциальном городе Узловске.
Завязываются две теш: обычного и особенного в жизни героя. Затем они развиваются по принципу контрапункта, в смене событий от обычных, устоявшихся к необычайным и поворотным.
Неуважительно-фамильярное отношение к герою во сне контрастирует с его положением наяву — положением солидного, уважаемого в городе человека. Необычному сны /" Сны Петра Васильевича вообще отличались в последнее время диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж совсем ни с чем не сообразное." /33,т.2, 7 / противостоит устоявшаяся, однообразная дневная жизнь. Она бессодержательна: «.Жизнь его приобрела подобие часового круга, где всякая цифирь отличалась от другой не цветом и содержанием, а только условной сутью» /33,т.2,7/. Образ круговорота, движения без цели переносится на всю повседневную жизнь Петра Васильевича: ритуал ежедневной прогулки по городу — это просто бессмысленное кружение по маршруту, безразличному для героя. Лашков присутствует в Узловске прежде всего стуком своей палки:" .Когда известная всему городу палка стучала по асфальту, почти каждый ее стук бывал отмечен поклоном или приветствием.'.'/33,т.2,9/. Опять в действие вступает контрапункт: обмен репликами-приветствиями В. Максимов изобразилкак диалог с немым — стук палки Петра Васильевича служит одинаковым ответом для всех: «-Васкльичу!Тук-тук.-Здравствуйте, товарищ Дашков! Тук-тук. -Приветствую!Тук-тук.-Здоров, Петр Васильевич! Тук-тук.-Наше вам! Тук-тук-тук. «/33, т.2,9/. Герой выступает как нечто неодушевленное, как часть городского пейзажа, находящаяся к тому же на историческом удалении от настоящего. Он имеет статуссвоего рода реликвии, его «уважали, как, впрочем, уважают все, что хранит одним только своим существованием то, чего другие, хотя бы в силу возраста, не знают, да и знать не могут. Таким бывает уважение к памятнику, старой крепости, знаменитой горе» /33,т.2,8−9/.
Все меняется, когда Лашков оказывается перед лицом события, которое неожиданно и резко сближает прошлое и настоящее, открывая прямую связь между ниш. Разбитая витрина продмага и лежащий в ней картонный окорок, которые во время прогулки случайно замечает герои, г-гсковекно вызывают у него воспоминание о том, кав: во время стол— кновений Первой русской революции, еще подростком, оказавшись возле витрины гастрономической лавки, он увидел за развороченным окном копченый окорок. Под пулями Лашков преодолевает расстояние до витрины, но когда протягивает руку, то обнаруживает, что окорок фальшивый и сделан из картона. Воспоминание стало толчком, задавшим внутренние перемены в герое: ИВ нем как бы вдруг взломалось все, как бы разорвался какой-то мертвый крут, из которого долго и безуспешно в поисках выхода тянулась его окольцованная глухотою душа.'.'/33,т.2,12/. Статика сменяется неустойчивостью, неясным ожиданием перемен. Рухнули отмены, отделявшие Петра Васильевича от мира и от людей, привычный, устоявшийся за много лет образ жизни распадается. Герой начинает слышать то, к чему раньше был глух: «.Каждый предмет заговорил с ним особым языком.'.'/33,т.2,19/.
Эпизод с фальшивым окороком наглядно символичен — соблазнившись крашеным картоном., Петр Васильевич выбрал свою судьбу. Фальши— вое было принято за настоящее. Когда юный Петька под обстрелом устремляется к разбитой витрине, он рискует собой. Точно так же взрослый Петр Лашков в погоне за осуществлением утопии не щадит прежде всего себя. «Путешествие к себе» началось с возвращения к событию, символически обозначившему весь жизненный путь героя как историю прельщения социальным соблазном.
Противостояние революционного и исторического обозначается уже в первой главке романа. Петр Васильевич выделен из окружающей его городской повседневности, он чужд тому новому Узловску, который сам и создавал. Герой ведет диалог со старым городом, но тому не пробиться уже сквозь «асфальтовый панцирь улиц», не собраться уже в «былое целое». В. Максимов обращает внимание на то, что прямю соединяет героя и его город:" Стала Узловская уездом, и у Петра Васильевича Дашкова жизнь прибавила важным знаком путейского достоинства — обер-кондукторской сумкойобзавелся город своим элеватором, и его пятистенник засиял на все Свиридово веселой оцинкованной крышейпервая шахта обозначилась терриконом за рекой, и в дом к молодому обер-кондуктору вошла, чтобы остаться там на без малого сорок лет, тихая и работящая Мария — дочь слободского шах-тера" /33,т.2,10/. В прошлом Лашков прочно включен в естественный ход событий, и жизнь идет по восходящей. В сегодняшнем же дне все это оказывается фрагментами «былого целого», существующими в окружении чего-то чуждого. Так, дом Петра Васильевича окружен враждебными, опасными своей близостью соседями — заводом и дорогой — приметами нового мира:" Завод, год от года обрастая строениями, все ближе придвигался к утлому дому, отжимая его к самой дороге, которая, в свою очередь, расползалась в ширину. Между этими двумя гигантами врагами, словно маленькое буферное государство в тисках гигантов, и отстаивал свою независимость приземистый, еще дедом: отстроенный пятистенник, где одну комнату из четырех занимал Петр Василь-евич" /33,т.2,8/. Герой, своим сознанием принадлежа новому миру, оказывается укоренен в мире историческом. Петр Лашков получал новую должность на службе, женился, обустраивал дом, и одновременно рос, развивался Узловск. Потом, после революционных перемен, в которых герой принял активное участие, целое города распалось и в своих образах завода и дороги оказалось ему враждебным.
В части советской литературы, получившей название «произволственного романа», бытовали устойчивые стереотипы, связанные с представлениями о литературе как непосредственном отражении реальности, наполненной позитивными переменами. Приметами обновления жизни оказывались новые реалии, утверждающиеся в борьбе со старым, косным, патриархальным. Изображение производства, строительства, прокладывания дорог и вообще трудовой деятельности принимало черты не только конкретно-реалистические, но и поднималось до обобщения, указывающего масштаб происходящего во всемирно-исторических масштабах. При этом утверждались, и подчеркивались правомерность и насущность перемен и ломки старого. Такой взгляд представлен в произведениях Л. Сейфуллиной, Ф. Панферова, Ф. Гладкова, и у целой плеяды их последователей, создателей «производственного романа». Созидательны": труд и его плоды — дороги, каналы, цеха и домны, выступали у этих авторов как зримое воплощение успехов коммунистического строительства, трактовались как знаки, выражающие сутьреволюционных преобразований.
В.Максимов утверждает свой взгляд на действительность в отрицании этой традиции. Те приметы. жизни города Узловска, которые своим существованием обязаны революции, имеют в романе явно негативную оценку. Онипротивопоставлены «собственно Узловску», выступающему как некое разрушенное теперь, но существовавшее в прошлом единство:" Присматриваясь к городу, Петр Васильевич пытался вызвать к жизни былое целое из возникающих в памяти черт и черточек, но неряшливая в лихорадочной своей убогости застройка местных слободок безликими коробками из стекла и бетона уже не могла оживить дряхлеющую душу собственно Узловска" /33,т.2,Ю/. Сблик города определяется чертами упадка, не приобретения, а утраты и одряхление и утраты — его удел. А вот какие черты приобретает труд, созидание: «За ребристые крыши окраин, трудно дыша, багрово-желтой туманностью стекал день. Город ещестекал день. Город еще погрохатывал, еще позванивал где-то между сквозных глазниц зачатых корпусов, силясь изо всех сил изобразить мощь, деяние, но в его тяжком выдохе уже явственно прослушивалась надсадность» /33,т.2,11−12/. Господствуют мотивы усталости, угасания. В сегодняшнем дне города присутствует неподлинность, некая фальшьон имитирует, «силится изобразить» свое настоящее как торжество мощи, победу, но груз ему явно не по силам. Двойственно положение, которое в нем занимает Дашков — он живет в состоянии инерции, связь с прошлым города для него важнее современного Узловска. Но вот цепь событии, на первый взгляд незначительных, выбивает его из привычной колеи, подводит к предчувствию грядущих перемен. Потрясение, вызванное вторгшимся в сознание воспоминанием о фальшивом окороке, закрепляется в череде взволновавших героя событий:" В течение многих лет Петр Васильевич по камушку, медленно и упорно выстраивал для себя свой мир. И, как думалось ему до сих пор, выстроил. В нем все было выверено до мельчайших деталей. И жизнь раскладывалась надвое: «да» и «нет». «Да» — это всегда оказывался он и его представления об окружающем. «Нет» — все, что тому противоречило. И он носил этот мир в себе, как монолит, его невозможно ни порушить, ни поколебать. И вдруг — на тебе! — два-три крохотных события, две-три случайные встречи, и мир, взлелеянный: с такой любовью, с таким тщанием, начинал терять свою устойчивость, трещать по швам, разваливаться на глазах" /33,т2,31/. Конечно, никакой «монолит» не разрушился бы так быстро, если бы внутренне уже не был подточен. Перемены долго вызревали в герое, он их желал и был внутренне готов к ним. Сны, посещавшие Петра Васильевича, свидетельствуют об этом.
Герой у В. Максимова обычно полностью погружен в эмпирику жизни. Он не руководствуется своим «книжным знанием» в действиях и поступках. Его идейный багаж как бы «вынесен за скобки», не актуален как материал его самосознания. Петр Васильевич не обладает в романеникаким иным знанием, кроме своего личного опыта. Но В. Максимов противопоставляет жизни героя наяву его сны. Содержание ночных видений противостоит упорядоченном и размеренной дневной жизни героя, небогатой событиями и происшествиями кате хаос, полный обрывков воспоминаний. Они внешне бессвязны, но обладают общей чертойобразы прошлого обращаются в нечто, затрагивающее широкий пласт отношений Дашкова с миром. Здесь он представлен той стороной, теми человеческими чертами, которые для него самого оставались пока скрытыми, которые всю жизнь были вытеснены, замещены социальными. Если в мире, который Петр Васильевич «выстраивал для себя», «царили закон и порядок», то в шре сна властвуют разноголосица и стихия:" И опять ему снилась какая-то чертовщина. Бабка Наталья, старуха больная и ругательная, протягивала ему горсть мятых вишен, и, шамкая провалившимся ртом, бубнила в ухо: «Вожми, Пе юшка, вожми, не брежгуй.'.' А потом покойный начальник службы движения Егоркин, стуча кулаком по столу, честил его на чем свет стоит:» Под трибунал захотел, Дашков!.У меня не засохнет!" /./ Следом за Егоркиным выплыла из небытия собственная его — Дашкова — свадьба, на которой приходившийся ему тестем забойщик Илья Парфеныч Махоткин, пьяный в дымину, лез к нему целоваться. /./ А затем его уносил сквозь снег поезд голодного года, и в прозрачном свете коптилки кто-то тоненько тянул из-под лавки:" Прощай, Маруся дорогая, прощай, сынок мой дорогой. Тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой.'.' После чего он стоял, защищая тамбур, а на него со всех сторон лезли лица, -много лиц, знакомые и незнакомые. «Осади, осади назад!» — надрывался. Петр Васильевич, но лица лезли и лезли, молчаливо тараща на него глаза.'.'/33,т.2,18/. Жизнь во сне обступает героя и прошпсает в его сознание голосами людей. Его сны — отчасти воспоминания, отчастиусловно-аллегорические картины в форме снов с символическим смыслом.
Они не просто высвечивают что-то в прошлом, но и выступают знаком перехода на иную духовную ступень. В литературе подобного рода явления известны под названием видений. Цель видений, как отмечает Б. Н. Ярхо, «открыть читателю истину, недоступную непосредственному человеческому познанию» /107,21/. Обязательным признаком видений является образ ясновидца, который дожен" воспринимать содержание видения чисто духовно" и «ассоциировать содержание видения с чувственными восприятиями», видение «должно заключать в себе чувственные образы» /107,21/.
В основе видений как «психофизиологического явления» «лежат три фактора: летаргическое состояние, галлюцинации /в экстазе или бреду/ и снов. идения» /107,22/, В русской литературе IX века видения использовались довольно широко. Как пишет А. Б. Грибанов, «в 1910 году контур жанра видений неожиданно проступил в романе А. Белого „Серебряный голубь“, где /в традициях хлыстовства/ дается видение Дарь-яльского.К жанру видений — в пародийном ключе — тяготел М. А. Булгаков: достаточно вспомнить видения Алексея Турбина в „Белой гвардии“, главу „Сон Никанора Ивановича“ в „тетере и Маргарите“, а несколько серьезней — и прием введения некоторых фрагментов „романа в романе“ в том же произведении» /16,65−66/.
Видения героя В. Максимова мотивированы: сновидениями. Многообразие жизни, ее несводимость к каким-то определенным формулам, становятся для него источником беспокойства, смуты, неуверенности в себе.
Петр Васильевич — в центре сложного переплетения человеческих судеб. В цепи диалогов и встреч ему приходится осознавать свою причастность к ним.
Наконец, перед героем определится главный вопрос:" Где, когда, почему уступиллсн — Петр Васильевич Лашков — свою правду?. Какой зябкой чертой оградил он себя даже от родных детей своих? В чем- 58 оказалась горестная промашка его?" /33,т.2,88/." Путешествие к себе" ведет героя от смутного беспокойства и ожидания к пониманию своей ответственности за все, что произошло с семьей, с родом. «Дни творения» — отдельные части романа — посвящены героям, чьи судьбы отмечены причастностью к ним Петра Васильевича. Каждая из частей раскрывает некие новые черты Дашковых, и все вместе они создают всеобъемлющую картину пути, которым прошла семья. Судьбы младших братьев Петра Дашкова — Василия и Андрея, которые тоже стали участниками творения, несут для него поучительный опыт.
У каждого из братьев в романе — свой путь познания мира: через деятельность, активное участие /включающее в себя и вину/ в происходящем — у Андрея, через созерцание, пассивное присутствие при событиях — у Василия. Но при этом обнаруживается, что в опыте братьев содержится нечто общее. Действуя в разных, не со прикасающихся сферах действительности, они оказываются под воздействием одних и тех же сил, которые привносят в их судьбы трагические тона. Для Василия это имело особенно мрачные последствия:" Из тех редких писем, какие поступали от него в Узловск однолеткам и знакомым, можно было лишь заключить, что служба давалась ему непросто, что после нее жизнь складывалась у него еще круче, и что старость он встретил бездетным бобылем в том же дворе, где и поселился с самого на-чала" /33,т.2,70−71/. Василий — прежде всего жертва. Он всегда был на низшей ступени социальной лестницы, принимая на себя удары времени: «Казалось, какая-то жуткая сила отдирает людей друг от друга, и он, — Дашков, — подчиняясь ей, тоже с каждым днем уходит в себя, в свою тоску» /33,т2,169/.
Сюжет «Перегона», в котором Андрей выступает в роли пастуха, вызывает ассоциации с библейскими образами пастыря и стада. У В. Максимова, однако, пастухи и стаде оказываются гонителями и гонимыми. На пути в Дербент Андрей сберег скот, но растерял почти всех людей, и это выступает в романе знаком несостоятельности силы, которую ему выпало представлять: «Сомнения, обкладывали его плотным: кольцом жгучих до обморочного удушья вопросов:» Что же это все получается? Друг друга гоним как скотину, только в разные стороны? А зачем, с какой выгоды?" «/33,т.2,118/. Андрей не выносит бремени власти и отшатывается от нее. Но, в отличие от Василия, он не испытывает страха, который гнетет того всю жизнь.
Если Андрей в критические минуты, минуты серьезного выбора всегда чувствовал себя частью чего-то большего, чем он сам, представителем дела, которому служил, то Василий был озабочен прежде всего собственной безопасностью. В мрачные минуты познания своего бессилия перед какой-то неопределенной, враждебной силой, его посещает мысль «о существовании некоего Одного, чьей мстительной волей разрушалось всякое подобие покоя» /33,т.2,209/.
Андрею тоже довелось испытать ощущение гонимости, почувствовать себя беззащитным:" Он вдруг увидел себя бессловесной тварью, какую гонят неизвестно р-уда и неизвестно зачем, не давая сделать без спроса ни шагу. И от сознания этого своего бессилия ему становилось еще горше и нестерпимее:" Куда? Зачел']? Остановиться бы мне. Всем остановиться" «/33,т.2,161/.
Каждый из братьев постигает существование некоей высшей силыкак бы верховной власти в мире. Но если для Василия она — темная, непонятная, жестокая, гнетущая его, то Андрей думает о том, что должен держать перед ней ответ:" У него возникло такое ощущение, будто кто-то незримый и неведомый ему. каждодневно устраивает проверку каждому его поступку и-мыслям с тем, чтобы однажды спросить с него каким-то своим, особым спросом" /33,т.2,155/.- 60 —Таким образом, несмотря на то, что в какой-то момент мироощущение братьев сближается, внутренне содержание этих образов остается глубоко различным.
Состоянию внешней статики у Василия соответствует его внутренняя неподвижность. Если в молодости он и предпринимал какие-то попытки изменить обстоятельства своей жизни, то по мере движения от зрелости к старости нарастает все более зримое душевное окостенение. Василий Лашков как будто опускается на какое-то дно, где события и люди обтекают его со всех сторон, сам же он остается неподвижен. «Двор посреди неба» — самая мрачная, пессимистическая часть романа, где господствуют мотивы деградации, угасания, распада.
В противоположность этому, в судьбе Андрея преобладает начало движения, и складывается она под знаком нарастающих изменений. Из испытаний герой выходит, не скатываясь к распаду и краху, а напротив, поднимаясь и приемля мир, открывающийся ему не самыми светлыми сторонами. Действиями героя «Перегона» руководит идеал. Пусть цели, к достижению которых стремится Андрей Лашков, иллюзорны, но само это стремление придает ему сил и уверенности.
Композиционно эта часть романа представляет собой череду эпизодов, в которых герой неизменно оказывается в ситуации выбора. Этот выбор обусловлен наличием двух установок у Андрея. Первая предусматривает поведение, которое определяется его естественными наклонностями, идущими из глубины души. Вторая задается его социальной ролью, представлением о причастности к общему лашковскому делу. В сознании героя как бы существуют два слоя: в первом, где Андрей представлен как рядовой человек, властвует его естественное «я». Здесь он — натура мягкая, любящая, тянущаяся к природе, далекая от суеты и шума. Второй слой — социально определенный.
В нем Андрей — прежде всего брат Петра Васильевича, комсомолец, человек, отвечающий за честь фамилии. В душе Андрея нарастает раскол, вызванный противоречиями между этими двумя пластами, предусматривающими разные ценностные ориентиры, разные типы поведения. Выбор становится для героя все труднее, нарастает напряжение, которое выливается в душевный кризис. лИзвестно, что вульгарный социологизм навязывал литературе тезис о человеке как совокупности общественных отношений. Собственно человеческое при этом игнорировалось или отметалось как несущественное. Горьковская школа вырабатывала иной взгляд на проблему-человека. Ей было присуще представление о совмещении в личности двух сторон: души в ее естественных, человеческих проявлениях, и социальных напластований, мешающих реализации человека в жизни. Отсюда мотив «выламывания из среды», характерный и для В.Максимова. Писатель, несомненно, учитывал горьковскую традицию в создании-4образа Андрея. Дашкова.
Если прежде действительность представлялась Андрею цельной, не несущей в себе неразрешимых конфликтов, то теперь в ней появляются «темные пятна». Стчастностей, от цепи конфликтов и противоречий он приходит к обобщению:" Озаряясь неведомым ему дотоле сомнением, Андрей, серьезно озадачился неожиданными для себя вопросами. В самом деле, когда и почему вышло так, что все сдвинулось на земле, перемешалось, сошло с места? Какая сила бросает людей из стороны в сторону, сталкивает друг с другом, ожесточает их души, лишает людского облика?. Что же произошло в мире? Что же с ним, наконец, случилось? Что?" /33,т.2,143/. Вопросы героя вызревают из внешне разрозненных впечатлений, которые, однако, несут общий для него смысл. Через срывы и драматические метания выявляется разрыв между естетсвенными движениями души и требованиями лашковского дела.
И вот, подготовленное ходом событий, которые накапливали сомнения и неуверенность, у Андрея рождается новое состояние душион осознает свою ответственность не только перед людьми, но и перед чем-то непостижимым, проникается ощущением неслучайности всего происходящего: «И впервые б жизни Дашкова обожгла простая до жути мысль:» И ведь ответишь, Андрей, свет, Васильев сын, за все ответишь! «» /33, т. 2, 155/. От свободы в выборе средств на пути к достижению цели repot приходит к осознанию полной и абсолютной ответственности, и тем самым нащупывает дорогу к миру устойчивых и вневременных ценностей.
Андре" приобрел опыт, поднявший его личность на иной уровень в отношениях с миром. В нем исчезло или отошло на второй план то наносное, продиктованное временем, что главенствовало в его жизни прежде. Преходя в соприкосновение с действительностью, оно выявляло свою лож. ос:ь, никчемность. «Командирское», «лашковское» как привычка главенствовать, подчинять себе людей, не затрудняться в выборе средств, в Андрее оказалось неустойчивым, уступило место тому, чем живут окружающие.
В «Перегоне» присутствует мотив движения как перемены, которая выявляет в герое его сокровенную суть. Это придает произведению сходство с существующим в мировой литературе видом романа, известном как роман.испытания. Его характерные черты: герой движется к намеченной цели, преодолевая различные препятствия, проявляя себя и утверждаясь в тех или иных поступках илидушевных движениях. При этом цепь ситуаций выбора оборачивается одним общим «экзаменом», который герой выдерживает и получает награду/9/.
Канон романа испытания претерпевает в «Перегоне» изменения, соответствующие общему замыслу произведения. Наградой Андрею становятся одни потери. Он теряет свой «командирский» статус, лишается уверенности в правоте дела, которому готов был служить.
В.Максимов всегда отдает предпочтение героям, приходящим всостояние каких-то изменений, приближающимся к экзистенциальным, судьбоносным мгоновениям своей жизни. Для писателя менее всего интересен геро$ - носитель совокупности устоявшихся взглядов, убеждений, склонностей. В центре его произведений — человек, что-то выбирающий, определяющий свою судьбу на крутом жизненном повороте, когда в нем выявляется не объемный образ, а нечто главное. Писатель заинтересован судьбой человека тогда, когда он из пассивного участника событиййстановнтся активным деятелем, проявляет собственную волю.: ак же как и к Андрею, это относится и к Василию, но несколько в ином повороте. Василийопределяет свою судьбу не через действия, решения, поступки, а через отсутствие их. Представление об этом герое могутцать только переломные и значимые события, поданные в масиь табе всей его жизни. Этим обусловлена композиция «Двора посреди неба». Перед нами цепь эпизодов, связанных не конкретно-событийно, а ассоциативно. Эта часть романа насыщена различными микросюжетами, вставными эпизодами, не имеющими непосредственного фабульного отношения к жизни Василия Дашкова и связанными с ней исключительно идейными мотивами.
Салю название третьей части романа — «Двор посреди неба» — отражает тот образный лейтмотив, который, появившись в начале повествования, будет сопровождать развитие действия. Изменениям в судьбе героя соответствуют перемены в состоянии неба, высвечивающие все, что происходит на зеше. Меняющееся, небо — сфера, где сходится равнодействующая стремлений, мыслей, чувств, поступков героев. Небо — зеркало двора, позволяющее увидеть происходящее в нем без случайных и мелких черт.
Вот молодой Василий в дружеском застолье с новым жильцом дома и его женой:" Они говорили, а звезды все вспархивали, и, обжигая темь, падали за ближними крышами. Вспархивали и падали. Слова, на первый взгляд, были самыми незначительными — о погоде, о житейском, о мелочах разных, — но откровение общности коснулось их, и Дашкову вдруг показалось, сидят они с Иваном вот так уже много лет: вспархивают со своего места звезды, сгорают в пути, а они сидятцветет и опадает гречиха, а они сидятЛюба, дочери Любы, дочери дочерей Любы рожают других дочерей, а они сидят под самым куполом неба — в самой середине" /33,т.2Д73−174/. Здесь, в завязке действия, небо, космос, проницаемы для человека. Земное и космическое соотнесены, и земной полнокровности откликается гармония космоса. Действие начинается на некоей вершине жизни, в золотом ее веке, откуда движется по нисходящей, вплоть до низшей точки в конце. На исходе жизни Василий сидит во дворе с тем же Иваном Левушкиным, но картина уже совершенно иная:" Небо над ними набухало сырой тяжестью, все вокруг, сплюснутое ею, как бы втискивалось в землю, и, казалось, там, за серой толщей, уже давно ничего нет: ни солнца, ни звезд, ни самого неба, а есть только пустота, мутная и липкая, как этот дождь" /33,Т.2,254/. В этом космосе, потерпевшем крушение, лишенном гармонии, светлое человеческое начало растаяло в бесформенной пустоте.
Между этими двумя обликами «двор посреди неба» прошел долгий путь, свидетелем которого стал Василий Лашков. Роль пассивного наблюдателя была для него постоянной. Ему свойственна вечная отстраненность, самые драматические события в жизни двора Василий только наблюдает, не пытаясь вмешиваться. В. Максимов мотивирует это опытом гражданской войны, который гнетет героя. Этот опыт писатель подает в духе традиций литературы «потерянного поколения». Герои Э.-М.Ремарка, Ф.-С.Фипджеральда, Р. Олдингтона, возвращаясь с войны, испытывали жестокий кризис идеалов, отчуждение от общества. С этим перекликается и опыт, который выносит из своей армейской службы Лашков:" .Как и зачем прожил он свои теперешние тридцать девять лет? Куда шел? Чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против течения? В армию шел, будто на именины. Послали в пески — басмачей гнать. Басмач — враг. Значит — бей, значит — дави, значит — не давай пощады. Но в лицо этого врага довелось е у увидеть только однажды. И было ому врагу от силы лет семнадцать. И лежал этот самый враг у его, Василия, ног, простреленный навылет из его, Василия, карабина. И что-то тогда обуглилось в нем, застыло навсегда. И какая-то томительная тоска начала грызть его изнутри" /33,т.2,229/. Участие в кровавой борьбе, насилии выбивает теперь почву из-под ног, не дает вздохнуть полной грудью, ощутить осмысленность собственного пребывания на земяе.
Любовь на время придает жизни Лашкова содержание. Полюбив соседа по дому Грушу Гореву, Василий собирается на ней жениться. Прогулка с Грушей по Сокольникам — момент, когда он испытывает счастье, познает полноту жизни:" Пойдем туда, — он неопределенно махнул рукой в сторону узенькой просеки в березняке, — туда, где самое небо. И вдрут ему показалось, будто небо приблизилось к нему настолько, что до него можно дотронуться рукой. У/33,т.2,199/. Герой возносится к той же вершине под «куполом неба», с которой начиналось действие — космос абсолютно прозрачен, близок человеку. Но вскоре действительность возвращает Василия к его невольной роли свидетеля и соучастника. Против воли он оказывается вовлечен в недобрые, несправедливо-жестокие действия власти. Дашков бывает понятым при аресте жильцов дома — началась пора репрессий. Поначалу происходящее рождает в нем протест, толкает к бунту. Вот арестован брат Груши — Алексей. Василий должен порвать с Грушей, чтобы самому избежать ареста. Лашкова захлестывает ощущение полной беспомощности, он сдается и предает Грушу.
От пвсплесков боли и ярости, через осознание бессмысленности протеста Василий приходит к равонодушию. Небо над ним становитсядругим: «Прижатые низким небом почти к самым крышам, над городом текли птичьи станицы. Лашков смотрел в окно, вслушиваясь во вкрадчивую сентябрьскую поступь, и мутное равнодушие ко всему, словно вода вату, пропитывало его. Мир постепенно обезличивался в его глазах, предметы теряли обособленные черты, все вокруг сливалось в мельтешащий хаос.'.'/33,т.2,216/. Небо из купола превращается. в нечто давящее, способное прижимать, ограничивать. Мир теряет для Пашкова выразительность, возвращаясь к первоначальному хаосу. Этот хаос, предстающий в виде мутной пелены, серой толщи, за которой пустота, становится знамением надлома и внутреннего краха, которые Василий переживает. «Двор, сдавленный со всех сторон студеным небом, казался Лашкову каменным мешком.'.'/33,т.2,268/. Сейчас небо не просто давит на крыши, лишая воздуха, но превращает мир в каменный мешок, в который заключены люди.
В старости, перед смертью, Василий событие за событием, заново переживает всю жизнь — свою и двора. Двор выступает в романе неким социальным микромиром, изображенным на протяжении длительного этапа своей жизни. Все герои вступают в него, исполненные надежд, полные сил и стремлений, но так или иначе терпят затем жизненный крах. Они теряют все, чем обладали, находя лишь разочарование. Василию открывается общность его судьбы с судьбами всех жителей двора:" Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями. — Радость? Надежду? Веру?. Что мы принесли? Добро? Теплоту? Свет?. Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. Себя, душу свою. Все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово, и, может быть, живет еще. Живет!" /33,т.2,268−269/. В. Максимов указывает на главнзгю причину такого печального исхода: в жизни людей не было идеала, который придавал бы осмысленность и ценность делам и событиям. Герои действуют как бы в пустоте, у них нет никаких стремлений сверх обыденных, им присуще осколочное, нецельное воеприятие мира. Перед смертью Василий, перебирая прошлое в памяти, пытается выявить какую-то закономерность, ведущее начало в жизни двора. Его посещает предчувствие озарения, открытие, какое ему предстоит сделать. На пути к нему герой умирает. Его последний выдох: «Господи!» — есть знак настигающего его на пороге смерти озарения.
В.Максимов писал «Двор посреди неба» на переломе, в произведении отразился его собственный путь к христианской вере. В «Прощании из ниоткуда» есть рассказ о том, как рождалась финальная сцена части. Писатель разговаривает со своим случайным знакомым, шофером Иваном:" -Есть Бог, Алексеич, как ты думаешь?-Самому, Ваня, у кого спросить бы.-Эх, Алексеич, не хочешь ты со мной по-серьезному говорить, не ровня я тебе.-Честно тебе говорю, Иван, сам не знаю, сам у людей спрашиваю. И Владу внезапно подумалось:" А действительно, у кого спрашивать?" Но, едва засветив лампу на столе, он вдруг позаренно зашелся: «Да что же это я до сих пор гадаю, а ведь тут и гадать нечего: что значит „у кого“, у Господа, у кого же еще!» И концовка вещи вылилась тут же, на одном дыхании" /33,т.5,117/.
Ав1ор сам не отвечает, а спрашивает, ищет ответ вместе с ге-роями. Религиозное самоопределение В. Максимова очень повлияло на судьбы персонажей. Как видно из приведенного выше отрывка, писатель во время создания «Двора посреди неба» еще не до конца определился в своих воззрениях на религию. Обращение было не мгновенным, а поэтапным. Здесь для В. Максимова Бог — еще запредельная реальность. Василий Лашков обращается к Богу в момент смерти, для него религия не стаяа жизненной ценностью. Герои «Двора» не вспоминают о Боге во время своего кратковременного жизненного успеха, он здесь связан не с жизнью, а скорее, с иным миром, мысль о нем. появляетсяна границе жизни и смерти.
С поисками религиозного плана в романе переплетаются исторические. В судьбах братьев Лажовых В. Максимов ищет ответ на вопрос: где же корни, истоки большевизма?.Его историческая концепция, формирующаяся на страницах романа, остается открытой. Стремясь дать ответ, писаетлъ вводит в произведение различные точки зрения, предоставляя право высказаться всем, с тем, чтобы в возникающей разноголосице раскрылась логика самой действительности.
На другом поколении Дашковых сказались уже устоявшиеся результаты того процесса, в начале которого стояли старшие члены сежи. И их судьбамони придали драматические повороты.
Новые черты Лажовых намечены в следующих частях романа — «Четверг. Поздний свет» и «Пятнила. Лабиринт», посвященных Вадиму, внуку Петра Васильевича, и Антонине.
Вадим, артист-эстрадник, до тридцати пяти лет разъезжавший по городам с концертами, осознав бессмысленность своей жизни, пытается совершить самоубийство, но остается жив и попадает в психиатрическую больницу. Трагический опыт играет для него спасительную роль, как бы очищая от наслоений жизненной суеты, заставляя внутренне двигаться.
Бунт Вадима начинается стихийно, он как бы «выламывается» из среды. Жизнь-пустота, которой он жил, после кризиса начинает наполняться смыслом. Для становления нового сознания Вадима огромное значение имеет пример, который он находит в лице двух верующих христиан — Крепса и священника отца Георгия. Но до настоящего приобщения к тому, чем они живут, до христианского подвижничества, ему еще далеко. Вадим обостренно чувствует существующее вокруг него зло, может сделать выводы о причинах его всеобщности. В нем как бы совмещаются три поколения: Вадим ощущает свою особую связь с дедом, тот, в свою очередь, распознает во внуке черты сына Виктора:" Витька, вылитый Витька, только еще покруче". Сын узнавался во всем: та же неумеренная горячность, то же стремление докопаться во всем до сути, те же внезапные, вне связи с предыдущим обороты речи" /33,т.2,465/. Из всех Лашковых Вадиму наиболее свойственна рефлексия, зовущая его к разрыву со средой. Он сознает свое двойственной положение: жертвы и соучастника.
Несомненна особая близость этого героя автору — за ней стоит подспудное желание писателя рассказать о себе, в сюжете своей, а не вымышленной жизни, что и осуществилось позже в «Прощании из ниоткуда» .
Тема связи соучастников и жертв звучит и в «Лабиринте». Там Антонина, дочь Петра Васильевича, и ее муж Николай оказываются жертвами бесчеловечной системы и одновременно соучастниками ее дел.
В этой части романа В. Максимов соединяет два пласта: сюжетные и образные мотивы повестей и, с другой стороны, беллетристически оформленные публицистические этюды, изображающие идейные споры, включающие действие в контекст общественных процессов 60-х годов. Герои, связывающие эту часть с действием всего романа — Антонина и Николай, превращаются в значительной мере в статистов. «Лабиринт» включает в себя серию идеологических дискуссий, в которых представлены разные точки зрения на советскую действительность, на революцию, на пути возможных преобразований. В. Максимов стремится в открытом сопоставлении представить различные течения, не отдавая явного предпочтения ни одному из них.
В сферу действия прямо или косвенно включаются диссиденты, религиозные активисты. Открытое проявление разных позиций, дискуссионная постановка вопросов приоткрывают подспудное нарастание общественного протеста. В. Максимов выступает как летописец этого процесса.
К характерным мотивам повестей, использованным в этой части, относится, например, перенесение действия в некое уединенное место, где люди, будучи на время изолированными от быстротекущих событий и жизненной суеты, выявляют свою суть. Такой прием использован в «Мы обживаем землю», «Балладе о Савве». Кроме того, здесь присутствует и характерное для В. Максимова перенесение персонажей из одного произведения в другое. Так, комендант общежития Христофорыч со стройки, куда попадают Николай и Антонина, вспоминает Зяму Рабиновича, одного из персонажей повести «Жив человек'.' Жуликоватый бригадир Карасик имеет явное сходство с мастером из «Баллады о Савве». Герои обнаруживают родство и внутри романа: Осип Меклер, сын дантиста Меклера из «Двора посреди неба» — бригадир на стройке в «Лабиринте». В. Максимов отводит этому герою весьма важную роль в идейном и сюжетном планах. История Осипа и его драма, завершившаяся самоубийством, обостряет сюжетные коллизии и возвышает действие от быта к трагедии.
Гибель Осипа оказывается катализатором того внутреннего развития, тех перемен, которые происходят в Антонине. Выше уже отмечалось, что человек, который внутренне не меняется, не переживает трудного процесса самообновления личности, В. Максимову просто не интересен и не может стать сколько-нибудь значительным персонажем в его произведениях. Так, например, произошло с Николаем — писатель не находит мотивации для изменений в личности этого героя, и он так и остается на протяжении всего действия статистом.
Однако в «Лабиринте» присутствуют и некоторые противоречия, обусловленные неразрешенностью многих вопросов для самого автора. Противоречия эти проявляются в развертывании действия — в рассказе о жизни и гибели Осипа Меклера. Вот как представлены мысли Антонины в момент, когда она узнает о самоубийстве Осипа:" Перед ней явственно обнажились причины и связи событий, происходивших вокруг нее последнее время. Она воочию, шаг за шагом проследила, как зрела, набирала силу сегодняшняя гибель Осипа. Случайный этот обман был лишь последней капелькой, заполнившей ему душу, а той, что выплеснула ее через край, стала их недавняя близость. Совсем не такой оказался мир, каким Осин создал его в своем сердце. Мир этот просто вытолкнул его из себя:" Бек тебе его замаливать, Антонина, не замолить" «/33, т. 2, 418/. Здесь налип, о ситуация катарсиса, характерный для максимовского героя случай, к которому писатель питает особое пристрастие и повторяет из произведения в произведение. Это итог взаимоотношений героини с Осипом, итог развития его образа и связанной с ним темы.
Проследим, как возникает и разворачивается на страницах «Лабиринта» эта тема. Антонина с мужем приходят устраиваться на работу: «Когда Антонина, вслед за хозяином, переступила порог прорабской, там, кроме хозяина, находился неизвестный тощий парень лет двадцати пяти, в заляпанном раствором комбинезоне» /33,т.2,364/.
Осип представлен здесь первым, раньше «хозяина» — он выделен -" неизвестный тощий парень". Вот Антонина разглядывает его более пристально:" Высокий, худой, несколько сутуловатый, с резко вырубленным профилем, он задумчиво щурился на ходу, словно разглядывая вдали что-то ему одному видимое. Парню можно былсЦбы дать не менее тридцати, если бы сквозь мягонькую щетинку на его впалых щеках не светился густой, почти мальчишеский румянец" /33,т.2,367/. Крутозор персонажа /в данном случае Антонины/ слит, что очень характерно для В. Максимова, с авторским кругозором — впечатления, возникающие у Антонины, явно навеяны тем знанием: о герое, которое в данной ситуации доступно лишь автору. Оно станет доступно и ей тоже, но лишь в конце, как результат полученного опыта /" .Явственно обнажились причины и связи событий.'.'/. Писатель опережает здесь художественную логику развития характера в нетерпеливом желании высказаться сразу и до конца. Далее акцентируется внимание на особых, выделяющих его среди других, чертах Осипа: на его исключительном владении неким знанием /" .Словно разглядывая что-то, ему одному видимое.'.'/, на несоответствии физического возраста и психологической зрелости. Несколькими страницами ниже укрупняются черты облика героя, окончательно выявлена его особая, даже симовлическая роль в романе:" Подперев кулаком щеку, Осип невидяще смотрел прямо перед собой, и в его настороженном облике Антонине почудился отсвет какого-то еще неведомого ей знания, которое безмолвно излучал этот, едва знакомый ей человек. Да, да, это были не скорбь, не печаль, и даже не безразличие, а именно вещее знание того, что она должна была постичь лишь в будущем" /33,т.2,371/. Таким образом, Осип принадлежит к особому кругу людей, причастных к некоему знанию, и предполагается, что к этому же кругу будет причастна и Антонина. Но что же это за «вещее знание»? Очевидно, это не то знание, что дается жизненным опытом или образованием, его источник как-то затушеван, скрыт В.Максимовым. Однако в романе оно упоминается не раз — им проникается Петр Васильевич, его ищет Вадим, смутно догадывается о нем Андрей Дашков. Очевидно, что речь идет о религиозном знании, которое не может являться результатом конкретного опыта или жизненного урока, а может быть только результатом длительного приобщения, глубоких внутренних перемен. Здесь и завязывается противоречие.
Осип Меклер, так, как он представлен в «Лабиринте», не несет в себе оснований для той высоты — идейной, философской, религиозной, на которую поднимает этот образ В.Максимов. Вот герой представляет сам себя, рассказывая историю своей жизни:" Наверное, я только здесь почувствовал себя человеком. С детства, сколько себя помню, за мной, как хвост, тянулось промятое слово «жид». /./ Но однажды я ушел из дома././ Прожил я таким образом месяца полтора, подрабатывал на погрузке, приворовывал по мелочам. /./ И ни разу за это время даже не вспомнил о своем происхождении. И никто не вспомнил. /./ И понял, что ненавидят не нас самих, не нашу национальность, а наше благополучие, наше неучастие во всеобщей нищете, наши не связанные с черной работой профессии. Национальность наша лишь бирка к ненависти, короткое наименование злобы" /33,т.2, 388/. Упор, как всегда у В. Максимова, сделан на значительность жизненного опыта, приобретенного во время странствования:" .И тогда я понял.'.' Герой-бродяга, перекати-поле, этот образ на редкость устойчив и постоянен у писателя. В сущности, таковы все герои его повестей, но здесь он усложнен идейными мотивами — герой" уходит в народ", дабы, приобщившись к его судьбе, «почувствовать себя человеком» .
Итак, Осип Меклер решил:" как только закончу школу, нарочно провалиться на вступительных, чтобы уйти работать вместе со всеми, и чем тяжелей, тем лучше. '.'/33, т. 2,388/. Герой выглядит «кающимся интеллигентом» новой формации. Но вот что обращает на себя внимание: в основе поступка /" выламывания из среды" / - мысль о себе, поиски комфортного самоощущения. Герой ищет для себя не действия, а гармонического состояния, устраивающих его взаимоотношений с миром. Задавая этическиую доминату как первоначальный толчок к изменению судьбы /Антонина угадывает в Осипе главенство именно морального начала, определяющего его поступки:" Такого не купишь.- Чувство вины и неловкости перед ним одолевало ее.- Совесть не та" /33,т.2, 386//, В. Максимов уходит от нее к национальному самоощущению. Вырисовывается, как будто, еще один из многочисленных максимовских бродяг, но с иными мотивами поведения. Писатель совмещает свой старый постоянный тип человека-бродяги, искателя дальних дорог и любителя длительных странствий, пребывающего в конфликте с обществом, с ново# проблематикой. Но мост, соединяющий то и другое, слишком хрупок. Меклер нашел то, что искал:" Я окончательно почувствовал себя человеком". Но перелома, обновления и пересмотра взглядов не ожидается. Герой уже достаточно зрел и опытен, мир не грозит ему открыться какой-то новой, неожиданной стороной. Вот как определена мера достигнутого Осипом жизненного знания:" Мальчик, как говорится, из хорошей сежи. Школу с медалью закончил. Но вместо института он выбрал самую что ни на есть глухую стройку. Что, трудовой энтузиазм? Отпадает. Мальчик слишком трезв для дешевого идеализма. Блажь? Порода не та. Что же тогда, ответь, если сможешь?-Ну уж и не вера, разумеется!-Как знать. Скорее, ее предчувствие. Несовместимость чистой души с изолгавшейся средой выталкивает ее в стихию" /33,т.2,391−392/. Здесь акцентируется иной аспект судьбы Осипа: несовместимость с миром, в котором герои живут. Ему самому до времени кажется, что он нашел нишу, счастливо избежал соучастия в делах власти. Это обеспечивало ему спокойствие и внутреннее самоуважение. Разрушения этой иллюзии герой не выдерживает и кончает с собой. Самоубийство — реакция на неожиданный удар судьбы:" Совсем не такой оказался мир, каким Осип создал его в своем сердце. Мир этот просто вытолкнул его из себя.'.'/33, т. 2,418/.
Осип представлен как бы в двух ипостасях: с одной стороны, это человек, знающий цену жизни и людям, прошедший закалку и готовый отстаивать свои убеждения, а с друтой — несчастная жертва несправед-ловостей, царящих в мире. Осип внезапно обнаруживает себя среди соучастников и не может этого вынести:" Закройте, как говорится, занавес, жизнь не состоялась. /./ Я думал, что отделался довольно удачно, что здесь-то уж меня никто не станет впутывать в свои темные игры. А вышло, что не я их, а они меня обошли" /33,т.2,412/.
Болезненное осознание своей беспомощности перед лицом жестокой силы приводит героя к гибели.
В сущности, В. Максимов здесь рисует трагедию" маленького человека", против своей воли вовлеченного в жестокие обстоятельства, выбравшего неучастие в делах системы и не вынесшего открывшейся иллюзорности этого неучастия. Для героя мир теряет свою стройность, как бы мгновенно рассыпается. Однако никак не примиряется двойственность его натуры — он и" маленький человек", и герой-бродяга, уверенно утверждающий право на особую судьбу.
Никак Б. Максимов не обосновывает и ту идеологическую нагружен-ность, которая сопровождает героя на протяжении всего действия. Вот начало «Лабиринта», разговор между Осипом, и комендантом общежития Христофорычем, бывшим белоэмигрантом, отведавшим и советских лагерей. Комендант высказывается по весьма больному и опасному для говорящего вопросу — о роли евреев в революции:" Что я имею к евреям! Комендант оживился, с готовностью идя навстречу партнеру.- Спроси, что они имеют ко мне? Я старый человек, мне нет смысла кривить душой, но прекрасно помню, как это все начиналось. Бывало, стучат. Стучат, конечно, прикладами, так внушительнее. Откроет это нянюшка моя, Анастасия Карповна, царствие ей Небесное, а на пороге непременно хлюст в кожанке, наган на боку болтается. И уж, будьте уверены, или жид, или латыш. И чуть что, — сразу на мушку. Ты, Сся, человек грамотный, начнешь, конечно, молоть сейчас насчет полосы оседлости и еврейском люмпенстве, как питательной среде революции. Но ты мне скажи, спокойствие-то кровожадное откуда? Люмпен, он вспыхнул и погас. У него классового гнева ровно до первой жратвы хватает. А ваши методически убивали. Убивали, будто нудный обет исполняли. Детишек, и тех не жалели. Романовых, к примеру. Видно, хоть и отказались от веры отцовской, не избыли ее в себе. Сидел в них Яхве, глубоко сидел.
Вот и давили гоев. Гоя можно, rot не человек'.'/33,т.2,369−370/. Тирад, а зта, звучащая, из уст спивающегося старика-коменданта, вполне искусственная, не мотивирована каким бы то ни было участием в действии, и нужна лишь для того, чтобы представить в романе определенную точку зрения. Сам комендант изображен не как самостоятельная в интеллектуальном отношении фигура, взгляды его противоречивы. Сказанное им — явный парафраз из самиздатских работ. В среде, являвшейся производителем и потребителем самиздата, разумеется, были известны такие работы, как очерк В. В. Шульгина «Что нам в них не нравится», сборник «Евреи в России» и другие подобные работы, как раз в 60-е годы разворачивается деятельность людей, группировавшихся вокруг самиздатского журнала «Вече» и организации ВСХСОН.
Приобщение к данной проблематике героев «Лабиринта» совершенно неправдоподобно и выглядит чистой условностью. В самом деле, слушатель, к которому со своим монологом обращается комендант — Осип. Христофорыч заранее предупреждает его возможные возражения, сразу же торопится их отвести:" Ты, Ося, человек грамотный, начнешь, конечно, молоть сейчас.'.1 Но Осип и не пытался серьезно возражать, отделываясь вялыми замечаниями:" Были и другие, Христофорыч". Апелляция к нему опять-таки выглядит чистой условностью — за Осипом комендант признает знание тех сведений, какими была полна самиздатская литература — ведь ни личный опыт, ни какой-либо иной источник дать их попросту не могли. Те рассказы о себе, которые принадлежат самому персонажу, оставляют его на уровне героя-бродяги из повеете'1, воспринимающего все происходящее на уровне чувства, интуиции, не способных к развитой рефлексии.
В.Максимов вводит элементы дискредитации коменданта, заставляя того произносить несправедливые и утрированно-глумливые слова о русском крестьянстве. Сама сцена этого разговора решена в карикатурномдухе:" Упираясь пальцами в грудь собеседнику, комендант трубно втолковывал ему:-Мужички, говоришь? Кормильцы! Это они тебе здесь в жилетку плачутся — от колхозной, мол, голодухи, на заработки приехали. А ты и развесил уши. Слушай их больше! /./ Не терпит русский мужичок, чтобы кто-нибудь выделялся. Сни живут по-свински — значит, все так же должны-жить. Потому и ненавидит Европу, да и весь мир презирает. /. / Боровской, небось, бездельный народ, а ты нюни распустил: трудоднем сирого задавили! /./Но Альберту Гурьянычу было явно не до дискуссии на отвлеченные темы. С тоскливой жаждой следил он за рукой Антонины, разливающей по стаканам содержимое поллитровки:-Выкуси, закуси. Прах все это." /33,т.2,379−380/. Здесь пересказываются идеи, касающиеся русского национального характера, русского менталитета, активно обсуждавшиеся в то время в самиздате. Парадоксальным образом комендант, словно забывшись, предстает здесь крайним западником, презирающим русского крестьяниназвучат и нотки, уместные со стороны отъявленного технократа: «Рабочий, ученый нынче сам себя кормит, золото добывает, нефть, машины, книжки делает, которые за кордон за жратву и тряпки идут» /33, т.2,379/. В. Максимов совместил в высказываниях одного человека проявления разных, взаимоисключающих позиций. В условиях, когда общественная мысль развивалась во многом подспудно, а общественная жизнь принимала, в силу своей нелегальности, нередко уродливые формы, писатель, задавшись сделать ее предметом изображения, оказывался в роли некоего Колумба, открывающего миру новые, совершенно неизвестные материки. Сама злободневность материала, который просто обжигал руки и запросто мог одним только с ним соприкосновением привести на скамью подсудимых или вынудить к эмиграции, вынуждалапри возможно большем охвате идеологического пространства комкать ма ериал, сужая и упрощая собственно художественный строй произведения. Повествование из рук писателя в такие моменты. как бы переходит в руки публициста — тоже литератора, но озабоченного прежде всего непосредственным изображением реалий идеологического и политического рода. Литературность текста в таких случаях выступает просто как подспорье, позволяющее проиллюстрировать ту или иную мысль автора. Такое положение вещей, разумеется, не является господствующий/] в романе, но в данной части его признаки, несомненно, присутствуют.
В «Лабиринте» В. Максимов более всего занят созданием" политической карты" общества, нанося ее эскизно, в приблизительных контурах. Отсюда и совершенно условная роль сюжета, вполне произвольного по своему строению. Канва действия в основных своих чертах взята из повестей. Как и в повестях, здесь присутствует подспудное драматургическое начало. В сущности, «Лабиринт» похож на пьесу, развернутую в повесть. /В нем соблюдается единство места действия. Персонажи заявляют о себе в диалоге, проявляют себя в поступке. Динамично развивается сюжет, складывающийся из нескольких поворотов событий. Нарастание драматизма происходит последовательно от завязки к развязке и заканчивается катарсисом.
Последняя часть романа — «Суббота.Вечер и ночь шестого дня» -представляет собой подведение итогов повествования. Здесь с завершающей полнотой раскрывается замысел романа — через череду внутренне связанных сюжетов создать всеобъемлющую картину жизни общества, по-пытаться дать ответ на самые больные вопросы. В. Максимов писал в мае 1973 года, покидая Союз писателей:" Эта книга для меня — результат многолетних раздумий над удручающими и уже необратимыми явлениями современности и горчайшего личного опыта. Почему в стране победившего социализма пьянство становится общенародной трагедией? Почему за порогом полувекового существования страны ее начинает разъедать патологический национализм? Почему равнодушие, коррупция и воровство грозят сделаться нормой нашей жизни? Где истоки всего этого, в чем первопричина такого положения вещей? Вот примерно те вопросы, которыми я задавался в процессе работы над книгой" /33,т.5, 248−249/. Нетрудно заметить, что В. Максимов ставит здесь не столько конкретные вопросы, связанные непосредственно с «Семью днями творения», сколько повторяет то общее, чем была полна самиздатская пресса той поры, о чем: говорилось в интервью иностранным корреспондентам, о чем. писалось в эмигрантских изданиях и т. д. Автор вписывает свое произведение в определенный контекст, обозначая место романа прежде всего в общественной жизни.
Определяя свою работу как честную попытку осмыслить происходящее со страной и народом, В. Максимов действительно занимал особое место в отношении к советскому опыта/. Ведь в центре произведениястарый большевик, революционер Лашков. Ему выпадает завершить роман, представляющий своего рода пространный идеологический диспут, роман, выстроенный как глобальный диалог, где никому из персонажей не принадлежит право последнего слова.
Петр Васильевич раскрывает себя прежде всего в отношениях с окружающими, ему не слишком свойственна рефлексия, он — человек действия, поступка. Последняя часть романа содержит несколько красноречивых, эпизодов, характеризующих героя с разных сторон. Действие выстроено как смена картин-воспоминаний героя о прошлом и встреч в настоящем. От встречи к встрече, каждая из которых является значительной вехой, поворачивающей течение действия, события накапливают потенциал, тайное напряжение, которое разрешается в поступкеЭмоциональное впечатление от разговора живет в сознании героя, то отступая на периферию, то властно направляя его масли. Такая це.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Творчество Владимира Максимова складывается в соприкосновении с ведущими течениями литературной и духовной жизни современности. В диссертации очерчены основные особенности творческой индивидуальности писателя, отразившие основные закономерности эпохи. В мировоззрении В. Максимова в знаменательной форме проявился процесс смены исторических эпох, преодоления коммунизма, последствии произведенных им духовных потрясении. Писатель оказался на рубеже, на сломе: принадлежа к «детям революции», сформировавшись в советскую эпоху, и человечески, и творчески уже вступив в пору зрелости, он испытал перемены, преобразившие его судьоу и творчество. Христианство оказало мощное воздействие на судьбу и художественный мир и. максимова, придав новое направление его литературной и человеческой судьбе.
в диссертации рассмотрено идейно-художественное своеобразие максимовского творчества во взаимосвязи с его мировоззрением.
Основные элементы, определяющие художественный почерк писателя, сложились в повестях: острый конфликт, динамичные изменения в личности героя, ретроспективная композиция, дискуссия как способ представления идеи, морализм, они приобрели новое звучание с выходом на уровень осмысления действительности, определенный христианским мировоззрением автора. Выявилось ведущее значение христианской идеи как организующего фактора в развитиии сюжета, в реализации идейного замысла.
Кризисное, эсхатологическое сознание, свойственное ь. шксимову, ожидание «Новой Земли и Нового Неба» нашло отражение в экстремальности сюжетных ситуации, развитии мотивов бунта, «выламывания» .
героя из жизненной среды. «Мы живем в экзистенциальное время, время окончательного выбора» , — говорит Вадим Лашков в «Семи днях творения». «окончательный выбор близок» , — вторит ему автор.
Для всех романов В. шксимова актуальна проблема пути к вере, религиозного обращения как обретения смысла и цели жизни, спасения от хаоса и противоречий действительности, разрушающих душу.
Способы включения религиозной проблематики в повествование, логика духовной эволюции главного героя, проходящего путь приобщения к вере, найденные в «Семи днях творения», сохранились и получили развитие в последующих романах. Ь них появляется мотив обретения правды, религиозной истины в потрясениях, в гибельных обстоятельствах, когда люди и их убеждения подвергаются последней проверке на прочность, а таком ключе раскрываются судьбы Золотарева и иамохина в «Ковчеге для незваных», колчака в «Заглянуть в бездну» В романе «Карантин», где этот мотив еще не освоен полностью, писатель прибегает к условности: сознание героев погружено в сны, видения, фантазии, которые выступают средствами приобщения к религиоз пому измерению мира.
Характерные жанровые признаки романистики ь. максимова: экстремальность сюжетных ситуаций, использование исторических и околеп-ских сюжетов, образов, закрепленных в культурной традиции и раскрывающихся в настоящем времени действия, дискуссия героев-" идеологов" разворачивающих в свободном диалоге различные позиции, ретроспективная композиция, позволяющая расширять пространство и время действия. С ретроспективной композицией связан и мотив «путешествия в прошлое», в котором раскрываются истоки и смысл судьбы героев. Сквозным для всего максимовского творчества является мотив «выламывания» из среды. Он варьируется от условно-симовлического, чисто духовного акта в «Карантине» до прямого, физического ухода в.
" никуда" эмиграции в «Прощании из ниоткуда», и во всех случаях очевидно его автобиографическое происхождение.
13.Максимов писал:" По традиции считаю, что всю литературную жизнь пишу одну книгу, только инстинктивно рассеченную на отдель-ные периоды, связанные с тем или иным душевным и духовным поворо-том" /ь1,126/. Эта книга еще не дописана, но ее контуры в основном уже определились.
Важной составляющей творческого своеобразия писателя является диалог с идеями и социально-фило с оф скими учениями, созданными предшественниками и современниками, а диссертации рассмотрены в аспекте сопоставления роман «Семь дней творения» и некоторые работы выдающегося мыслителя и публициста й.а. Ильина. Выявлено очевидное сходство как мировоззренческих позиций, так и некоторых конкретных представлений, касающихся национальной самобытности госсии, ее мирового предназначения и путей возрождения.
Уникальность и своеобразие творческой и человеческой судьбы ъ. Максимова определяется тем, что в них нашли соединение советский — литературный и человеческий, и эмигрантский виды опыта, ибретя религиозное мировоззрение, он отринул прошлое, но не избавился от него, состоявшись как художник на рубеже эпох, в. максимов воплотил в своей судьбе и творчестве многие важные черты переходного периода, метаморфозы истории, Его диалог со временем продолжается.
Список литературы
- Аверинцев С. Вечный образ /Мифологизир. биогр. земной жизни Иисуса Христа в лит. и искусстве/ //Слово:В мире кн.-1989.-№ 8.-С.41−43.
- Агеносов В.В. Советский философский роман.-М.:Прометей, 1989.-300 с.
- Ажгихина Н. Уроки «третьей волны» //Обществ.науки и современность.-1992.3.-С.109−115.
- Анищенко Г. Искусство, которое заповедано Богом //ВЛ.-1991.-№ 8.-С.10−18.
- Антонов Н. Годы безвременщины //Грани.-1973.-й 89/90.-С.229−245.
- Антонов Н. Крест и камень //Грани.-1974.-Л 92/93.-С.295−310.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.:Сов.Россия, 1979.-320 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.:1986.-455 с.
- Ю.Бондаренко В. Молитва о всех заблудших /Христианская проза
- Владимира Максимова/ //Денъ.-М 29/57/.-1992.
- Бочаров А.Г. Бесконечность поиска. Худож. поиски соврем.сов. прозы.-М.:1982.-423 с.
- Бурсов Б.И. Судбба Пушкина.-Л.:1989.
- Герасименко А.П. Русский советский роман 60−80-х годов /Некоторые аспекты концепции человека/.-М."Изд-во МГУ, 1989.-202 с.
- Глэд Д. Беседы в изгнании: Рус. лит. зарубежье.-М.:1991/1992/.
- Грибанов А.Б. Заметки о жанре видений на Западе Ии Востоке //Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Выпуск четвертый. М.:Наука, 1989.-301 с.
- Грибанов Б. Гнев и сострардание Фолкнера //Фолкнер У. Особняк. Свет в августе.-М. :Худ, лит., 1975.
- Езерская Б. Мастера.-Ann Arbor 1982.Кн.1.
- Иванова Н. Б. Вольное дыхание //ВЛ.-1983.-№ 3.-С.179−214.
- Иверни В. Постижение //В лит. зеркале, с.34−58.
- Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. В 2-х томах.-М. :Рарог, 1993.-448 с.
- Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948−1954 годов. В 2-х томах.
- Т.1.-М.:Рарог, 1992.-344 с. Т.2.-М. :Рарог, 1992.-272 с.
- Ильин И.А. О Тьме и Просветлении.-М.:Скифы, 1991.-216 с.
- Каганская М. Шутовской хоровод //Синтаксис.-М2.-1984.-С.139−190.
- Ковалев В.А. В ответе за будущее: Леонид Леонов. Исследования и мат ериалы.-М.:1989.-302 с.
- Копелев Л.З. Советский литератор на Диком Западе //Синтаксис.-1979.-Я 5.-С.152−160.
- Краснов-Левитин А. Владимир Максимов. Топот вдали //В лит. зеркале, с.124−196.
- Кустарев А. Исполнители: Размышления о рус.эмигранявк.лит.- 155 //Согласие.-1993.2.-С.185−205.
- Максимов В.Е. Собрание сочинений. В 8-ми томах.
- Т. 1. -М. ТЕРРАД991. -512 с.т. 2. -М. ТЕРРАД991. -512 с.т. 3. -М. ТЕРРАД991. -368 с.т. 4. -М. ТЕРРАД991. -432 с.т. 5. -М. ТЕРРАД992. -272 с.т. 6. -М. ТЕРРАД992. -287 с.т. 7. -м. ТЕРРАД993. -272 с.т. 8. -м. ТЕРРАД993. -464 с.т. 9. -м. ТЕРРАД993. -384 с.
- Максимов В.Е. Будет ли лучше? Беседа с Владимиром Максимовым //Москва.-1992.-$ 5/6.-С.4−9.
- Максимов В.Е. В одиночку из беды не выскочить /Беседа с писателем Владимиром Максимовым/ //Труд.-1991. -5 • шв.
- Максимов В.Е. Возрождение ткани жизни /К оценке полит, и эконом, перемен в России: Беседа с главным ред.журн."Континент"/Париж/ В. Максимовым/ //Деловые люди.-1992.2.-С.56−58.
- Максимов В.Е. Ваша страна /Интервью о писателем Максимовым/ //Театр.жизнь.-1991.23.-С.11, 29−31.
- Максимов В.Е. В преддверии нашего завтра //Континент.71.-1992.-С.275−276.
- Максимов В.Е. Где тебя ждут, ангел? Встречи в двух актах, шести картинах //Континент.-,®- 75.-1993.-С.23−59.
- Максимов В.Е."Если бы я знал, что все так обернется. Г /Беседа с писателем В.Е.Максимовым/ //На боевом посту.-1993.-й 5/6.1. С. 38−40.
- Максимов В.Е."Если весь организм больной, то. У /Беседа с писателем Б. Максимовым/ //Театр.жизнь.-1990.16.-С.15−17.
- Максимов В.Е. Игра Запада с экс-Союзом может закончиться в пользу государства мафии //Рос.газ.-1993.-10 апр.
- Максимов В.Е. Из России я не уехал /Беседа с писателем В. Е. Максимовы.^/ //Рос.газ.-1991.-8 июня.
- Максимов В.Е. Кому нужен том речей Ландсбергиса? /0 пробл. России: Беседа с писателем В. Максимовым/ //Независимая газ.-1991.-21 феир.
- Максимов В.Е. Культура русского зарубежья /Беседа с писателем В. Максимовым/ //Телевидение и радиовещание.-1990.5.-С.29−33.
- Максимов В.Е."Конец прекрасной эпохи" //Рос.вести.-1993.-15 июля.
- Максимов В.Е. Мистика социализма //Континент.-1982.-$ 31.-С.345−347.
- Максимов В.Е. Мы все на одной галере /Беседа с писателем В.Е. Максимовым/ //Труд.-1991.-17 окт.
- Максимов В.Е. «Ш думали, что начинаем новую эпоху.'.' //ЛГ.-09.05.90.-$ 19/5293/.
- Максимов В.Е.1.Мы снова сползаем в XIX век /о ситуации в б. СССР: ст. из Парижа/ //Коме.правда.-1992.-27 марта.
- Максимов В.Е. „Надо признаться — все мы жертвы,.? //Книжн. обозр.-$ 14.-6 апреля 1990 г.
- Максимов В.Е. „Не будьте свиньями, бегущими к пропасти!“ /Беседа с пписателем В.Е. Максимовым/ //Вестн.противовоздушной обороны.-1992.10.-С.6−8.
- Максимов В.Е. Не принимаю такую борьбу /Беседа с писателем В. Е. Максимовым //Учит, г аз.-1991.-1−8 января.-Л 1.
- Максимов В.Е. „Неужели это колокол наших похорон?.//Правда.1602.94.-$ 23/27 198/.
- Максимов В.Е. Нужно общенациональное примирение /Беседа с пи%сателем В.Е. Максимовым/ //Известия.-1990.-3 мая.-/Моск.веч. выпуск/.
- Максимов В.Е. Писатель, диссидент, эмигрант, парриот /Беседа с писателем В.Е. Максимовым/ //Междунар.жизнь.-1992.1.-С.150−158.
- Максимов В.Е. Письмо из Парижа //ЛГ.-28.02.90.-$ 9/5283/.
- Максимов В.Е. „Покаяние интеллигенции — вот что сейчас нужно России /Беседе с писателе^/ //Поиск.-1990.-11−17 мая.-№ 19.
- Максимов В.Е. Примирить"правых"и"левых“ /0 полит. ситуации в России/ //Рос.газ.-1991.-22 ноябр.
- Максимов В.Е. Прощание с эпохой //ЛГ.-07.10.92.-$ 41/5418/.
- Максимов В.Е. Сага о носорогах.- РгапкШр^м -1981.-254 с.
- Максимов В.Е."Сделать шаг навстречу друг другу.“ //Кн.обозр.-1991.-26 апр.-$ 17.
- Максимов В.Е. Соблазненные словом /Образ рос. интеллигенции/ //Смена.-1992.-$ 7.-С.16−24.
- Максимов В.Е. Стыдно ли быть русским патриотом? //Коме.правда.-1991.-29 мая.
- Максимов В.Е. Что с нами происходит? /6 нравств.пробл.человечества/ //Кн.обозр.-1991.-25 окт. —$ 43.
- Максимов В.Е. Я без России — ничто //Наш современник.-1993.-№ 11.-С.161−169.
- Максимов В.Е. Я боролся с коммунизмом, а не с Россией //Коме, правда.-1992.-31 дек.
- Максимов В.Е. Я считаю, что началась агония странн //Голос.-1991.-9−15 дек.-$ 4 В.
- Максимов В.Е. //Октябрь.-1968.-Я 3.-С.17.
- Максудов С. Свободные голоса в твердом перевлете //Сов.биб-лиогр.-1989.-$ 6.-С.32−39.
- Марамзин В. Русский роман Владимира Максимова „Прощание из ниоткуда“ //В лит. зеркале, с.73−84.
- Меж двух берегов: Лит.рус.зарубежья вчера и сегодня: „Круглый стол"журнала „Москва“ //Москва.-1992.7/8.-С, 149−155.
- Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа.-М.-.Наука, 1986.-320 с.
- Мережковский Д.С. Атлантида — Европа: Тайна Запада.-М.:Русская книга, 1992.-416 с.
- Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет.-М.:Сов.пис.-1991.-496 с.
- Милыптейн И. Старый человек со свечой в руке /По материалам беседы с писателем В. Максимовым/ //Стонек.--1991.-1 24.-С.18−19.
- МЬрель Ж.-П. Страждущая русская земля и русская душа в творчестве Владимира Максимова /Владимир Максимов: у истоков выдающегося творчества/ //В лит. зеркале, с.85−96.
- Нинов А. Где начинается горизонт? //В лит. зеркале, с.262−263.
- Новиченко Н.Л. Вечно новый реализм./К соврем. спорам о худож. многообразии/ //BI.-1982.-I 7.-С.3−36.
- Окуджава Б. Несколько сцен из провинциальной пьесы //Родина.-1991.-й 4.-С.70−73.84.0сетров Е. Поэзия и проза „Тарусских страниц“ //JEF.-1962.-9 янв.- 159
- Песонен П. Образ Христа в „Петербурге“ Андрея Белого //Уч.зап. Тарт.ун.вып. 897, Тарту.-1990.-С.102−118.
- Полторацкий Н.П. Иван Александрович Ильин.- fenaflay, 1969“
- Пугач А. В гостях у „Континента“ //Юность.-1989.12.-С.80−84
- Ржевский Л. В.Максимов."Прощание из ниоткуда“ //Новый журнал.-1975.119.-С.300−303.
- Ржевский I. Триптих В.Е.Максимова. //В лит. зеркале, с.96−124.
- Рубин И. Раскаяние и просветление //В лит. зеркале, с,22−32.
- Селю Ю.С. Высота неба: Понятие „высота неба“ в некоторых произведениях живописи нов. времени и в рус.лит. //Интеллектуальные процессы и их моделирование. Пространственно-временная организа ция.-М. :Наука, 1991.-240 с. С.219−239.
- Тарусские страницы.-Калуга:Кн.изд-во, 1961, — 319 с.
- Тихомиров C.B. Забыв и рощу, и свободу: 0 релит. теме в литерату роведениии и кинематографе послед. десятилетий //Лит.обозр.-1992.-te 10.-С.82−93.
- Эб.Урнов Д. Проблема, выдвинутая жизнью: Тема религии в худож.лит. //ВЛ.-1991.8.-С.3−6.
- Утехин Н.П. Жанры эпической прозы.-Л.:1982.-185 с.
- Федотов Г. П. Об антихристовом добре //Федотов Г. П. Лицо России
- Харитонов Д. В. Проза В.П. Аксенова 1960−70-х годов. Проблемы творческой эволюции //Автореф.дисс.канд.фил.наук.-Екатеринбург, 1993. -22 с.
- Хватов А.И. Живые страницу, памятные имена.-М.:1989.-352 с.
- Юдин В. Кровавое безвременье //Лит.Россия.-29 окт.1993.-№ 39.
- Яновская Л.М. Творческий пу ть Михаила Булгакова.-М. :Сов.пис.-1983.-320 с.
- Ярхо Б.И. Кз книги „Средневековые латинские видения“ //Восток-Запад, с. 21−43.108,Brown D.B. Soviet Russian literature since Stalin* Cambridge, 1979»
- Brown E. J, Russian literature sinoe the revolution. London, 1932.1.o.Stevanovio B., Werstman V. Free Voices in Russian Literature, I95o-I98os: a Bio-BibliographioaX Guide. N.Y.г Russioa, 1987.