Словесный образ в европейской поэтике
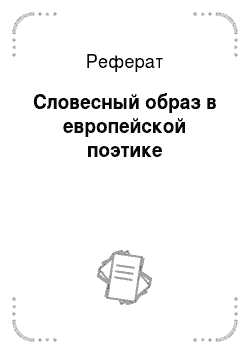
Анализ роли символа служит подтверждением уже высказывавшейся мысли о том, что «хотя семантика риторического слова твердо ограничена извне», это «не исключает существования под этой семантикой другого, скрытого от творящего и воспринимающего сознаний, пласта значений, порожденных еще мифологическим мышлением и в историческом плане являющихся производной основой для риторической семантики… Читать ещё >
Словесный образ в европейской поэтике (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Европейская художественная традиция совершила по сравнению с другими самый радикальный поворот от синкретизма к различению и от мифа к понятию. Именно в интересующее нас время в Европе вырабатываются аналитические процедуры мышления, создаются формальная логика и риторика, складываются новая философия слова и новые принципы образного сознания.
Мы помним, что в эпоху синкретизма слово не было отделено от того, что оно обозначало, а потому воспринималось как нечто субстанциальное, имеющее прямой и буквальный смысл. Его многозначность была связана не с переносностью значений, а с тематичностью слова, неотделимого от ситуации высказывания. В эпоху эйдетической поэтики слово перестает восприниматься как действительность и уже не совпадает с ней. Но оно не воспринимается и как чистая (конвенциональная) условность, как гамлетовские «слова, слова, слова». Слово теперь остается чем-то субстанциальным, но это уже субстанциальность посредника, медиатора между человеком и Божьим миром. Такой посредник по своему статусу выше человека: вспомним греческий «логос», учение о котором, развитое гностиками, отразилось в евангельском «В начале было Слово» и в именовании Христа Богом-Словом. Поэтому слово, с точки зрения эйдетического художественного сознания, обладает независимым от человека существованием, не подчинено ему, но само направляет высказывание по своим предустановленным путям.
Притом слово необходимый посредник, ибо, согласно представлениям данной эпохи, человек может вступить в контакт с Богом и миром только через слово и отнюдь «не располагает прямым и непосредственным сообщением с действительностью» (сложнее обстоит дело в мистических учениях, стремившихся к непосредственному общению с Богом, но и в них слово так или иначе присутствует, либо в своем инвариантном виде — «ом» в индийской традиции, либо в меональном — «молчание» у исихастов, которые разделяли веру в творческую силу слова). Таким убеждением риторическая философия слова радикально отличается от позднейшей уверенности в том, что слово искажает мысль («Мысль изреченная есть ложь», по Тютчеву), и от порожденной этим установки на неопосредованное выражение внутреннего мира («О, если б без слова, / Сказаться душой было можно», А. Фет).
В силу подобного статуса слово не принадлежит автору или герою, оно преднаходится ими, задано божественным актом, культивировано культурой и, как принято говорить, дано автору готовым: риторическая культура — культура готового слова. Но так же, как готовый герой, такое слово не должно быть понято упрощенно.
Оно готово в том смысле, что уже было идеально высказано в акте творения, а потому повторения-воспроизведения его должны стремиться к тому, чтобы быть адекватными своему образцу (и всей традиции его интерпретации). Однако слово готово не только потому, что уже сбылось в прошлом. Не менее важно, что оно сбылось не в моей речи, а в речи «другого»: это слово другого, или чужое слово. В пределе — слово Бога, притом не просто произнесенное (как в эпоху синкретизма, которая была по преимуществу устной), но записанное, а потому более фиксированное и «готовое», чем прежде (риторическая культура уже письменная, «книжная»).
Особенно настойчиво роль готового чужого слова в интересующую нас эпоху подчеркивал М. М. Бахтин, утверждавший, что «история не знает ни одного исторического народа, священное писание которого или предание не было бы в той или иной степени иноязычным и непонятным профану. Разгадывать тайну священных слов и было задачей жрецов-филологов». Чужим священным языком был санскрит в Индии, латынь в средневековой Европе, язык Корана в мусульманском мире, вэньян (китайский) на Дальнем Востоке, церковнославянский в мире славянском (показательно, что еще в XVIII в. для Ломоносова основой для классификации стилей была принадлежность слов к «словенскому» или русскому, то есть к своему или чужому языкам).
На этой почве сложились первые философемы слова, а позже — риторическая культура, которая относится к слову именно как к авторитетному, готовому и чужому, требующему сначала пассивного понимания и разгадывания его смысла, узнавания, а затем воспроизведения и ответа.
Однако, всячески подчеркивая отмеченные аспекты, следует отчетливо осознавать, что это лишь один предел языкового сознания интересующей нас эпохи, неполный вне соотнесенности с другим его пределом. Вспомним, что мы уже знаем о специфике отношений «я» и «другого» в эйдетической поэтике: они еще не автономны, поэтому между ними нет «недоступной черты». Здесь «другой» — это тот, с кем я встречаюсь в глубине собственной души, кто является гарантом моей самости и с кем я должен слиться, как мотылек с огнем, если использовать суфийский образ. В эпоху синкретизма «я» было нерасчленимо с «другим». В эйдетической поэтике они перестали непосредственно совпадать, хотя «я» не приобрело и автономии. Поэтому слово для автора риторической или эйдетической, эпохи «чужое» или «свое» не в нашем современном смысле. Оно изначально чужое, но и свое, хотя задано другим. Отсутствие непосредственного совпадения, появление зазора между этими пределами требуют авторского усилия для того, чтобы восстановить изначальную целостность, о-своить слово, любовно (отсюда термин «филология») слиться и идентифицироваться с ним.
Автор в эйдетической поэтике и совершает такое усилие; чтобы слиться со Словом, он приглушает в своем собственном слове все акцидентальное, все оттенки и обертоны смысла как случайные и стремится выявить словесную субстанцию в ее чистом виде. Для этого редуцируется внутренняя форма слова, а в единстве эйдоса, образа-понятия, акцентируется понятийная его сторона. Такое очищенное и «пресуществленное» слово хочет быть понято в строго определенном (идеальном) и предзаданном смысле и не предполагает возможности никаких других существенных суждений о том же предмете. Поэтому оно является одноголосым, довлеющим, как показал Бахтин, одному и единственному сознанию автора, приобщенного к абсолютной точке зрения, — все остальные сознания, поскольку они не приобщены к ней, либо не принимают участия в формировании его смысла слова и выражают несущественную (а то и прямо «ошибочную») точку зрения, либо дублируют авторское сознание.
Таким образом, как будто бы чужое слово становится в эйдетической поэтике более «своим», чем в позднейшее время: оно неотделимо от автора, не оговорено, не поставлено в смысловые кавычки, а является вещающим и изрекающим, прямо направленным на свой предмет словом выражением последней смысловой инстанции говорящего (М.М. Бахтин). Всякое же эмпирическое чужое слово растворяется, как мы уже отмечали, в авторском контексте. В следующую эпоху поэтики такое усвоение слова окажется уже невозможным или требующим специальных обоснований.
Так же непросто обстоит дело с «готовым» словом. Оно готово в том смысле, о котором мы уже говорили, но одновременно и не готово, ибо должно беспрерывно совершенствоваться, культивироваться, чтобы приблизиться к своему идеальному образцу. Учение о таком — украшенном — слове, о тропах и фигурах, составляет основу античных и средневековых поэтик и риторик вплоть до XVIII в.
Говоря о словесном образе в эпоху синкретизма, мы отмечали, что рождение тропов, в которых заложен принцип понятийного различения, стало поворотным событием в истории образности. Но в синкретической поэтике тропы еще слишком зависели от породившего их параллелизма и сначала были не чистым иносказанием, а иным сказыванием все той же мифологической семантики. Окончательное самоопределение и самостоятельность образный язык тропа обретает именно в эйдетической поэтике. Мало того, в это время он претендует на то, чтобы стать единственным образным языком.
При всем обилии работ, посвященных тропам (особенно повезло метафоре, в которой принято видеть едва ли не квинтэссенцию образной речи), они совершенно не изучены в их историческом развитии. Этому способствовало предубеждение, восходящее к самым истокам литературоведения, ибо последнее начало складываться в рамках риторики и до сих пор несет на себе ее отпечаток. Для риторики открытые ею тропы и фигуры (в арабской традиции их называли более исторично — «бади», «новым») были не исторически возникшим типом образности, а некими вечными структурами художественной речи. Такую установку на внеисторическое понимание тропов унаследовала позднейшая наука: сама возможность существования нефигуральных по своей природе образных структур, не знающих разделения на прямой и переносный смыслы, ею до сих пор всерьез не принималась.
Фактически и сегодня общепринято положение Аристотеля, состоящее, как заметил Ф. Уилрайт, в том, что в основе всякой образотворческой деятельности предполагается «непременно наличие буквального значения, стандартного употребления, из которого выводятся сравнения». Справедливо подвергая сомнению как само это положение, так и универсальность подобного («эпифорического», в его терминологии) понимания метафоры, Ф. Уилрайт показывает, что «новое значение» может возникать не в результате переноса, а в результате «простого соположения» (вспомним кумуляцию и двучленный параллелизм. — С.Б.). Называя такой образный ход «диафорой», ученый тем не менее ее тоже считает разновидностью метафоры. Перед нами ситуация, уже возникавшая в истории науки: вплотную подойдя к выявлению принципиально неметафорического, «нефигурального» образного языка, исследователь в конечном счете растворяет его в универсальной и внеисторически понятой фигуральности.
Еще Э. Кассирер, пытавшийся «определить и ограничить ключевое понятие самой метафоры» и предложивший понимать метафору как «сознательный перенос названия одного представления в другую сферу», прекрасно видел: на ранних ступенях развития мышления «то, что кажется при нашей позднейшей рефлексии простым переносом, является подлинной и непосредственной идентичностью». И все-таки ученый и эту форму, выражающую «непосредственную идентичность», тоже называет метафорой, хотя и «мифологической», а в метафорическом мышлении видит общую «концептуальную форму» мифа и языка. Даже О. М. Фрейденберг, столь много сделавшая для изучения нефигуральности архаического мышления и показавшая, что никаких метафор в архаике не было и быть не могло, пользуется по инерции близким кассиреровскому термином «первобытная метафора» .
Если же подходить к тропу исторически, то следует, во-первых, принципиально отличать его от «дофигуральных» образных языков (кумуляции и параллелизма), а во-вторых, попытаться определить его своеобразие в эйдетической поэтике, где он по-настоящему самоопределился.
Сегодня очевидно, что виды тропов отличаются друг от друга разным соотношением в них образа и понятия, конкретно-чувственного и отвлеченного начал. Наиболее гармонична в этом плане метафора. В своей чистой (одночленной) форме она представляет собой образ, объект сравнения, при опущенном субъекте его. Конкретно-чувственный план дан здесь непосредственно, тогда как лежащее в его основе понятийное различение скрыто, уходит в подтекст, благодаря чему понятие мерцает сквозь образ, не уничтожаясь им, но и не подавляя его. Сказанное относится и к таким разновидностям метафоры, как олицетворение и перифраза.
Более аналитично сравнение, особенно его полная форма, включающая в себя субъект сравнения, его объект и компаративную частицу. А. Н. Веселовский, как мы помним, называл его «прозаическим актом сознания, расчленившего природу». Существуют два других типа сравнения, каждый из которых имеет свою структуру и семантику. Первый из них, в котором нет компаративной частицы, а объект сравнения стоит в творительном падеже («полечу я зегзицей по Дунаю»), называют творительным превращения или метаморфозы. Он очень архаичен и как бы стоит между параллелизмом и сравнением (А.А. Потебня считал его наиболее древним типом образа). Отсутствие сравнительной частицы и активный творительный падеж создают между субъектом и объектом такого сравнения особенно тесную связь, рождая эффект не просто сходства, а именно превращения одного в другое.
Второй тип — генитивное сравнение, или сравнение-метафора — также не имеет компаративной частицы, но субъект сравнения стоит в родительном падеже («куст волос»). И здесь субъект и объект сравнения связаны теснее, чем при наличии компаративной частицы. Сама структура такого образа говорит о сближении субъекта и объекта и о некоем «третьем», рождающемся из двух. Это «третье» несводимо к своим составляющим и в то же время не единоцельно, а единораздельно. Генитивное сравнение как бы стоит на половине дороги от сравнения к метафоре, отсюда его второе наименование.
Если сравнение (особенно полное) аналитично, то аллегория — наиболее понятийный и рационалистичный из тропов. Прежде всего, конкретно-чувственный план в ней не самоценен. Исходной и определяющей здесь является более или менее отвлеченная мысль, которую образ должен иллюстрировать в качестве чувственного «примера». На этом строится басня жанр, зародившийся в интересующее нас время и широко популярный в эйдетической поэтике, ибо соответствует типичной для нее установке эстетического сознания. Важно, что в аллегории наличны, хотя и неравноценны, обе стороны эйдоса, а это необходимо для того, чтобы риторическое слово оставалось самим собой, сочетало рассудочность и чувственность, единичное и всеобщее.
Чрезвычайно показательна эволюция аллегории в эйдетической поэтике и рождение в эпоху барокко такой ее своеобразной формы, как эмблема. Полная эмблема состоит из трех компонентов: графического изображения, надписи под ним и подписи. У А. Альциата, одного из первооткрывателей этого типа образа, в «Книге эмблем» (1531) приведен рисунок: ласточка, которая несет цикаду своему птенцу. Под рисунком надпись: «Ученым не должно оговаривать ученых». Под нею — подпись, говорящая о том, что один певец вредит другому. Эти три компонента как единораздельное целое должны быть истолкованы читателем для выявления заложенной в них идеи.
Эмблема, с одной стороны, доводит до предела понятийность, характерную для аллегории (и вообще тропа), а с другой стороны, она не отбрасывает конкретно-чувственный план, необходимый для того, чтобы «эйдос» оставался именно эйдосом и не превратился в чистую «идею». Эмблема даже по-своему усиливает предметный план, вводя в образ прямую графическую наглядность. Мы присутствуем при «напряженной кульминации» эйдетичности: «Под влиянием происходящего сближения слова и образа-изображения, все слова в тексте, разумеется, прежде всего особо значимые и выделяемые, раскрываются в направлении своей зрительности, своего наглядного вида, они — в отличие от обычаев иначе устроенной культуры, склонной к книжно-абстрактному чтению текстов, значительно более интенсивно «усматриваются» и зримо «видятся». Но это именно эйдетическое — умозрительное видение.
Если в аллегории и эмблеме доводятся до предела умозрительные начала эйдетического образа, то в символе явлен его другой полюс. Мы помним, что символ не является тропом: по своему происхождению это одночленный параллелизм. Однако расцвет символа приходится именно на эпоху эйдетической поэтики, и он по-своему соединяет в себе параллелистскую «бытийность» и буквальность значения с иносказательностью особого рода. В нем прежде всего дан самоценный и отнюдь не аллегорический конкретно-чувственный план. Но он должен быть способен разворачиваться в бесконечно значимый ряд смыслов (по определению А. Ф. Лосева, символ — «функция бесконечности»). Если же самоценность конкретно-чувственного плана ослабляется, то символ превращается в аллегорию.
Итак, эйдос в интересующее нас время имеет своими пределами аллегорию-эмблему и символ. Остальные тропы (даже метафора, наиболее гармоничный из них) так или иначе тяготеют к названным полюсам. Относительно древнерусской литературы это заметил Д. С. Лихачев, который указывал: в ней то, «что мы принимаем за метафору, во многих случаях оказывается скрытым символом». В арабской поэзии метафора в описываемое время тоже весьма специфична: она «основана на антропоморфическом (или анималистическом) понимании природы и „заимствовании“ (истиара) качеств человека или животного для определения абстрактного явления». Иными словами, метафора здесь тяготеет к олицетворению. Нa этой основе в арабской и персидской поэзии возникает усложненная образно-понятийная игра, примером которой может служит следующее место из «Хосрова и Ширин» Низами, содержащее описание утра:
Заря взошла на трон. Отряд прекрасных, схожих С румийцами, блеснув, напал на чернокожих.
Юсуф нес апельсин, — расточилась мгла.
Зулейха — лунный свет, от счастья умерла.
Взглянул с приязнью рок. Забыв потоки крови, Расправил он свои насупленные брови.
Был бирюзовый свод раскрыт, оповещен Был о победе мир, — и радовался он.
Итак, нами рассмотрены: подчеркнуто понятийные тропы — аллегория и эмблема; аналитическое, но многоликое сравнение; гармоничная метафора, тяготеющая либо к олицетворению и аллегории, либо к символу; наконец, сам символ — другой полюс образности эйдетической поэтики, наименее понятийный и восходящий к дотропеическому образному языку параллелизма, но по мере ослабления самоценности конкретно-чувственного плана превращающийся в аллегорию. Как басня наиболее благоприятна для аллегории, так символ наиболее соответствует смысловой природе притчи, другого излюбленного жанра эйдетической поэтики. Ввиду особой важности символа, рассмотрим его на материале притчи Д. Руми «О твоем и моем» из его «Поэмы о скрытом смысле» («Китаб ал-маснави»).
Конкретный и самоценный образный план притчи — рассказ о дружбе, история взаимоотношения двух друзей. Однако, сохраняя свою самостоятельность, рассказ по мере его развертывания начинает обретать символический смысл — становится притчей о «я» и «другом». Но и это не последний его смысл, потому что за отношением «я» и «другого» просвечивает еще один план — отношения «я» и Бога, что выражено в образе сгорания («Чтоб сжечь свое в огне разлуки я»), неизменно связанном в суфийской поэзии с устремлением ограниченной индивидуальности к божественной полноте и растворением в ней. Однако и этот, третий по счету, смысловой пласт не является в притче последним. Ключ к его более глубокому пониманию дал сам Руми, говоря о священной книге мусульман: «Знай, что слова Корана просты, но по ту сторону внешнего они скрывают внутренний тайный смысл; рядом с этим тайным смыслом есть еще третий, приводящий в замешательство тончайший разум; четвертого значения еще не познал никто, кроме Бога; так можно идти дальше до семи значений». «Семь» здесь, разумеется, не конечное, а абсолютное число — речь идет именно о бесконечности значений символа. Мы увидели пока три его смысла. Четвертый уже темен, но некоторый намек на него дан в притче в образе «единого бытия» (по суфийской терминологии «mumkin»). Эта стадия бытия промежуточна между призрачным adam и абсолютно реальным «wujud»; в отличие от последней mumkin имеет воспринимаемые внешними чувствами проявления (см.: «Теперь едино наше бытие», «Отныне мы не будем, видит Бог, / Разниться, как колючка и цветок»). Другие, более глубокие смыслы символа уже непознаваемы из пространства нашего, все еще раздельного бытия.
Символ, таким образом, не частный образный конструкт, а некий предел, к которому тяготеет эйдетическая поэтика и на котором построены многие наиболее значительные ее произведения (помимо поэмы Руми, назовем хотя бы «Божественную комедию» Данте). Принадлежащий по рождению к предшествующей эпохе поэтики, символ именно в интересующее нас время выявляет потенциально в нем заложенные, но невостребованные синкретической поэтикой возможности и достигает своей художественной зрелости.
Анализ роли символа служит подтверждением уже высказывавшейся мысли о том, что «хотя семантика риторического слова твердо ограничена извне», это «не исключает существования под этой семантикой другого, скрытого от творящего и воспринимающего сознаний, пласта значений, порожденных еще мифологическим мышлением и в историческом плане являющихся производной основой для риторической семантики». Правда, вслед за этим исследователь утверждает, что пласт мифологической семантики «в условиях риторической культуры „глух и нем“, являет собой лишь потенциальную возможность смысла». Пример с символом говорит, что это не совсем так, что риторическое слово более проницаемо для архаического образного языка, чем принято считать. Об этом свидетельствует и то, что — особенно в начальной и конечной точках его развития, — риторическое слово очень чувствительно к своей мифологической подпочве (особенно очевидно это в восточной традиции, о чем ниже).
Не говоря уже о том, что ранние формы тропов были лишь иным сказыванием мифологической семантики и прямо вырастали из параллелизма, яркие примеры взаимодействия двух разностадиальных образных языков дает средневековая литература (хотя бы «Слово о полку Игореве»).
Но открытость мифу можно констатировать и на противоположном историческом полюсе — «осени» риторики. Так, в барочном образе, например у Симеона Полоцкого, за риторическим сравнением:
Тому леть яблоку жену подобити.
явно просматривается не просто мифологическая семантика, но и специфическая форма двучленного параллелизма:
Оле жены льстивы! О яблока лестна!
То же мы видим у Ломоносова. В «Разговоре с Анакреоном» поэт создает эмблематический образ России. Но в одном из переведенных Ломоносовым и включенных в цикл стихотворений Анакреона был дан портрет возлюбленной, благодаря чему устанавливается связь двух образов:
Напиши любезну мне // Изобрази Россию мне.
И если дальше возникает «эротизированный образ женщины-России», то он оказывается развитием этого соположения, открывающим за риторическим словом архаический параллелизм женщины-страны. Еще более открыты друг другу разностадиальные образные языки в неевропейских художественных традициях.