Молодежная субкультура.
Неформальные молодежные объединения
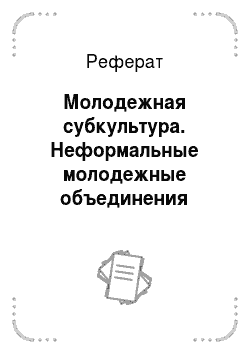
Чаще проблематика неформальных молодежных объединений рассматривается на материале подростковых и юношеских групп, важными функциями которых является удовлетворение потребности в аффилиации, специфическая помощь в самоопределении, в обретении идентичности, в частности через присоединение к некоторому «Мы» в оппозиции к «Они» и т. п. Хорошо известно, что подростки в большинстве своем имеют острую… Читать ещё >
Молодежная субкультура. Неформальные молодежные объединения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Объединения, о которых ниже пойдет речь, возникают и живут по другим законам, чем те, в которых волей-неволей оказывается молодой человек, будучи членом студенческой группы, трудового коллектива и т. п.
Чаще проблематика неформальных молодежных объединений рассматривается на материале подростковых и юношеских групп, важными функциями которых является удовлетворение потребности в аффилиации, специфическая помощь в самоопределении, в обретении идентичности, в частности через присоединение к некоторому «Мы» в оппозиции к «Они» и т. п. Хорошо известно, что подростки в большинстве своем имеют острую потребность быть членами разного рода групп, главным образом неформальных. Есть ли такая потребность у тех, кто постарше, — у молодых? Какова ее природа? Нельзя сказать, что данная проблема хорошо изучена. Вместе с тем она волнует многих, и интерес этот носит далеко не только академический характер. Но прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению проблемы молодежных объединений, остановимся на тесно связанной с ней теме молодежной культуры (субкультуры).
Летом 1968 г. на улицы Парижа вышли тысячи молодых людей, которые вели себя буйно и страшно напугали не только других жителей французской столицы, но и всю Европу, весь западный мир, тем более что волна подобных акций молодежи прокатилась по многим городам в разных странах. Суть лозунгов, высказываний, деклараций, с которыми вышли демонстранты, сводилась к заявлению о том, что есть такие особые люди — молодежь, которую не устраивают порядки, придуманные и проповедуемые взрослыми, которая хочет жить иначе и намерена перестроить мир по-своему. Молодежь заявила о себе как о представителях особой культуры, или субкультуры, — молодежной. Молодежная субкультура предъявила миру свои представления о том, что важно и что не важно в жизни, новые правила поведения и общения людей, новые музыкальные пристрастия, новую моду, новые идеалы, новый стиль жизни в целом. Можно сказать, молодежь заявила свои права на культурное доминирование.
Понятие «молодежная культура» создано для описания особого типа социального пространства, которое населяют люди, находящиеся в относительно бесправном и зависимом положении. Зависимость молодежи проявляется в том, что она рассматривается «социально зрелыми» взрослыми не как самоценная группа, а лишь как естественный ресурс будущего общества, который надо социализировать, воспитывать и использовать.
Описание молодежи как отдельной социально-возрастной группы началось с работ С. Холла, К. Мангейма и Т. Парсонса, в которых были заложены основы так называемого биополитического конструкта. Зарождение и этапы развития биополитического конструкта молодежи анализирует в своей книге Е. Л. Омельченко[1]. Суть состоит в том, что особенности молодости (понимаемой в данном случае широко, с включением в этот возраст и отрочества) обусловлена столкновением сил природы («гормональное пробуждение») с «неподвижными» преградами культуры, т. е. социальными институтами, что и определяет необходимость социализации. Эти два обстоятельства — пробужденная сексуальность (биологическая предпосылка) и необходимость поколенческой социализации (политическая предпосылка) — и задают формулу биополитического конструкта.
Эти идеи стали особенно популярны на Западе после Второй мировой войны. Молодежная культура представлялась независимым социальным пространством, в котором люди могут обрести аутентичность, идентичность, тогда как в семье или школе они лишены реальных прав и полностью контролируются взрослыми. Если в доиндустриальных обществах семья полностью выполняла все необходимые функции социальной репродукции (биологическую, экономическую, культурную), то в современных индустриальных обществах семья теряет эти свои традиционные функции, прежде всего в области культуры — образования и профессиональной подготовки молодого человека. Молодежь в таких условиях начинает занимать максимально уязвимую позицию, находясь между двумя ценностными мирами: патриархальными моделями семейной социализации, с одной стороны, и взрослыми ролями, которые заданы рыночной рациональностью и безличной бюрократической структурой, — с другой. Молодость, по Т. Парсонсу, это период «структурированной безответственности», мораторий, вставленный между детством и взрослостью. Такая пространственновременна? я позиция молодежи в жизненном цикле и приводит к формированию групп сверстников и молодежной культуры, что, в свою очередь, способствует развитию моделей эмоциональной независимости и безопасности, изменению ролевых характеристик первичной (детской) социализации через усвоение принятых в компании сверстников норм, ценностей, техник, моделей поведения и т. п.
Подобные идеи разделялись и разделяются многими учеными, как зарубежными, так и отечественными. Однако эмпирические исследования, проводившиеся в нашей стране, долгое время не выявляли никакой специфической подростковой или молодежной субкультуры. Ярким примером может служить сравнительное исследование моральных норм и регулируемого ими поведения у подростков СССР и США, которое проводилось в начале 1970;х гг. американским психологом У. Бронфенбреннером и сотрудниками лаборатории Л. И. Божович и описано в вышедшей и в США, и у нас его книге[2]. Наши подростки тех лет устойчиво ориентировались на нормы взрослых, в то время как их американские сверстники в своем поведении опирались преимущественно на моральные нормы, правила, ценности, выработанные в их, подростковом, сообществе.
Однако постепенно, с ослаблением патриархальных порядков, снижением социализирующей функции семьи, ростом плюрализма в самых разных сферах общественной жизни и в нашей стране стала возникать молодежная культура и многочисленные подростковые и молодежные группы. И если раньше, в 1950;е гг., неформалами были разве что «стиляги» (наш вариант тех, кого на Западе называли «тедди бойз»), которых нещадно критиковали средства массовой информации, комсомольские и партийные организации, руководители вузов (вплоть до исключения), то постепенно и у нас появились панки, скинхеды, готы и т. п. молодежные группы, противопоставляющие свою культуру культуре большинства (как теперь говорят, мейнстрима).
В новейшей истории России, т. е. в течение последних двухтрех десятилетий, ситуация с молодежными объединениями менялась по меньшей мере трижды.
Бурный всплеск неформального молодежного движения возник в 80-е гг. прошлого века, в эпоху горбачевской перестройки. Тогда сообщество молодых разделилось на комсомольцев, с одной стороны, и неформалов — с другой.
Сам термин «неформалы» был введен в этот период комсомольскими бюрократами для обозначения самоорганизованных молодежных групп, которые ставили себя в оппозицию к формальным структурам — пионерским, комсомольским. Позже этим термином стали обозначать не только молодежные, но вообще всякие движения и организации, возникающие по инициативе «снизу». Впоследствии содержание понятия «неформалы» не раз менялось. Парадокс состоит в том, что термин, введенный «сверху», был воспринят самой молодежью. Сегодня им чаще всего обозначают различные молодежные группы, в первую очередь субкультурные формирования.
Следующий этап — 1990;е гг. Неформальное движение в этот период пошло на спад. Комсомол распался, так что противостоять стало нечему. Молодежные группировки фактически растворились в бандитской или полубандитской среде, стали активно завоевывать клубные и дискотечные пространства в российских городах.
Новые изменения принес новый век. По мнению исследователей современных тенденций в неформальном движении, сегодня представляющие его молодежные объединения характеризуется сложным характером взаимоотношения различных стилевых составляющих. Для современных разношерстных неформалов, так же как и для их предшественников, важно обозначение той силы, которой они противостоят, — это почти обязательное условие формирования соответствующей групповой идентичности. Сегодня место бывших комсомольцев заняли так называемые гопники. Противостояние неформалов (свои, продвинутые) гопникам (чужие, нормальные) и составляет сегодня основное стилевое напряжение в этой области[3].
Е. Л. Омельченко отмечает, что молодежная культура, как она понималась в середине XX в., ушла со сцены. Она солидарна с американским исследователем Дж. Сибруком в том, что сегодня понять характер молодежных объединений можно, лишь учитывая новый социокультурный контекст[4]. А он заметно изменился в конце XX в.
В настоящее время определяющим фактором является то, что Дж. Сибрук назвал " культура супермаркета" . Центральное действующее лицо в этой культуре — постоянно конструируемый с помощью коммерческих сетей подросток потребляющий. Ядром, центром культуры супермаркета становится мейнстрим, а индивидуальность занимает периферийные позиции. Культурная власть переходит от индивидуальных вкусов к авторитету рынка, и ключевой фигурой этого рынка становится подросток, вообще молодой человек, знающий, что будет модно завтра[5].
В качестве главной тенденции последних лет Е. Л. Омельченко называет формирование новой «комнатной культуры» молодежи. Когда-то молодежь вышла на улицы, породив представление о молодежи как особой социальной группе и особой социальной проблеме. Сегодня молодежь, молодежность становится брендом, который присваивается все новыми сегментами потребительского рынка. Высказывается следующая гипотеза: современная молодежь социализируется не столько через разного рода группы сверстников, а в рамках глобальных имиджей. В этой ситуации глобализация порождает новый тип социальной дифференциации — разрыв между теми, кто хорошо знаком с технологическими новшествами, и теми, кто не имеет к ним полного доступа.
Когда ни молодежные объединения, ни дружеские компании, ни тем более социальные институты не позволяют обрести собственную идентичность, самым важным для современного молодого человека становится наличие защищенного личного пространства. Таковым оказывается своя комната почти обязательно со своим компьютером.
Итак, молодежная культура в последнее время все больше превращается в часть общей потребительской культуры. Даже тогда, когда молодежь начинает создавать что-то свое, ее рано или поздно настигает массовая молодежная индустрия. Происходит перерождение молодежной культуры в ее коммерческую форму. Западные ученые все чаще говорят об этом, как о форме «коллективного исчезновения» или даже «смерти молодежной культуры». На смену классическим молодежным субкультурам, расцветшим во второй половине XX в., пришла так называемая рейв-культура, в основе которой — откровенно гедонистическое, нацеленное на сиюминутное удовольствие отношение к жизни, способствующее растворению молодежи в доминирующей массовой культуре.
Походы по магазинам (шопинг) для значительной части молодежи становятся формой культурной активности, восполняющий недостаток коллективизма. Поиск идентичности в таком случае идет не путем ролевого экспериментирования в разных группах сверстников, как это было некоторое время назад, а путем поиска своего стиля в якобы совершенно свободном выборе товаров. Правда, эта свобода доступна не всем и не в равной мере, поэтому для многих она превращается в источник негативных эмоций, в войну за то, чтобы поддерживать свой стиль, не стать аутсайдером. Как отмечает Е. Л. Омельченко, особую остроту и важность эта потребительская борьба имеет для российской молодежи, растущей по большей части в бедных или не очень состоятельных семьях[6].
- [1] Омельченко Е. Л. Молодежь: Открытый вопрос. Ульяновск, 2004.
- [2] Бронфенбреннер У. Два мира детства: СССР и США. М., 1976.
- [3] Омельченко Е. Смерть молодежной культуры и рождение стиля «молодежный» // Отечественные записки. 2006. № 30 (3).
- [4] Сибрук Дж. Культура маркетинга, маркетинг культуры. М., 2005.
- [5] Омельченко Е. Смерть молодежной культуры и рождение стиля «молодежный». С. 173−174.
- [6] Омельченко Е. Смерть молодежной культуры и рождение стиля «молодежный» .