Ведущие социокультурные тенденции в европейской истории и соответствующие психотехнические формы развития сознания
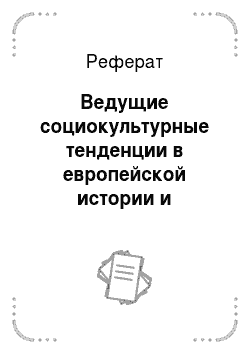
Итак, в соответствии с системой интерпретации в культуре строится и психотехническая деятельность. Различают, например, анимистическую, религиозную и научную системы интерпретации состояния человека. Хотя все несколько сложнее, и в такой классификации опускается ряд культурологических и социологических тонкостей. Важно, например, что в средние века разрабатывается идея бестелесных сущностей… Читать ещё >
Ведущие социокультурные тенденции в европейской истории и соответствующие психотехнические формы развития сознания (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Мы уже говорили, что культура рождается, строится и живет на некоторой базовой символической структуре и идентификации индивидов с этой структурой. Изнутри этой идентификации и идет осмысление и понимание мира и себя в нем, отсюда же растет система интерпретаций всего происходящего в мире, т. е. это некоторая система нс только видения и понимания мира, но и собственно определенный тип реальности как определенного единства. Когда же говорят о типе или характере этого единства, то тем самым говорят о типе культуры.
Скажем, выделяют античный тип культуры с присушим ей видением мира как одушевленного телесного целого. Античный человек все понимает как тело по аналогии с обобщенной человеческой телесностью, проецирует это тело в мир в форме чувственно-материального космоса. Это завершенный мир, мир, который уже осуществился и в котором его предназначение уже завершено. Далее — это проекция не просто тела, а социального тела родовой общины и отношений, которые в ней возникают. Это космос как органическое существо. Это мир не только одушевленный, но и разумный. Человек в этом мире сплошь овнешненный, нет принципиального различия внутреннего и внешнего (А. Ф. Лосев). Он же и сплошь телесен. Основной идеологией такого типа культуры является миф. А миф в своей наиболее первичной форме существует на том уровне, на котором смысл и языковая основа слова неразличимы, когда слово близко к переживанию его значения и действия в соответствии с ним. Поэтому рассказывание мифа есть и непосредственная работа с психикой, ее переработка, трансформация и терапия или исцеление, т. е. синтез, извлечение инородных элементов, заполнение пустых мест, стягивание разрывов, иными словами — приведение к цельности. Также и обряд представляет собой здесь реальное преображение и проживание мифологического события и соответствующее структуре этого обряда изменение индивида. Это похоже отчасти на то, как трехлетний ребенок переживает рассказывание сказки, как он легко идентифицируется с героями и непосредственно радуется, когда радуются персонажи, и печалится, если печалятся они. В этом смысле сказки для детей выполняют значительные психотехнические функции. По крайней мере две из них, воспитательная и психотерапевтическая, особенно важны.
Таким образом, можно предположить, что так же, как определенному психологическому возрасту, определенному культурному состоянию соответствуют особые формы психотехник. Скажем, обряд инициации соответствует культурной форме родовой организации, в других формах культуры он замещается другими психотехническими схематизмами. Например, в эпоху Сократа появляется сократический диалог как техника испытания, затем возникают экзамены и другие формы рационализации испытания, вплоть до психологических тестов. Меняются не только идеологии, но и структуры техник. Это связано с тем, что меняется структура сознания, с которой техника работает, меняются и основные задачи психотехнической деятельности.
Следует заметить, что сам миф также развивается и имеет элементы более архаические, базовые и вторичные, наслоенные. Так что можно говорить о различных пластах мифа (А. Ф. Лосев) и соответствующих формах воздействия каждого такого пласта на сознание. Соответственно и само сознание аналогичным образом стратифицировано. Обобщенное описание культуры не удерживает в себе этих уровней сознания и соответствующих уровней работы психотехнических форм. Скажем, появление социального института рабства развивает совершенно новые элементы сознания, порождает новый сознательный опыт. Теперь появляется возмож;
ность объективировать труд, различить его управленческую и организационную часть («умственную») и часть исполнительную («физическую»), появляется различение плана и исполнения труда. Появляется феномен раба как «вещи действующей». Но в этой «вещи действующей» снята борьба, и сама эта вещь имеет амбивалентный характер. Феномен раба порождает соответствующую психотехнику воспроизводства рабского состояния. Освобождающийся от исполнительного труда рабовладелец сначала культивирует волю и контроль за деятельностью раба, затем и эта функция передается рабу-надсмотрщику, и появляется особая ценность интеллектуальной деятельности. Так появляется человек мыслящий, культивирующий ум. Именно этот факт сознания отображен в платоновской оппозиции ума (формы, идеи) и материала (бессмысленной материи).
Раб, вначале как живое орудие, которое подчиняется командам своего господина, постепенно включается во все более широкую деятельность (которая расчленяется и анализируется), превращается в сплошь объективированное существо, подчиняющееся законам этой деятельности. Человек превращается в деятельность, в рациональный объект, в «живую технику». Не случайно Г. Гегель, а за ним К. Маркс видели в рабском труде источник развития нового рационального духа. И прежде всего это сознание (и его внутренние напряжения) явилось источником развития христианства. Но еще раньше эта форма сознания и ее реализация стали основой развития, с одной стороны, древнегреческого рационализма и техники мышления (от Протагора до Платона и далее), техники убеждения и риторики софистов, сократического диалога. А с другой стороны, — элементов права и соответствующих техник защиты и риторических техник.
Архаический человек во всем происходящем видит некоторый умысел, чью-то волю, мир для него населен живыми существами, подобными ему самому. Если он, скажем, чувствовал недомогание и находил у себя болезнь, то видел в этой болезни злой умысел, исходивший от чьей-то злой воли. Он заключал, что колдун соседнего племени наслал на него эту болезнь, и поэтому предпринимал соответствующие действия. Для архаического сознания все происходящее с ним осуществляется живой силой различного рода существ и их волевыми усилиями. И мир есть собственно мир борьбы и компромиссов этих существ. Здесь нет принципиального различия чувства, желания, мысли и действия, мысль может быть действием, а действие — мыслью или ее изображением и выражением. У такого человека нет внутреннего мира, он сплошь вовне. И что же предпринимал такой индивид в случае болезни? Он обращался к своему колдуну, который должен был найти причину болезни (того, кто ее послал). Например, если это был соседний колдун, тогда начиналась борьба с ним, нужно было вынудить его забрать болезнь обратно. Система интерпретации определяла в целом способ действия колдуна.
А в средневековой христианской культуре аналогичная ситуация заболевания (особенно психического) получит совершенно другую интерпретацию. Священник вероятнее всего думал о том, что в человека вселился бес, и занимался его изгнанием или обращался к специалисту по изгнанию бесов. Здесь же возможна и другая интерпретация: болезнь есть наказание божье за грехи человека. Тогда грешника посылали на исповедь, заставляли покаяться, налагали епитимью и пр. Но если присмотреться, то с психотехнической точки зрения обе практики исцеления сходны. В обоих случаях есть организация извне выведения какого-то внутреннего содержания сознания вовне, катарсис, очищение. И эти психотехники встроены в культуру, в определенную систему интерпретации. Система средневековых христианских догматов является прежде всего символической системой интерпретации бессознательного. Эта система уже принципиально отделена от человека, Бог — это что-то внешнее по отношению к человеку. Бог для католического сознания принципиально вовне, в противоположность современному сознанию, для которого символ Бога постепенно переносится (начиная с зарождения и становления протестантизма) внутрь (К. Юнг).
Соответственно, средневековый человек ищет исцеления, развития, спасения на пути «изнутри вовне», в принесении себя в жертву Богу, в исповеди перед Богом, в поиске прощения грехов, в искуплении и пр. Новоевропейский же человек скорее пойдет к врачу, он больше уверен в материальных причинах болезни, он будет ждать назначения лекарств или операции, потому что с его точки зрения все имеет материальные причины и закономерности. Отсюда и преобладание в медицине медикаментозной и хирургической терапии вплоть до начала XX в.
Итак, в соответствии с системой интерпретации в культуре строится и психотехническая деятельность. Различают, например, анимистическую, религиозную и научную системы интерпретации состояния человека. Хотя все несколько сложнее, и в такой классификации опускается ряд культурологических и социологических тонкостей. Важно, например, что в средние века разрабатывается идея бестелесных сущностей божественного мира и Бога как существа бестелесного, чего в античную эпоху не существовало. В это же время разрабатывается идея греха (вместе с христианскими заповедями), что задает определенную форму психотехнического развития средневекового человека. Идея греха несет с собой индивидуализацию человека, требует ответственности за свое поведение. Тайна исповеди создает индивидуальную тайну, т. е. сокрытое, вытесненное содержание сознания. И обладатель тайны несколько обособлен, отчужден от общества. Но эта тайна является также и защитой от растекаемости в бессознательном, в сообществе.
Таким образом идея христианских заповедей (усиленных по отношению к ветхозаветным, например добавлением положения о греховности также и запретных мыслей) создает очень напряженную атмосферу внутренней жизни. С одной стороны, предельные требования к человеческой жизни (порождающие с необходимостью грех, «по слабости человеческой природы») порождают направленную вовне психотехническую деятельность по самоорганизации. Нужно избежать соблазнов, быть все время в готовности, устоять перед дьяволом и пр. А с другой — присутствуют направленный вовнутрь поиск грехов, исповедь, очищение и покаяние. Этой напряженной внутренней жизни в католичестве соответствовала мощная включенная в догматику психотехническая система (молитвы, причащения, исповеди, покаяния и пр.) как организованная, инкорпорированная в церковную организацию система обрядов и их регламентации во времени. Так что отчужденность человека, разрушительность индивидуальной тайны снимались в этой психотехнической системе «благотворностью тайны, разделенной с другим» (К. Юнг), с церковной общиной, со священником, но в конечном счете — с Богом.
С наступлением Нового времени, с упадком католичества и ростом протестантских течений эта символическая (и одновременно психотехническая) система разрушается. Область сокрытого, вытесненного увеличивается. А настоящего выхода для него в культуре уже нет. Человек все больше отчуждает себя от общества. Появляется новый монастырь в душе человека, он уходит в себя, в свои фантазии аналогично тому, как раньше уходили в монастырь (3. Фрейд, 1990). Это сравнение довольно удачно. Мифа уже давно нет, канули в лету мифологические системы интерпретации мира, и теперь мифу осталось место только в индивиде, в его индивидуальном мире (К.Леви-Строс, 1985), и именно на этом уровне формируются и «разрешаются» (3. Фрейд) оппозиции сознания. И человек действительно начинает искать Бога внутри себя, появляется новый интерес к душе. Надежды на внешний мир не оправдались, и человек XX в. надеется найти в душе то, что не нашел во внешнем мире (К. Юнг, 1994). Но это не просто интерес, а факт того, что душа становится проблемой, дает о себе знать разными окольными путями система внутренних напряжений, не находящих выхода. В глубинах души собирается масса энергии, которая готова прорваться и инстинктивно ищет для себя новые каналы, новые культурные формы своей жизни. Психоэнергетические закупорки, «пробки» создают болезни, напряжение, тревожность, которые уже не понимаются в традиционных системах научного объяснения. И эту систему напряжений ощущают 3. Фрейд и его современники: прекрасные художественные выражения этого состояния культуры мы встречаем у Ф. Кафки, Р. Музиля, Э. Канетти и других.
Психоанализ опирается на рациональные достижения новоевропейского мира: субъективацию индивида, привычку к интроспекции, рационализации (объяснению). 3. Фрейд работает как врач, как ученый, которому удалось открыть новые явления, занимаясь разрушением индивидуальной тайны и сознавая постепенно «благотворность тайны, разделенной с другим». Появляется новая система интерпретации и психотехнической деятельности — научная.
Но идеалы науки тоже начинают расшатываться, появляются ощутимые признаки рождения новых типов рациональностей, новых ценностей и многое другое. Но самое главное, на исторической сцене появляется новая фигура врача. 3. Фрейд анализирует уже не только человека, но и общество, К. Юнг эту линию активно продолжает, прогнозирует, предрекает и т. п. Он говорит: «Я рассуждаю как врач» и далее начинает рассуждать о тех вещах, о которых говорили обычно теологи, философы, социологи, политики. Философы в то время не в моде, и Юнг, отмежевываясь от них, подчеркивает: «Я не философ, а врач и психолог и опираюсь только на факты». Ощущая болезненность процессов, происходящих в обществе, он начинает описывать симптомы этой общественной болезни, обращаясь к необычным для европейского ума фактам: снам, мифам, фантазиям, религиям. Так складывается новая система объяснения и работы с сознанием. Соответственно меняется и психотерапия.
Итак, психотехника включена в культуру, связана с ее интерпретациями и пониманием мира и человека. В различных культурах психотехники различаются по своим идеологическим одеждам, по особенностям их функционирования, а также в связи с ведущими задачами, которые выполняет культура в истории. Так что психотехника меняется и по своей структуре. Можно даже сказать, что появляются новые психотехнические формы. Тип культуры значимо соответствует существующим в ней психотехникам.
Другими словами, форма психотехники в культуре существенно связана с ведущей формой сознания в культуре, на которое она направлена или которое производит. Ибо психотехника есть техника производства и воспроизводства сознания. Но психотехника и включена в сознание, является его элементом, т. е. она одновременно и внешняя, культурная форма, и внутренняя механика сознания. Психотехника и социотехника непосредственно связаны друг с другом и могут взаимно перетекать друг в друга.
Как следует из нашего предыдущего анализа, психотехника есть также не просто техника воспроизводства, но и форма развития сознания. И в каждой культуре можно выделить некоторые тенденции, направления такого развития или ведущие ценности. Соответственно этим направлениям развития существуют и ведущие психотехнические формы, обслуживающие более широкие задачи или интенции культуры.
Например, психотехника деятельности, характерная, на наш взгляд, для протестантского образа жизни, рождается в социальных конфликтах, в связи с социальными революциями и, в этом смысле, рождается как контркультура по отношению к католической культуре. Именно этой новой протестантской этикой занимался М. Вебер. Но можно сказать, что он исследовал также и протестантскую психотехнику, в смысле внутренних механизмов и онтологических представлений, которые обеспечивали функционирование этих ценностей. Именно на пути развития этой психотехники как раз и рождается новая психотехническая культура, и как раз реакцией именно на одностороннее развитие этой психотехники и является психоанализ.