Слово и книга в поэзии Серебряного века
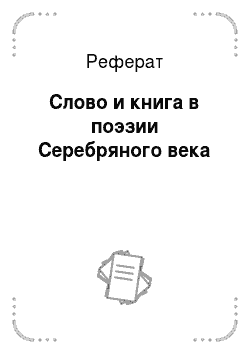
Таким избранником, как следует из дальнейших строк, поэт ощущает себя и подобных себе. Но твердой веры ему, как и большинству поэтов этого поколения, явно не хватает. А без нее все мистические озарения превращают «иной мир» в хаос. Поэтам-символистам остается не звать к нему, а лишь предупреждать или, как Александр Блок, «приветствовать звоном щита» земной, взбудораженный революционным хаосом… Читать ещё >
Слово и книга в поэзии Серебряного века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Кажется, никогда прежде поэзия не сплетались так тесно с философией, как в эту эпоху, пришедшуюся на рубеж XIX и XX вв. Поэты и философы в равной степени стремились вернуть слову и книге прежнюю, сакральную значимость, подорванную рационализмом Просвещения. Мы уже говорили об Андрее Белом, который напрямую соединял свое литературное творчество с философско-филологическим теоретизированием.
Однако у поэта-философа Белого был не менее знаменитый предшественник, под заметным влиянием которого и формировалось его творческое кредо.
В отличие от своего последователя, Владимир Соловьев был скорее философом-поэтом. Его поэтическое творчество можно считать другой формой выражения его философских умонастроений. Но именно из этих умонастроений возникло характерное для поэзии русского символизма представление о земном мире, как об отражении иного, невыразимого мира. «Прорваться» в этот мир силою поэтического вдохновения, разглядеть его отблески в собственной душе и выразить словом рожденные этими отблесками чувства — в этом символисты видели свою главную творческую задачу.
Своего рода поэтической декларацией этой философской по существу позиции по праву считается стихотворение Вл. Соловьева, датируемое 1892 г.:
Милый друг, иль ты не видишь, Что все видимое нами —.
Только отблеск, только тени От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий —.
Только отклик искаженный Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь, Что одно на целом свете —.
Только то, что сердце к сердцу Говорит в немом привете?[1]
Нетрудно заметить, что при такой интерпретации поэтической книге (как, впрочем, и философской) как бы возвращается предназначение священных книг древности: служить мостом между земным миром и вечностью, возвращать «житейскому шуму» торжественное звучание незримого мира.
Весь вопрос в том, способен ли земной человек услышать эти «торжествующие созвучия», уловить и передать словами «немой привет» сердечного послания?
Федор Сологуб, не менее Соловьева завороженный мыслью о ложности видимого мира, на этот вопрос отвечал вполне пессимистично. Другой мир видится ему мало чем отличающимся от этого, и мечта о нем представляется страшной:
Я страшною мечтой томительно встревожен:
Быть может, этот мир, такой понятный мне, Такой обильный мир, весь призрачен, весь ложен, Быть может, это сон в могильной тишине.
К этой мрачной строфе, родившейся в начале 1895 г., поэт, перейдя через рубеж веков, в конце 1901 г. добавляет не менее мрачную:
И над моей томительной могилой Иная жизнь шумит, и блещет, и цветет, И ветер веет пыль на крест унылый, И о покойнике красавица поет[2].
Такое представление о неведомом мире как бы обессмысливает прорыв к нему. Ведущий туда «мост» представляется не только ненужным, но и страшным. И поэт своим словом не зовет пройти по нему, а лишь предупреждает о возможности обмануться.
Трагедия этого поэтического поколения состоит в том, что, сознавая присутствие другого мира в своей душе, оно не находит ему определения. В этом отношении вполне характерно обращение к «Неведомому Богу» (так называется стихотворение) 19-летнего Александра Блока:
Не Ты ли душу оживишь?
Не Ты ли ей откроешь тайны?
Не Ты ли песни окрылишь, Что так безумны, так случайны?[3]
Три вопросительных знака в одной строфе выдают растерянность юного поэта, оказавшегося не в состоянии соединить ощущение божественного присутствия в своей душе с тем скучным, «школьным» Богом, о котором говорит официальная церковь. А два года спустя, в 1901 г., Блок «догадывается», что Бог открывается только избранным:
Небесное умом неизмеримо, Лазурное сокрыто от умов.
Лишь изредка приносят серафимы Священный сон избранникам миров[4].
Таким избранником, как следует из дальнейших строк, поэт ощущает себя и подобных себе. Но твердой веры ему, как и большинству поэтов этого поколения, явно не хватает. А без нее все мистические озарения превращают «иной мир» в хаос. Поэтам-символистам остается не звать к нему, а лишь предупреждать или, как Александр Блок, «приветствовать звоном щита» земной, взбудораженный революционным хаосом мир, улавливая в нем некую божественную музыку. Однако пророками — создателями новых священных книг — они себя, при всем желании, ощутить не могли.
Но в распоряжении поэтов Серебряного века оставалось Слово, божественную (или магическую, т. е., с христианской точки зрения, скорее, дьявольскую) суть которого равно признавали все: символисты, акмеисты, имажинисты и даже футуристы.
Пожалуй, далее всех по пути постижения «магии слова» прошел Велимир Хлебников, для которого магизм слова и звука представлялся своего рода творческим кредо. Ему, по словам одного исследователя, «грезился такой язык, в котором звук и смысл были бы связаны безусловно»[5]. Известны его стихи о цвете звуков. Столь же завораживающи звукообразы в его знаменитом «Бобэоби…».
Но наиболее полно и ясно суть отношения к слову поэтов своего поколения выразил в одном из последних своих стихотворений Николай Гумилев:
В оный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда Солнце останавливали словом, Словом разрушали города[6].
Можно сказать, что, лишь обретая чувство единения с Богом-Словом, поэты Серебряного века обретают ту удивительную энергетику и то обаяние, которое побуждает обращаться к их творчеству читателей последующих поколений.
Анна Ахматова, сохранившая веру в ту же «надвещную» силу слова на всю свою жизнь, выразила ее в четырех чеканных строках 1945 г.:
Ржавеет золото и истлевает сталь, Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле — печаль И долговечней — царственное слово[7].
Без сомнения, именно акцент на духовной, внеземной сущности слова и книги, который является самой характерной чертой поэтических деклараций Серебряного века, составлял суть и самого поэтического творчества.
Нельзя не отметить, что богословские дискуссии по проблеме имяславия, как и философские идеи об единстве слова и сущности оказались не только созвучны многим поэтическим и вообще творческим исканиям Серебряного века, но порой и прямо пересекались с ними. Мы уже говорили об этом, когда речь шла о поисках скрытого смысла языка поэзии Флоренским.
С имяславческой дискуссией на Афоне прямо связано стихотворение Осипа Мандельштама «И поныне на Афоне…», написанное в 1915 г. В нем он не только называет осужденное Синодом имяславие «ересью прекрасной», но и прямо ставит знак равенства между Именем Божиим и словом как таковым:
В каждой радуются келье Имябожцы — мужики:
Слово — чистое веселье, Нецеленье от тоски!
Единство слова и сущности, по убеждению поэта, наиболее полно проявляется в любви:
Каждый раз, когда мы любим, Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим Вместе с именем любовь[8].
В более поздней статье Мандельштама «Слово и культура», впервые опубликованной в 1921 г., как бы между прочим брошена замечательная мысль о том, что не вещь — хозяин слова, а, напротив — «Слово-Психея». «Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела»[9].
Конечно, это не философская статья, здесь очевидно проступает игра поэтического воображения. Но и в этой игре проступает глубокая убежденность поэта в первородстве слова, в его власти над вещью, которая без него — всего лишь «брошенное тело». Можно не сомневаться, что эту убежденность разделяли не только его товарищи по акмеистическому «Цеху поэтов». В ней — знак времени и особенного, рожденного Серебряным веком понимания места слова в культуре.
Для нас особенно важно отметить, что попытки поэтов этого века постичь природу слова, уловить его таинственную силу, естественным образом распространялись и на книгу. Напрямую эта связь проявилась, к примеру, в книге Бориса Пастернака «Воздушные пути».
Пережив увлечение философией Густава Шпета и Марбургской школы, Пастернак признает недостаточность всякого теоретизирования в столь тонкой сфере: «Когда речь заходит о литературе, я вспоминаю о книге и теряю способность рассуждать», — пишет он в 1919 г. И тут же дает такое этико-эстетическое определение: «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — больше ничего… Книга — как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся. Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы»[10]. Для Пастернака книга, как и искусство в целом, ценна прежде всего ее способностью выразить правду, и в этом чувстве Божьей правды неземная и земная сущность словесного искусства соединяются: «Неуменье найти и сказать правду — недостаток, которого никаким уменьем говорить неправду не покрыть. Книга — живое существо…»[11]
- [1] Соловьев Вл. «Неподвижно лишь солнце любви…» М.: Московский рабочий, 1990. С. 75—76.
- [2] Сологуб Ф. Стихотворения. Л.: Советский писатель. Ленинградскоеотделение, 1978. С. 257.
- [3] БлокА. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. М.: Правда, 1971. С. 60.
- [4] Там же. С. 92.
- [5] Шапир М. И. О звукосимволизме раннего Хлебникова // Мир ВелимираХлебникова. М., 2000. С. 351.
- [6] Цит. по: Гумилев Н. С. Избранное. М.: Советская Россия, 1989. С. 420.
- [7] Цит. по: Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1977. (Библиотека поэта). С. 226.
- [8] Цит. по: Мандельштам О. Избранное. М.: СП Интерпринт, 1991. С. 110.
- [9] Мандельштам О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 42.
- [10] Пастернак Б. Воздушные пути. М.: Советский писатель, 1982. С. 109—110.
- [11] Там же. С. 111.