Лекция 3. Словесный образ в поэтике художественной модальности
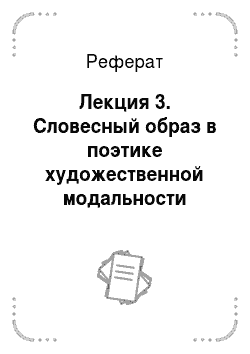
В словесном искусстве это кажется само собой разумеющимся, но данная мысль далеко не тривиальна и должна, как все простые вещи, быть углубленно осмыслена. Мы только начинаем приближаться к пониманию действительного смысла самоценности словесного образа, потому что большинство наших навыков, воспитанных еще риторической культурой, побуждает нас смотреть на слово как на техническое средство… Читать ещё >
Лекция 3. Словесный образ в поэтике художественной модальности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Переориентация языкового сознания в поэтике художественной модальности. Двуголосое слово и его виды. Стилистическая трехмерность слова. Простое, или нестилевое, слово. Эволюция образного языка тропов. Идея «соответствий» и образный неосинкретизм. Актуализация образных языков тропа и кумуляции. Художественная модальность как отношение образных языков. Автономия слова и образа в поэтике художественной модальности. Образ как субъект изображения Поэтика художественной модальности (другие именования этой стадии — нетрадиционалистская, неканоническая, индивидуально-творческая) утверждается во второй половине XVIII в. в литературах Европы и в ХХ в. в некоторых восточных литературах.
Мы уже знаем, что в эйдетической поэтике слово было надличностным посредником между человеком, Богом и миром. Оно в своем пределе выступало как авторитетное, публичное и вещающее от лица истины. Господствующим типом было «прямое, непосредственно направленное на свой предмет слово как выражение последней смысловой инстанции говорящего» .
Для понимания того, как изменилось языковое сознание в нашу эпоху, многое дает учет другой крайности. Сегодня мы, как правило, «стыдимся» риторического слова (для нас оно — выражение наивного догматизма и «некритичности»), а потому стремимся поставить его в смысловые кавычки. Мы уже не «вещаем», а говорим, и говорим «оговорочно», не претендуя на последнюю истину и все время ощущая наличие других слов, направленных на тот же предмет (и, так или иначе, их учитывая). Такая установка разлагает авторитетность (точнее, авторитарность) слова, но открывает его новые перспективы. Она есть проявление переориентации языкового сознания — его «секуляризации», «обмирщения» (О. Мандельштам), оличнения и одновременно переноса центра тяжести с надличностных отношений на межличностные.
Описанный процесс идет параллельно в поэзии и прозе. Благодаря трудам М. М. Бахтина более освещена трансформация прозаического слова. Он показал, что в интересующую нас эпоху наряду с риторическим («прямым непосредственно направленным на свой предмет словом как выражением последней смысловой инстанции говорящего»), то есть наряду со словом одноголосым, утверждается двуголосое слово, ориентированное на чужое (другое) слово. Это важнейшее событие в исторической жизни языкового и эстетического сознания, без его учета непонятно дальнейшее развитие литературы. Данное событие ставит перед наукой ряд новых для нее проблем. Если вплоть до XX в. стилистика была учением о прямом и одноголосом слове, то новая стилистика на наших глазах начинает становиться также наукой и о слове двуголосом, или диалогическом.
В двуголосом слове организующим началом является межличностная интенция, принимающая разные формы. Бахтин выделяет:
- 1. Однонаправленное двуголосое слово (стилизация, рассказ рассказчика, необъектное слово героя, Ich-Erzahlung).
- 2. Разнонаправленное двуголосое слово (пародия со всеми ее оттенками и всякая передача чужого слова с переменой акцента).
- 3. Активный тип, или отраженное чужое слово (скрытая внутренняя полемика, полемически окрашенная автобиография и исповедь, всякое слово с оглядкой на чужое слово, реплика диалога, скрытый диалог).
Подробной характеристики этих типов мы здесь давать не будем, отсылая к соответствующим трудам М. М. Бахтина, но коснемся специфики двуголосого слова в связи с соотнесенным с ним и менее популярным, но чрезвычайно важным понятием стилистической трехмерности слова. Вспомним стихи Ленского из «Евгения Онегина» :
Куда, куда вы удалились, Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит, В глубокой тьме таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она, Все благо: бдения и сна Приходит час определенный.
Блеснет заутра луч денницы И заиграет яркий день;
А я — быть может, я в гробницы Сойду таинственную сень, И память юного поэта Поглотит медленная Лета, Забудет мир меня; но ты Придешь ли, дева красоты, Слезу пролить над ранней урной И думать: он меня любил, Он мне единой посвятил Рассвет печальный жизни бурной.
Если бы мы прочли приведенные стихи в журнале того времени за подписью «В. Ленский», то восприняли бы их как создание романтического автора, использующего характерное для упомянутой школы прямое и одноголосое слово. Последнее воспринималось бы нами как двухмерное — и это минимальная для художественного образа мерность, ибо он предполагает: 1) предмет; 2) его отражение. Но у Пушкина процитированный фрагмент не просто стихотворение романтического стиля, а еще и образ самого этого стиля. Поэт создает его, используя двуголосое слово.
Прежде всего, слово героя (Ленского) становится не только выражением последней смысловой инстанции говорящего, но и предметом изображения. Слегка утрированно воссоздаются свойственная романтическому стилю условность («стрелой пронзенный» — о дуэли);традиционные для него словесные топосы (гробница, глубокая мгла, таинственная сень, луч денницы и т. д.); подчеркнутая нелюбовь к прямому называнию предметов и избыточность перифраз, над чем Пушкин иронизировал, говоря о манере карамзинистов; характерные конструкции типа «дева красоты» (здесь качество субстантивируется, абстрагируется) или «ранняя урна» — сочетание, в котором слова связываются по своим вторичным, тропеическим значениям (урна — метонимия смерти, и именно к этому слову на самом деле должен быть отнесен эпитет «ранняя»); и т. д. В довершение к описанной стилевой двухакцентности повествователь и прямо оценивает создание героя: «Так он писал темно и вяло, / Что романтизмом мы зовем, / Хоть романтизма тут нимало / Не вижу я…» .
Так слово, которое для героя — способ изображения, для первичного автора еще и предмет изображения, а потому оно начинает обращаться на себя, разыгрывать себя, становиться стилистически трехмерным, то есть включающим: 1) предмет; 2) его отражение; 3) отражение этого отражения, или образ образа.
Следует ясно понимать, что образ образа — совсем не то, что просто образ, и разница тут не только количественная, но и качественная. В традиционном образе например, в тропе все отношения разыгрываются между словом и предметом. В двуголосом и стилистически трехмерном высказывании над этим уровнем надстраивается новый — отношение слова к слову. Возникает то, что Бахтин называет «прозаическим иносказанием», которое принципиально отлично от иносказания поэтического и для которого пока нет адекватного термина. Но очевидно, что оно держится не на субъектно-объектных, а на субъектно-субъектных отношениях, а потому его многозначность становится не отвлеченно-логической, а бытийно-субъектной.
Мы приводили высказывание повествователя о стихах Ленского: «так он писал темно и вяло…». В романе есть и другая характеристика их:
Он пел любовь, любви послушный, И песнь его была ясна, Как мысли девы простодушной, Как сон младенца, как луна.
Очевидное противоречие этих двух соотнесенных оценок — не логическое, оно коренится в различии субъектных позиций. Первое высказывание дано от лица повествователя, как его точка зрения (хотя курсив свидетельствует, что он и здесь воспользовался чужим словом). Второе высказывание, хотя оно формально тоже принадлежит повествователю, на самом деле дано в кругозоре Ленского, как его самооценка. Поэтому в слове «ясна» скрещиваются две интенции: прямо направленная на предмет самооценка героя («здесь „песнь“ Ленского сама себя характеризует, на своем языке, в своей поэтической манере») и едва заметная ироническая направленность повествователя на слово героя. В целом же слово становится двуголосым и стилистически трехмерным, превращается в «прозаическое иносказание», хотя, как мы уже отмечали, оно принципиально отлично от поэтического тропа.
Бахтин так пишет об этом отличии: «Как ни понимать взаимоотношение смыслов в поэтическом символе (тропе), это взаимоотношение, во всяком случае, не диалогического рода, и никогда и ни при каких условиях нельзя себе представить троп (например, метафору) развернутым в две реплики диалога, то есть оба смысла разделенными между двумя разными голосами. Поэтому-то двусмысленность (или многосмысленность) символа никогда не влечет за собой двуакцентности его.
Рассмотрим прозаическое иносказание на примере «Легкого дыхания» И. А. Бунина. Кому принадлежит словесный образ, ставший заглавием? Как выясняется в конце рассказа, это слово из «старинной книги». В финале классная дама вспоминает нечаянно подслушанный ею разговор Оли Мещерской с подругой: «Я в одной папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины… Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, понимаешь, длиннее обыкновенного! маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда есть?». Ср. финальную фразу: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре» .
Итак, перед нами, во-первых, слово из старинной книги; во-вторых, воспоминание классной дамы; в-третьих, слово Оли Мещерской, очень лично и современно рефлексирующей над «старинной смешной книгой» и ее стилем («так и написано: кипящие смолой!»); в-четвертых, слово повествователя, подхватывающего слово уже трижды отраженное; наконец, в-пятых, авторское заглавие. Проводимое через все эти голоса, «легкое дыхание» получает каждый раз новые грани смысла (оно не равно себе даже в заключительной фразе повествователя и в заглавии). Его многозначность рождается именно на переходе из голоса в голос, а не благодаря тому, что оно приобретает переносное, в традиционном смысле, значение.
Итак, прозаическое иносказание, двуголосое и стилистически трехмерное слово — новый исторический тип художественного слова, зревший в недрах прозы и выдвинувшийся на авансцену литературы в нашу эпоху. Акцентированное в нем отношение слова не просто к предмету, но и к другому слову, выход на уровень межсловесной духовной реальности — важный шаг в самоопределении искусства. Движение в этом направлении происходит не только в прозе, но и в поэзии.
В приведенном выше высказывании Бахтина подчеркивалось принципиальное отличие двуголосого прозаического слова от слова поэтического.
Сам по себе троп действительно является одноголосым. Но мы уже знаем, что это не единственный образный язык поэзии.
В интересующую нас эпоху поэзия своими путями преодолевает одноголосие, и решающим шагом на этом пути (сопоставимым с тем, что мы описали в прозе) стало появление в ней «простого», или нестилевого, слова («прозаизма»).
Известно, что именно в поэзии риторическая искусность, украшенность, культивированность слова были доведены до предела. Был создан особый, замкнутый в себе, отгороженный от практического поэтический язык, в который не могло проникнуть слово из «жизни» — «сырое», не обработанное предварительно, не имеющее стилевого «клейма» .
В нашу эпоху такой язык начинает трансформироваться уже у Гете, особенно у Г. Гейне, П. Верлена, А. Рембо, Г. Аполлинера, в русской поэзии — от А. Пушкина до В. Хлебникова и Б. Пастернака. Классический пример подобной трансформации — известное место из «Осени» Пушкина:
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод:
Желания кипят — я снова счастлив, молод, Я снова жизни полн — таков мой организм.
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
" Простое" слово — «организм» — выглядит здесь по сравнению с другими пришельцем из иного мира. Оно вторглось в литературу прямо из прозаической действительности, в своем «сыром», необработанном и необлагороженном виде. Притом «простое» слово не обязательно должно быть грубым или «низким» (хотя современная литература любит его делать даже обсценным), но обязательно должно быть ощутимо как «другое». В рассматриваемом случае его маргинальность подчеркнута тем, что оно дано в окружении традиционных поэтизмов («желания кипят», «я расцветаю»), условность которых обнажена, ибо они являются стертыми метафорами. На таком фоне «организм» — не просто диссонанс, а перевод описания на другой язык, как в известном месте из «Евгения Онегина»: «Не потерплю, чтоб развратитель / Огнем и вздохов и похвал / Младое сердце искушал; / Чтоб червь презренный, ядовитый Точил лилеи стебелек; Чтобы двуутренний цветок / Увял, едва полураскрытый». Все это значило, друзья: / С приятелем стреляюсь я" .
Суть в том, что поэт, не отказываясь от традиционного поэтического слова, постоянно сополагает его с «простым», так что в произведении не оказывается одного языка, внутри которого было бы локализовано художественное сознание автора — оно живет в зоне пересечения не соприкасавшихся прежде условно-поэтического и простого слова. Важно, что последнее — не частная стилевая новация, не еще одно стилевое средство в ряду других. Оно принципиально не может быть «синтезировано», сведено к одному знаменателю с традиционным поэтическим словом. Внедрение простого слова в поэзию делает ее ощутимо двуязычной.
По определению С. Г. Бочарова, «простое слово вообще выходит за границы какого-либо определенного стиля, уже не является „стилем“, но именно противостоит ярко выраженному стилю как простой язык самой реальности». В терминах исторической поэтики это означает появление качественно нового типа образного слова, принципиально отличного и от риторического, и от мифологического.
Если риторическое слово имело заранее предрешенную модальность и стилевую окраску, то простое слово свободно от предписанного стилевого ореола (который рождается в нем каждый раз заново из контекста) и имеет не условно-поэтическую, а субстанциальную модальность, претендуя на то, чтобы быть воспринятым как некая безусловная реальность. Данная черта сближает его с мифологическим словом, по существу же они выступают по отношению друг к другу как дополнительные противоположности — два полюса исторического развития художественного языка.
Трансформировав замкнутую художественную систему, простое слово актуализировало взаимодействие и взаимоосвещение образных языков. Встретившись с ним, традиционно-поэтическое слово потеряло свой самодовлеющий характер и оказалось лишь одним из мыслимых языков. Оно перестало быть лишь изображающим и не отрефлексированным, а предстало и как изображенное. Но и само простое слово в данной ситуации оказалось вынужденным увидеть себя не как саму реальность (подобно слову в мифe), а как определенный «язык» этой реальности. Таким образом, во взаимодействие были вовлечены все три исторически сложившиеся типа образного языка.
В поэзии XX в. завершился период своей экспансииростого слова: «из исключения оно становится правилом — тем самым, в сущности, отменяется прозаизм в качестве принципиального стилистического факта». Но все дело в том, что, перестав функционировать в качестве «прозаизма», простое слово преобразовало весь язык поэзии, прежде всего, отменило специальный поэтический язык как некую готовую данность и заставило осознать его как некую заданность — как язык в его художественной модальности.
Этот факт был по-своему осознан и интерпретирован теорией литературы. По формулировке Р. Якобсона, «поэзия есть язык в его эстетической функции». Следует заметить, что данное утверждение имеет силу только применительно к нашей стадии развития поэтики — ни мифологическое, ни риторическое слово не были языком в его чисто эстетической функции, они обслуживали сферу гораздо более широкую (ритуала, культа, общественного красноречия и т. д.). Именно с рождением художественной модальности слово обрело эстетическую автономию и стало управляться имманентными законами художественного творчества. Такой имманентный принцип Якобсон определял как «высказывание с установкой на выражение». Нельзя не заметить, что и это определение справедливо прежде всего применительно к нашей эпохе. Не отрицая наличия минимальной установки на выражение в риторическом слове, следует помнить, что его возможности в этом плане были ограничены характером его рефлексии, которая не распространялась на другие мыслимые языки. Именно в поэтике художественной модальности установка на выражение оказалась связанной с возможностью выбора языков, что сделало слово не только изображающим, но и изображенным, то есть стилистически трехмерным.
Понятие поэтической модальности, к которому мы подошли на уровне образного языка, было предложено Д. Е. Максимовым. Он заметил, что в «Двойнике» А. Блока город и призрачный мир зеркал изображены так, что «воспринимающее сознание балансирует между этими мирами, не зная, к какому из них прочнее прикрепить ситуацию стихотворения»; в результате создается «особый вид поэтической модальности Стихотворение по своей содержательной фактуре связано с материальным миром и немыслимо без него, но оно в то же время вносит в этот мир психологически достоверную условность, подвижность „модального сознания“, относительность, и тем самым не умещается в границах этого мира, расшатывает его». Лингвостилистический аспект названного понятия был развит Е. А. Некрасовой, которая начала понимать под поэтической модальностью такое отношение форм речи к действительности, при котором вероятностными и относительными становятся границы бытийного и компаративного планов слова.
Однако поэтическая модальность должна быть понята и более широко как специфически художественное отношение слова к действительности, при котором слово не может быть сведено ни к эмпирически-бытовому, ни к условно-поэтическому, ни к субстанциально-мифологическому смыслам, а выступает как их принципиально вероятностная, но эстетически реализованная мера. Особенно важно для исторической поэтики, что в эту модальную целостность оказались втянуты не только современные, но и архаические образные языки кумуляции и параллелизма. В процессе взаимодействия каждый из исторически известных типов образа претерпел существенные изменения. Коснемся сначала вопроса об эволюции тропов.
В поэтике художественной модальности образный язык тропа интенсивно развивается, становится все более сложным, индивидуальным и непредсказуемым. Но в самой необычности и «лирической дерзости» (Л. Толстой) тропов в XIX и XX вв. формируются качества, отличающие их от тропов классических. Такие, например, образы А. Фета, как «овдовевшая лазурь», «цветов обмирающий зов», «моего тот безумства желал, кто смежал / Этой розы завои, и блестки, и росы», не просто смелы и неожиданны. Сама их новизна — результат иного, чем прежде, видения мира.
Еще Вл. Соловьев заметил, что если для прежних поэтов одушевленность природы была лишь условным поэтическим образом, то Ф. Тютчев видит ее живой буквально, а не метафорически. Это же самое можно сказать и о А. Фете, П. Верлене, Р.-М. Рильке, Б. Пастернаке, С. Есенине, Гарсиа Лорке и др.
Позже было показано, что уже у Тютчева и Фета одушевление природы часто не может быть понято как простая метафора.
Проявляется это в том, что если прежде человеческие свойства приписывались явлениям природы в прямой связи со свойствами самих природных явлений — по сходству, то оба поэта отступают от указанного принципа:
Дул север. Плакала трава И ветви о недавнем зное, И роз, проснувшихся едва, Сжималось сердце молодое.
(А. Фет).
" Плакала трава" мог бы сказать и прежний поэт, и у него это была бы метафора дождя. Но у Фета данный образ вовсе не предполагает дождя — в стихотворении его нет, как нет и в другом стихотворении («В лунном сиянии»), где говорится: «Пруд как блестящая сталь, / Травы в рыдании». Предметной мотивации нельзя обнаружить и в образе «…смежал / этой розы / завои, и блестки, и росы», вызвавшем недоумение даже у поэта — Я. Полонского. В подобных случаях начинает переосмысляться сам художественный принцип метафоры, в классическом виде предполагавшей (в отличие от параллелизма) именно сходство сополагаемых явлений. Еще более деформируются основания тропов в поэзии XX в., когда метафоры и сравнения вновь стремятся опереться не на видимое сходство, а на былую мифологическую семантику (вполне сознательные опыты в этом направлении осуществлял, например, Вяч. Иванов).
Наряду с внутренним изменением тропов в это время подвергаются пересмотру сами границы прямого и переносного значений слова. Игра компаративным и бытийным планами начинается еще в XIX в. В XX же веке, как показали исследования в области лингвистической поэтики, становятся весьма частыми случаи, когда «прямое обозначение и его непрямое соответствие существуют в единстве и выражены непосредственно». К данному кругу явлений близки всевозможные случаи обмена функций между прямым и тропеическим словом. Так, замечено, что в отличие от слова, которое в поэзии символистов «утрачивает свою непосредственную направленность на предмет, тропы — тяготеют к реализации и использованию в прямом значении». Отметим также распространенные «обратные сравнения, в которых образ сравнения представлен как его предмет», и «обоюдные тропы» (слово в прямом значении и его соответствие, образующие один троп, в другом тропе меняются местами). В постсимволизме такая игра дорастает до эквивалентности прямого и тропеического слова.
В основе этих внутренних и внешних преобразований тропа лежат глубинные процессы изменения структуры образного мышления. Во второй половине XIX в. Ш. Бодлером был творчески воплощен и эстетически осознан принцип «соответствия» (correspondance). В стихотворении с таким названием поэт писал:
Природа — некий храм, где от живых колонн Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов мы бродим в этом храме, И взглядом родственным глядит на смертных он.
Подобно голосам на дальнем расстояньи, Когда их стройный хор един, как тень и свет, Перекликаются звук, запах, форма, цвет, Глубокий, темный смысл обретшие в слияньи.
Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад, Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие — царственны; в них роскошь и разврат.
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,.
Так мускус и бензой, так нард и фимиам Восторг ума и чувств дают изведать нам.
(пер. В. Левика).
Веселовский, знавший поэзию французских и русских символистов, писал, как мы помним, что по сравнению с эпохой синкретизма «мы научились наслаждаться раздельно и раздельно понимать окружающие нас явления, не смешиваем, как нам кажется, явлений звука и света, но идея целого, цепь таинственных соответствий (курсив мой. — С.Б.) окружающих и определяющих наше „я“, полонит и опутывает нас более прежнего». В стихотворении Бодлера, которое стало эстетической программой символизма и оказало значительное влияние на последующую поэзию и прозу, перед нами именно такой случай.
И дело, конечно, не в простом возрастании интереса к архаическим формам художественного мышления: совершаются преодоление рационалистического видения мира (с характерным для него акцентированием причинно-следственных связей между явлениями) и выход к особого рода неосинкретизму. Природа видится, как у Тютчева и Фета, живой и говорящей не метафорически, а на каком-то ином языке, но и жизнь, и язык не открываются логике субъектно-объектных и причинно-следственных отношений.
Еще А. Шопенгауэр утверждал, что отношения между субъектом и объектом не подчинены закону основания и не есть отношение причины и действия. У Бодлера и символистов это именно так. И сама природа у них уже не объект, а субъект, поэтому в образе возникает обратная перспектива: природа смотрит на человека родственным взором (позже такая перспектива станет определяющей в художественном видении Рильке и Пастернака, у которого читаем «Меня деревья плохо видят на отдаленном берегу»). Поэтому и язык ее основан не на механизме причинно-следственной логики, а на таинственном соответствии того, что мы привыкли воспринимать как раздельное — звука, запаха, цвета, формы. Запах имеет цвет, звук и плоть, он связан с «чистотой» или «развратом», свежестью, нежностью и т. д. Подобный неосинкретизм представлен и в «Гласных» А. Рембо:
А — черный, белый, Е, И — красный, У — зеленый, О — синий: тайну их скажу я в свой черед.
А — бархатный корсет на теле насекомых, Которые жужжат над смрадом нечистот.
Е — белизна холстов, палаток и тумана, Блеск горных родников и хрупких опахал.
И — пурпурная кровь, сочащаяся рана Иль алые уста средь гнева и похвал.
У — трепетная рябь зеленых вод широких, Спокойные луга, покой морщин глубоких На трудовом челе алхимиков седых.
О — звонкий рев трубы, пронзительный и странный, Полеты ангелов в тиши небес пространной, О — дивных глаз ее лиловые лучи.
(пер. А. Кублицкой-Пиотух).
Здесь звуки не просто окрашены. «Е», например, не только белое, но и блестящее, чистое, холодное, хрупкое, высокое; «И» — красное, горячее, страстное, опасное.
Неосинкретизм получает распространение не только в литературе. На нем зиждятся музыкальная драма Р. Вагнера, звуко-цветовая и словесная мистерия А. Скрябина, живопись К. Чурлениса и т. д. За всеми этими фактами стоит чрезвычайно важное для исторической поэтики событие — рождение «нового восприятия мира; не отдельных предметов в мире, а всего мира, всей целостности пространства-времени. Тяжелые контуры предметов размываются, и за ними проступает некое текучее единство, „синяя вечность“. Это единство не складывается из предметов, а предшествует им (подобно пленэру в картинах импрессионистов). Онтологически оно реальнее, первичнее; предметы складываются из игры его волн» .
Новым видением мира объясняется актуализация архаического образного языка. Наиболее очевидно то, что ко второй жизни возрождается символ (мы помним, что по своему генезису это одночленный параллелизм), который стал эстетическим знаменем целого литературного направления и не потерял своего значения для последующей литературы. Но воскресает и наиболее древняя форма параллелизма — двучленная.
Двучленный параллелизм начинает играть важную роль в образной системе Тютчева и Фета, Верлена и Малларме, Блока и др., но не ограничивается поэзией, а совершает выход в прозу — у М. Пруста, Дж. Джойса, Пастернака. Вот несколько егопримеров:
О, нищая моя страна, Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена, О чем ты горько плачешь?
(А. Блок. «Осенний день»).
Ужасный! Капнет и вслушается:
Все он ли один на свете Мнет ветку в окне, как кружевце, Или есть свидетель.
К губам поднесу и прислушаюсь, Все я ли один на свете, Готовый навзрыд при случае,.
Или есть свидетель…
(Б. Пастернак. «Плачущий сад»).
" Бесплодный, голый, пустынный край. Вулканическое озеро, мертвое море, ни рыбы, ни водорослей, глубокая впадина в земле Мертвое море в мертвой стране, седой, древней. Древней сейчас. Она кормила древнейшее, изначальное племя. Сгорбленная старуха перешла улицу Древнейший народ. Скитался в дальних краях, по всей земле, из плена в плен, плодясь, умирая, рождаясь повсюду. Земля его лежит там. И больше не может родить. Мертва — старушиная — седая запавшая … планеты" (Дж. Джойс. «Улисс»).
" Между родным краем девушки и ее темпераментом, управляющим модуляциями голоса, мне слышался чудесный диалог, диалог, но не спор. Ни одна из модуляций не отчуждала девушку от родины. Девушка все еще представляла собой свою родину" (М. Пруст. «В поисках утраченного времени»).
" Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня:
Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка" (см. и в другом месте: «И эта даль — Россия Вот это-то и есть Лара». Б. Пастернак. «Доктор Живаго»).
Во всех приведенных фрагментах отношениями параллелизма («соответствия») связывается природа и женщина либо женщина и родина (в «Плачущем саде» — «я» и сад), а сам образный язык, который избирают художники, имманентно несет в себе архаическую семантику не условного сходства, а субстанциального синкретизма. Этот язык требует от нас буквального, а отнюдь не метафорического понимания того, что женщина и есть природа или страна, а не просто похожа на них. Троп по самой своей природе неспособен стать носителем такой семантики, поэтому он и восполняется в поэтике художественной модальности возрожденным двучленным параллелизмом.
Кроме того, в интересующую нас эпоху актуализируется еще более древний образный язык кумуляции. Вот несколько его примеров:
Страшный мир! он для сердца тесен!
В нем твоих поцелуев бред, Темный морок цыганских песен, Торопливый полет комет.
(А. Блок) Глаз. Хрусталик. Христос.
О двадцатый хрусталик веков.
(Г. Аполлинер) Все перепуталось, и некому сказать, Что, постепенно холодея, Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
- (О. Мандельштам)
- (В I эпизоде «Улисса» Бык Маллиган просит у Стивена носовой платок, далее следует):
" Сморкальник барда! Новый оттенок в палитру ирландского стихотворца: сопливо-зеленый Как верно названо море у Элджи: великая нежная мать! Сопливо-зеленое море Эпи ойнопа понтон Талатта! Талатта! Наша великая и нежная мать Моя тетка считает, что ты убил свою мать, сказал он Во сне, безмолвно, она явилась ему после смерти Поверх ветхой манжеты он видел море, которое сытый голос превозносил как великую и нежную мать. Кольцо залива и горизонта заполняла тускло-зеленая влага. Белый фарфоровый сосуд у ее смертного одра заполняла тягучая зеленая желчь Облако медленно наползает на солнце, и гуще делается в тени зелень. Он был за спиной у него, сосуд горьких вод" .
Здесь кумулятивно следуют друг за другом платок-родина-Ирландия-море-мать-сосуд с желчью.
Кумуляция еще шире, чем двучленный параллелизм, разворачивает «соответствия» в смысловом пространстве, создавая семантическое тождество очень удаленных друг от друга явлений. «Я привык, писал А. Блок, сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они создают единый музыкальный напор». Возникающее в результате целое, как и древний кумулятивный образ, несет в себе семантику не условного сходства, а субстанциального подобия. В то же время это целое стихийно и, с классической точки зрения, алогично. В нем нарушена привычная связь явлений, «выброшена длинная цепь диалектических и чувственных посылок», поэтому «выводы ума и сердца кажутся дикими, случайными и ни на чем не основанными Жизнь протекает, как бы подчиняясь другим законам причинности, пространства и времени». Эти «другие законы» — законы неклассической вселенной и неклассической поэтики, предельно далекие от метафоризма и сближаемые поэтом с архаическим языком метаморфоз. Для удобства анализа мы отдельно рассмотрели трансформацию тропов, возрождение кумуляции и параллелизма, упомянули об общеизвестном факте актуализации символа. Но все эти феномены не существуют в литературе в изолированном виде. Теперь нам предстоит возвратиться к явлению художественной модальности как принципу отношения образных языков.
Присмотримся сначала к двум стихотворным фрагментам:
Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней.
(Ф. Тютчев. «Последняя любовь»).
Моего тот безумства желал, кто смежал Этой розы завои, и блестки, и росы, Мoero тот безумства желал, кто свивал Эти тяжким узлом набежавшие косы.
(А. Фет).
Оба они основаны на двучленном параллелизме. Имманентным языком образа здесь задается не условное метафорическое сходство, а буквальный синкретизм последней любви и вечерней зари, природы и женщины. И этот смысл не может быть подвергнут сомнению и осмыслен от наших стихотворений.
В то же самое время мы видим, что параллелизм не является единственным образным языком процитированных фрагментов. У Тютчева параллелизм любви-зари осложнен предшествующим словом — «свет». В сочетании с любовью («свет любви») это сравнение-метафора (или генитивное сравнение); в сочетании с зарей («свет зари») данная конструкция не имеет переносного смысла. Сходное явление мы наблюдаем у Фета. В первую (природную) часть параллелизма входит слово «смежал», которое в этом ряду является метафорой, привносящей в природу человеческий ореол (смеженные веки женщины, которая появится только во второй, «человеческой» половине параллелизма).
Если внутренней формой параллелизма является синкретизм, то внутренней формой метафоры — различение. Образ у Тютчева и Фета оказывается не единоцельным; он есть не сводимое к одному знаменателю отношение разных (и разностадиальных) образных языков, а потому не может быть понят ни как чисто мифологический, ни как только условно-поэтический. Текст не дает нам остановиться на его мифологически-буквальной интерпретации (хотя ее же и предписывает), но не позволяет и воспринять его только как простую условность (хотя он ее в себе и заключает). Таково явление поэтической модальности — отношение образных языков, создающее особого рода художественную реальность, которая, в отличие от других типов реальности, не может быть однозначно понята.
Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение И. Анненского «Октябрьский миф» :
Мне тоскливо, мне невмочь.
Я шаги слепого слышу:
Надо мною он всю ночь Оступается о крышу.
И мои ль, не знаю, жгут Сердце слезы или это Те, которые бегут У слепого без ответа, Что бегут из мутных глаз По щекам его поблеклым И в глухой полночный час Растекаются по стеклам.
В контексте двух первых строк «слепой» — простое (нестилевое) слово: это другой (и, как обычно у Анненского, страдающий) человек. И отвлечься от данного непереносного, буквального смысла мы не сможем на протяжении всего стихотворения. Но неединственность этого образного языка у Анненского еще очевидней, чем у Тютчева и Фета. Ведь в более широком контексте всей первой строфы простое слово «слепой» становится еще и метафорой дождя. Но и открывшийся метафорический язык во 2−3 строфах не развит, а трансформирован: дождь оказывается не самим слепым, а лишь его слезами. Поэтому мы вынуждены, не забывая о метафорическом смысле, вновь вернуться (особенно учитывая заглавие стихотворения) к неметафорическому и буквальному, но уже мифологически-буквальному смыслу.
В целом же «Октябрьский миф» — стихотворение и о другом человеке, и о дожде (природе), и о мире как живом существе, двойнике лирического «я». Перечисленные смыслы у Анненского так же неотделимы друг от друга, как слезы «я» от капель дождя. Но они не единоцельны, а единораздельны (поэт называл это «абсурдом цельности» и «реальностью совместительства»), и данный тип целого создается благодаря тому, что мы называем поэтической модальностью. Стихотворение существует как отношение простого слова, метафорического и мифологического образных языков и их имманентных смыслов, и не может быть сведено ни к одному из них. Перед нами не эмпирическая, не условно-поэтическая, не мифологическая реальность, а реальность чисто художественная, определяющим признаком которой в нашу эпоху становится ее существование в качестве вероятностно-множественной и модальной.
С обретением так понятой модальности образный язык художественной литературы самоопределяется и обретает автономию от других языков, а сама литература — от других областей идеологического творчества. Это важнейшее свершение новой поэтики нужно понимать, разумеется, не в том смысле, что слово стало в ней независимо от предмета («жизни»), а в том, что предмет теперь должен в ней преломиться через структуру самого осознающего себя и художественно модального слова. Это и имел в виду Ст. Малларме, когда утверждал, что поэмы пишутся не идеями, а словами. Здесь не было недооценки идей (что было бы странно для поэта-философа), но содержалось требование их явленности в специфически художественной форме слова.
В словесном искусстве это кажется само собой разумеющимся, но данная мысль далеко не тривиальна и должна, как все простые вещи, быть углубленно осмыслена. Мы только начинаем приближаться к пониманию действительного смысла самоценности словесного образа, потому что большинство наших навыков, воспитанных еще риторической культурой, побуждает нас смотреть на слово как на техническое средство изображения (этому способствовали и крайности структурно-семиотического метода в литературоведении). Между тем именно в наше время было осознано в художественном опыте и теоретически сформулировано, что «как бы ни было значительно и важно изображаемое, само изображающее тело (прежде всего слово. — С.Б.) никогда не становится только технически служебным и условным носителем изображения. Произведение является прежде всего самоценною частью действительности, ориентированною в этой действительности не через изображенное содержание только, но и непосредственно как данная единичная вещь, как определенный художественный предмет» .
Поэтому в литературе слова не «знаки», а особые духовные предметы, сама «материя» которых «непосредственно представляет смысл», «держит» его своей силой и разворачивает из себя. Рассмотрим простейший пример строки Ф. Тютчева:
Увы! как северное лето, Был мимолетным гостем он.
Здесь все держится силою слова, а не просто предмета изображения. Паронимия «лето» и «мимолетный» порождает поэтическую этимологию: корни (независимо от своего действительного или мнимого этимологического родства) приходят в соприкосновение и обмениваются смыслами. В «лете» начинает актуализироваться «летящее», быстротекущее, а в «мимолетном» «лето», время. Самой своей пробуждаема и «остраненной» внутренней формой слова? начинают говорить, и, как писал C. Маршак, «не о чем-то говорят, а что-то» .
Приведенный пример — элементарная модель такого отношения к слову, которое специфично для поэтики художественной модальности. М. К. Мамардашвили пишет о стиле Флобера: «Предельная точка, к которой он приходит, следующая: роман должен содержать в себе описание таких событий и смыслов, которые порождены самим стилем романа в отличие от естественных, спонтанных порождений»; или, по другой формулировке: «Сам стиль, вещественное соединение элементов изображения является не отражением того понимания, продуктом которого явилось, а само изображение становится исходной точкой последующего понимания». Вот два примера подобных изображений.
" Корабль шел, рассекая воду, проходя между плавающими обломками деревьев, которые колебались по мере колыхания самих вод" (Г. Флобер).
" Знаешь эти осенние накатанные дороги, тугие, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем золотой полосой" (И. Бунин).
О флоберовском фрагменте М. Пруст пишет, что такое «колыхание» является зачатком или первым элементом стиля; в интерпретации М. К. Мамардашвили, оно «содержит в себе какую-то энергию, но так ее содержит, что само уже является исходным пунктом всего последующего движения». То же можно сказать о бунинском описании: пластическая упругость предмета изображения (дороги) здесь становится первоэлементом самого стиля и разворачивается через него. Бунин пишет не о дороге только, он пишет дорогой, предмет изображения становится у него словом и стилем. Р. М. Рильке говорил в аналогичных случаях о «стихотворениях-вещах», О. Мандельштам и футуристы о «слове как таковом» (к отмеченному пределу стремились и футуристы, хотя внесли в понимание «слова как такового» оттенки, которые затемнили и отодвинули его действительный смысл).
Очевидно, словесный образ становится самоценным тогда, когда он перестает быть только средством изображения, обращается сам на себя, становится и предметом изображения, то есть из объекта превращается в субъект. Так происходит, например, в «Последней надежде» Верлена:
Она деревцом терпеливым Растет у забытых могил, Подобно кладбищенским ивам, Которых никто не садил.
И птица, как верность поруке, Не молкнет в тени деревца.
И разве не наши сердца ;
Те ветви и певчие звуки?
Ты память, я — холод разлуки, Которой не будет конца…
О жить бы! Но горсточка праха Замрет, порастая быльем.
Ну что ж… Отзовись, моя птаха!
Я жив еще в сердце твоем?
Приведенный пример показателен тем, что в нем автономия словесного образа более очевидно, чем в текстах Флобера и Бунина, связана с метаповествовательным началом. Здесь образ («песня») — рефлексирующий над самим собой предмет изображения, становящийся благодаря этому и объектом, и субъектом художественной ситуации; и образом, и образом образа. До некоего предела доводит эту возможность образа Пастернак в стихотворении с характерным названием «Про эти стихи» (ведь и стихотворение Верлена тоже «про эту песню»):
На тротуарах истолку С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолку И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прянет чехарда Чудачеств, бедствий и замет.
Буран не месяц будет месть.
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет Рождество, И разгулявшиеся денек Откроет много из того, Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь, Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил, Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож, Как, а ад, в цейхгауз и в арсенал, Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы в вермут окунал.
Пастернак не просто пишет «стихи», как и Верлен, не просто создает «песню». Перед нами стихотворение стихотворения (и песня песни). Как оно возникает?
Прежде всего «онтологизируется» стиль: он становится самим самозабвенным движением жизненной стихии (как у Верлена — птичьим пением, у Флобера — колыханием моря, а у Бунина — упругостью дороги). Художественный «предмет», возникающий из так понятого стиля, будет не отражением, а самим чистым «феноменом» стиха, песни, моря или дороги — он не просто говорит о них, он ими становится. Здесь должно быть достигнуто то, что писал Пастернак о стихах Блока: «Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие, воздействующие следы» .
Однако неклассическая литература делает в развитии образа еще один шаг. Ей мало того, чтобы произведение содержало в себе «описание таких событий и смыслов, которые порождены самим стилем (М.К. Мамардашвили). Ей нужно, чтобы само произведение, в котором это происходит, стало не эстетическим объектом, а эстетическим субъектом.
Стихотворение Пастернака начинается с того, что оно само ставит себя — «эти стихи» в один кумулятивный ряд со стеклом и солнцем. Образный язык такого соположения создает двойной семантический эффект. Во-первых, соположенные феномены: искусство, вещный мир и природа — оказываются самостоятельными членами ряда. Во-вторых, кумулятивная цепочка предполагает семантическое тождество своих составляющих, наличие «соответствий» между ними.
И действительно, у Пастернака стихи, предметы и природа — порождение единой стихии жизни, и поэт не только с самого начала выделяет и сополагает их как самостоятельно существующие феномены, но и вновь перемешивает их («истолку»), как бы возвращая в состояние исходного синкретизма. Поэтому все, что происходит в дальнейшем, — результат «перекрестных действий» (Б. Пастернак) этой порождающей стихии, внутри которой стихи, предметы и природа являются в равной мере действующими лицами, субъектами, а не объектами. В качестве таковых стихи пишут сами себя, так же, как солнце светит, а стекло отражает, то есть стихи превращаются в «порождающее новые образы устройство» .
Мы у того предела, которого достиг сегодня художественный образ, хотя он был уже намечен в самом начале поэтики художественной модальности. Предел этот не менее загадочен, чем синкретическое первоначало образа, и явно связан с ним. Историческая поэтика только начинает проливать свет на эту загадку.