Научная деятельность современников Карамзина
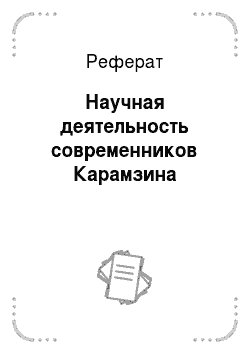
Отмеченные черты Евгения, как ученого, помогут нам выяснить его отношение к исторической науке его времени. Как неутомимый собиратель материала, он шел впереди Румянцевского кружка и указывал ему путь на первых шагах его ученой деятельности. Биография Евгения сложилась так, что он стал знатоком русского рукописного материала задолго до Калайдовича, Строева и Востокова. После учительства… Читать ещё >
Научная деятельность современников Карамзина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В то время, как Карамзин работал над своей «Историей государства Российского», в положении русской исторической науки произошли очень крупные перемены. Чем была эта наука до выступления Карамзина? Несколько знатных любителей, несколько иностранных профессоров и несколько учеников, отправленных академией за границу, — вот и весь наш populus historicorum конца прошлого столетия. После Карамзина картина как бы волшебством изменяется. Мы видим целое ученое сословие историков, официально существующее Историческое общество, специальный исторический журнал и массу исторических статей в неспециальных журналах, живую работу детального исследования с постоянным обменом мыслей, с письменной и печатной полемикой. На известном расстоянии от этих явлений впечатление получается такое, как будто весь этот быстрый расцвет учености произведен «Историей государства Российского». Немудрено, что именно такой вывод и сделали панегиристы историографа. За «Историей» Карамзина было, таким образом, надолго упрочено значение эры в русской историографии.
В наше время, однако, все более выплывает из-под спуда деятельность современников, потонувшая в лучах славы «Истории государства Российского». Вместе с тем становится все яснее, что-то, что казалось причинной связью, есть не более как простое хронологическое совпадение. В нашей исторической науке, действительно, совершился переворот в эти немногие годы. Любопытство дилетанта быстро уступило в ней место научному интересу исследователя; и задачи, и приемы исследования совершенно видоизменились. Но это быстрое развитие науки шло не через «Историю государства Российского», а мимо нее. Всматриваясь внимательнее в состав нового поколения исследователей, мы не найдем между ними ни одного ученика Карамзина, хотя некоторые из них, с появлением «Истории государства Российского», и сделались, — с большими или меньшими оговорками, — ее поклонниками. Историограф держал этих своих поклонников-специалистов в почтительном отдалении, снисходительно пользуясь их материалами, замечаниями и поправками, но не давая почти ничего взамен. Уже по этой причине он не мог иметь учеников и должен был остаться в стороне от текущего движения ученой жизни. Припомним, что к тому же приводили и внешние условия его ученой деятельности. Все время сочинения своих первых восьми томов он провел взаперти, в подмосковной деревне, а остальные годы до своей смерти прожил в Петербурге, далеко от Московского университета и от тех сфер, где сосредоточилась ученая работа и ученый обмен мыслей.
Таким образом, чтобы установить преемственную связь явлений нашей историографии, мы должны оставить в стороне историографа и его «Историю» и обратиться к деятельности его современников, — более скромной, конечно, но зато носившей более очередной характер в развитии нашей науки. Писать «Историю», пока не собраны, не очищены, не изданы источники, казалось большинству этих современников сумасбродным предприятием; взяться за него — значило для них отступить от строгих требований критической истории, установившихся в русской науке со времени Шлецера. Не исторический рассказ, а критические издания источников были, с этой точки зрения, ближайшей задачей русской исторической науки.
Восемнадцатый век завещал в этом отношении девятнадцатому два начатых, но не оконченных предприятия: издание летописей и издание актов. Оба предприятия и становятся исходными точками ученой работы нашего столетия.
Мы видели, что первую задачу, критическое издание летописей, поставил Шлецер еще в 60-х годах прошлого века. До конца века знаменитый критик оставлял выполнение этой задачи за собой самим. Издавая в начале XIX в. своего «Нестора», он самым ходом работы должен был, однако, убедиться, что критическое издание в собственном смысле ему не удалось; ему приходилось довольствоваться сознанием, что он первый дал понять русским ученым, что такое критическое издание. Мы знаем также, как понимал Шлецер причины своей неудачи. «У меня было мало списков», — говорил он. Таким образом, отыскание новых списков и новое «очищенное» издание летописного текста — таковы те задачи, которые Шлецер готов был завещать русским ученым. Представив (в 1803 г.) государю через гр. Н. П. Румянцева первые два тома «Нестора», немецкий ученый весьма кстати вспомнил о своих «знаниях и опытности», которые он может передать русским исследователям в обмен на орден Св. Владимира и дворянское звание, которых он добивался. В начале 1804 г. министр просвещения гр. Завадовский доложил государю, что «известный свету по своим обширным в российской истории сведениям» Шлецер выразил желание «соучаствовать с российскими учеными в критическом издании древних русских летописей». Вряд ли министр сам высоко ставил такую задачу. В частной корреспонденции он признавался однажды, что вся древняя история России кажется ему сказками и что «писателю просвещенному довольно было бы одной страницы, чтобы наши все материалы на времена до Петра Великого вместить в оную». Но император Александр I повелел Завадовскому составить для выполнения цели, поставленной Шлецером, особое общество «при одном из ученых сословий» в России; и министр, во исполнение воли государя, обратился к М. Н. Муравьеву, попечителю Московского университета. Сам любитель и писатель по русской истории[1], Муравьев дал ход предложению Завадовского, и академический совет университета, «внемля с благоговением царско-патриотическому высокомонаршему желанию», обещал «употребить всю деятельную ревность в предприемлемом деле, дабы оказаться не недостойными высокого благорасположения» попечителя. Так появилось на свет Московское общество истории и древностей российских. Первым председателем общества был ректор Чеботарев, присяжный оратор на торжественных университетских собраниях. По русской истории он читал лекции в университете, руководясь воззрениями Шлецера; в Москве за ним утвердился даже эпитет «руководителя Шлецера в российской истории», любезно данный ему германским ученым. Другими членами общества были несколько профессоров университета, не имевших почти никакого отношения к русской истории, и несколько любителей и специалистов по русской истории, не имевших почти никакого отношения к деятельности общества; прежде всего сам Шлецер, «приглашенный в содействие, сколько по отсутствию своему может он опытностью своею способствовать», затем А. И. Мусин-Пушкин, счастливый и бесцеремонный собиратель рукописей, малознакомый со своими собственными сокровищами; Н. Н. Бантыш-Каменский, усердно корпевший над рукописями своего архива; другой, более чиновный, чем ученый, представитель архива Министерства иностранных дел, А. Ф. Малиновский, наконец, историограф, державшийся того мнения, что «десять обществ не сделают того, что сделает один человек, совершенно посвятивший себя историческим предметам». Впрочем, и по званию «почетных членов» последняя группа не обязана была принимать ближайшего участия в работах общества.
Таковы были наличные силы, с которыми в 1804 г. началась деятельность первого в России исторического общества. Занятия, предстоявшие обществу, носили характер служебного поручения, которое приходилось выполнять безотлагательно. Поэтому в первом же заседании были установлены принципы критического издания летописей, — на первый раз Нестора. Решено «собрать все самые древние и подлинные рукописи» и, «взяв за основание древнейший из всех манускриптов, как ближайший к подлиннику и менее других испорченный писцами», отпечатывать по листу для рассылки членам, затем через две недели после рассылки собираться, прочитывать сообща «поправки и примечания» членов, потом «утверждать по всех суду самый лучший и вернейший текст» и печатать его окончательно, с необходимыми вариантами и объяснениями. Древнейшим наличным текстом был печатный (по Кёнигсбергскому списку); но присутствовавший на заседании Мусин-Пушкин объявил, что он «из любопытства» сличал издание с рукописным списком и нашел ошибки и даже пропуски. Решено было поэтому выписать подлинный список из Академии наук и ходатайствовать о доставлении других древних летописных текстов из государственных и монастырских хранилищ. Наконец, общество выражало готовность сделать выписки из древних и северных писателей, «если источники, т. е. древние те писатели, начиная с Геродота, со всеми греческими, римскими и северными писателями доставлены будут сему обществу».
Как видим, научная цель и приемы деятельности были приняты вполне шлецеровские, но общество собиралось практиковать эти приемы, как и опасался Шлецер, самым наивным «канцелярским порядком». Однако же, при всей неподготовленности, обнаруженной обществом, поднятый им вопрос о древнейших списках летописи вызвал усиленные поиски в хранилищах, и важные результаты этих поисков не замедлили обнаружиться. Благодаря им приведены были в известность два древнейших списка Лаврентьевской летописи (Троицкой лавры и Мусина-Пушкина); на них и решил основать свое критическое издание председатель Чеботарев. Первый, кто воспользовался новым открытием, был, как мы уже знаем, Карамзин.
При известном нам составе общества вся работа по изданию летописи должна была лечь на единственное лицо, несшее ответственность за деятельность общества и в то же время не лишенное некоторых исторических сведений: на Чеботарева, ученика и «учителя» Шлецера. Коллективное участие членов в предпринятом издании, кажется, скоро сделалось фиктивным; заседаний не бывало иногда по целому году. За шесть лет (1804—1810) Чеботарев напечатал всего 80 страниц летописного текста. «Служба», возложенная на общество, очевидно не выполнялась, и в 1810 г. общество понесло высшую административную кару: оно было официально закрыто. Закулисную историю этого закрытия рассказал недавно историк первых годов общества, Н. А. Попов. Оказывается, что, невинные в исторических упражнениях, члены общества были виновны в излишней приверженности к Карамзину. В этом, по крайней мере, обвинял их новый попечитель университета, П. И. Голенищев-Кутузов, масон поздеевского кружка, ополчившийся на Карамзина как на распространителя в России «якобинского яда». Вместо старого закрытого общества Кутузов подобрал себе кружок ближайших своих друзей, еще более далеких от исторической науки, чем члены старого общества. Правда, в конце концов, ему пришлось принять и старых (за исключением Чеботарева и трех «отказавшихся» профессоров), и в председатели был выдвинут человек, который мог быть приятен обеим партиям, — богач П. И. Бекетов. Но Карамзин после того перестал ходить на заседания, а Мусин-Пушкин демонстративно потребовал назад свою Лаврентьевскую летопись и заявил Кутузову, что отошлет ее в Петербург. Эту угрозу он действительно исполнил. Рукопись была поднесена государю и отдана затем на хранение в Публичную библиотеку.
Директор библиотеки, А. Н. Оленин, предпринял издание пушкинского списка по всем правилам палеографии[2]. Петербургское предприятие становилось, таким образом, на дорогу московскому. Издание летописи (правда, не «критическое»), для которого и было создано Общество истории, как бы формально передавалось правительством в руки другого ученого учреждения. Естественно, Кутузов сделал все возможное, чтобы удержать в руках Московского общества издание пушкинского списка. Старое издание Чеботарева, печатавшееся, кроме пушкинского, по Троицкому и Кёнигсбергскому спискам, было брошено на десятом листе. Новое издание, специально по пушкинскому списку, поручено было проф. Тимковскому, который со всевозможной поспешностью приготовил проверенную копию с этого списка. Оригинал был отдан затем Мусину; печатание же производилось по копии. В 1811—1812 гг., до нашествия французов, Тимковский успел отпечатать 13 листов. В пожаре Москвы копия с пушкинского списка и приготовленные для издания варианты погибли, и издание окончательно остановилось. Правда, возобновляя свою деятельность в 1815 г., общество попыталось вытребовать снова из Петербурга пушкинский список, но безуспешно. Публичная библиотека отказала выслать оригинал, а снятие списка министр считал бесполезным, «ибо в начале будущего года, вероятно, окончится печатание Лаврентьевского списка, производящееся при самой библиотеке, и тогда от общества будет зависеть — издать список по печатному экземпляру со своими примечаниями, ежели оно признает то нужным»[3]. Ввиду этого ответа общество постановило «напечатанные 13 листов издать в свет в таком виде, как они есть, с прописанием причин, почему оное издание не может быть продолжаемо». Этим общество официально слагало с себя вину за невыполнение первоначальной своей задачи.
Как бы предчувствуя эту неудачу, Кутузов при самом восстановлении общества расширил рамки его деятельности. Мы не говорим о тех материальных приобретениях реставрированного общества, которые дали повод проф. Буле пожелать, «чтобы Клио столько же ему благоприятствовала, сколько помогает оному председательствующий его московский Плутос». Но, уничтоживши старое общество за его бездеятельность, попечитель должен был во что бы то ни стало показать плоды ученой деятельности своего общества. Новые члены общества, по уставу, обязывались объявить каждый тему своих занятий; за ходом этих занятий и за посещением заседаний устанавливался строгий контроль, а неисправные могли быть исключаемы из списка членов. Помимо первоначальной цели — критического сличения летописей, деятельность общества должна была заключаться в разработке объявленных тем, в ежемесячных заседаниях с рефератами, в собирании вещественных памятников, наконец, в издании «Актов» общества и особого от этих актов журнала, посвященного преимущественно изданию исторических документов.
Чтобы заполнить эти вновь проектированные, широкие рамки деятельности, нужно было запастись рабочими силами, а сил этих у ближайших друзей Кутузова было не больше, чем у сотоварищей Чеботарева по философскому факультету. На двух профессоров тогдашнего университета можно было рассчитывать как на деятельных сотрудников: на Тимковского и на Каченовского. Усердный чиновник, Тимковский готов был считать недоброжелателей попечителя «недоброжелателями общественного блага» и мог, в угоду Кутузову, сличить и исправить в 6 дней одиннадцать листов летописного текста. Ему, как мы видели, и было поручено издание пушкинского списка. От Каченовского, более независимого, можно было, самое большее, ожидать рефератов для ежемесячных заседаний и статей в «Акты» общества. Всего этого было мало. Надо было привлечь к делу молодые, незанятые еще силы. Вот почему во второе же заседание преобразованного общества в среду чиновных и сановитых членов его введен был ученик Тимковского, только что кончивший курс восемнадцатилетний Калайдович. У молодого кандидата, вероятно, уже созрело желание, высказанное им три года спустя, «всю жизнь свою посвятить русской истории и особенно древностям и дипломатике». Тимковский усердно поддерживал в нем эти стремления, имел в виду для него университетскую карьеру и советовал готовиться к магистерскому экзамену[4]. С молодым сочленом можно было не церемониться, и на него навалили самую тяжелую и черную часть работы: предположенное издание журнала. Как торопились с изданием первых плодов деятельности общества, видно из того, что к первому годичному собранию (13 марта 1812 г.) 6 листов первого тома «Достопамятностей» и 15 листов «Актов» общества были уже готовы. Нашествие французов остановило деятельность общества и в этом направлении. Отпечатанные листы пролежали до 1815 г., когда заседания общества возобновились. Вся тяжесть издания легла тогда опять на Калайдовича. В октябре 1814 г. Калайдович делает в своем дневнике характерную запись: «С месяц назад присылал за мною г. попечитель (Кутузов). Я к нему явился. Угрозы и брань за медленность в издании на меня посыпались. Я, будучи не сам от себя виноват, ибо почти всю весну прострадал жестоким ипохондрическим припадком, происшедшим от многих неудач, ответствовал его превосходительству, что в самом деле виною не я, а обстоятельства; но ничто не подействовало. Куратор причитал все шалости, свойственные молодому человеку, и упрекал меня ими. В заключение приказал как можно скорее кончить издание книг, порученных мне обществом историческим. Вот так всегда труды и усердие, вместо награды, терпят укоризны».
«Ипохондрический припадок», помешавший Калайдовичу печатать издания общества, был результатом перерыва в его ученой карьере. Двенадцатый год перевернул и его собственную судьбу. Под влиянием «Русского вестника» Сергея Глинки и патриотических разговоров с Карамзиным Калайдович поступил в ополчение и провел год в военной службе. Переходя с полком из одного уездного города в другой, он узнал из писем родных о пожаре, истребившем дом отца и его собственную, довольно уже значительную библиотеку и собрание рукописей. Вернувшись из похода, он приютился «до поправки своих дел» на квартире у Каченовского, стараясь опять устроиться при университете. Но тут постигла его какая-то неудача. Начатый осенью 1813 г. магистерский экзамен остался почему-то незаконченным, и отношения к университету расстроились. Между тем, в 1814 г. явился новый план — поступить на службу к канцлеру Румянцеву или лично, или в Московский архив Иностранной коллегии. Весь 1814 год Калайдович колебался между смутной надеждой при помощи исторического общества «поправить дела свои в университете» и желанием поступить на службу в архив, от чего отговаривал его Тимковский[5]. Может быть, уже в это время он начал страдать слабостью, о которой мы узнаем позже из переписки митр. Евгения: под впечатлением неудач и неопределенности своего положения он запил. Надо думать, что и другие «шалости, свойственные молодому человеку», в которых упрекал его Кутузов, были ему не совсем чужды. По крайней мере, в конце 1814 г. и начале следующего беспокойное состояние его духа разрешилось, наконец, громким скандалом во Владимире, куда Калайдович на время уехал. Чтобы освободить сына от судебного преследования, отец Калайдовича объявил его сумасшедшим; полгода он просидел в доме умалишенных, а затем целый год (с июля 1815 г. по июль 1816 г.) прожил по приказанию отца в Песношском монастыре, нося одежду послушника.
Мы сообщаем все эти биографические сведения потому, что судьба Калайдовича стоит в тесной связи с деятельностью исторического общества. Первым последствием удаления Калайдовича было прекращение издательской деятельности общества: выпущены были только в свет издания, приготовленные Калайдовичем, т. е. том «Записок» и том «Русских достопамятностей», а затем, на целых 8 лет, общество опять заснуло. Вторым последствием, важным на этот раз для дальнейшей судьбы самого Калайдовича, было то, что, когда в 1823 г. Общество истории снова встрепенулось, рядом с Калайдовичем выдвинулся его младший товарищ и конкурент, более покладистый в своих требованиях от жизни, менее способный, зато более постоянный к работе; менее пригодный для ученого творчества, зато как раз подходивший для той черной работы, которая по тогдашнему состоянию науки стояла на ближайшей очереди. Мы разумеем П. М. Строева.
На протяжении этих восьми лет, 1815—1823 гг., между двумя припадками деятельности Общества истории и древностей, успел значительно измениться ученый кругозор исследователей по русской истории. И главный толчок к этому изменению дала не деятельность Общества истории, с характером которой мы теперь достаточно знакомы, а ученые сношения канцлера Н. П. Румянцева. Посредством этих сношений Румянцев успел создать тоже своего рода ученое общество, рассеянное по всей России и даже за границей. Вместо ежемесячных заседаний это общество поддерживало чуть не ежедневные сношения; письма занимали место рефератов, а содержание этих писем ручалось за то, что каждый член общества делает под своей личной ответственностью взятое на себя дело и с каждым днем подвигает вперед одно из многочисленных изданий, затеянных канцлером. Издания эти давали практическую цель ученой деятельности, наполняли время и давали средства к жизни сложившимся ученым, вызывали на свет новые ученые силы, — словом, по почину Румянцева, была создана и утилизирована такая масса ученого труда и знания, какую трудно было даже ожидать от нашей молодой еще исторической науки. Можно сказать, что ни один сколько-нибудь подходящий человек не ускользал от внимания канцлера, и ни одна минута такого человека, — насколько это зависело, конечно, от канцлера, — не пропадала даром для ученых предприятий, им начатых или сделавшихся его собственными[6].
В 1812 г., с которого начинается энергическая деятельность Н. П. Румянцева на пользу русской истории, он был уже шестидесятилетним стариком; ему оставалось дожить последние полтора десятка лет его жизни. Собирать книги и вчитываться в русскую историю он начал уже довольно давно; еще в 1790-х годах он хлопочет о приобретении разных редких сочинений и высказывает свой самостоятельный взгляд на русскую историю. Но в этом еще не было ничего особенного. Быть дилетантом в русской истории считал себя обязанным всякий важный барин. Даже такой повеса, как брат Николая Петровича, Сергей Петрович Румянцев, нахватался достаточно сведений по русской истории, чтобы пустить пыль в глаза молодому кандидату вроде Калайдовича[7]. Настоящим ученым и граф Николай Петрович не сделался ни тогда, ни позднее, когда он серьезно погрузился, вслед за своими корреспондентами, во все очередные вопросы детального исторического исследования. Но таков был и господствующий характер учености его времени. Отстав от дилетантизма и не пристав к учености, Румянцев был самым типичным выразителем состояния современной ему исторической науки; на себе самом он очень хорошо чувствовал ее недостатки и ее ближайшие потребности. Примись он за русскую историю полвека раньше, он, может быть, посвятил бы свой досуг составлению новой «Истории», вроде щербатовской; четвертью века раньше его серьезный исторический интерес мог бы выразиться в составлении «Примечаний», вроде болтинских. В начале XIX в. становилось ясным, что ни полная «История», ни даже «Примечания» к ней не составляют очередной задачи исследования, — что, как выразился Шлецер незадолго до своей смерти (1809), десяти Карамзиным не написать настоящей русской истории, пока не будут приготовлены для нее материалы. Итак, настоящая, «критическая» история стала для канцлера и его сотрудников идеалом более или менее отдаленным, а вернейшим путем к достижению этого идеала сделалось, с одной стороны, приведение в известность и опубликование исторического материала, с другой — разработка вспомогательных наук и составление справочных пособий. Эти положения сделались основным догматом канцлерской «дружины», — тем лозунгом, по которому члены этой дружины отличали своих от чужих. И установление их есть та основная черта, благодаря которой весь рассматриваемый период может быть назван «румянцевским» с гораздо большим правом, чем «карамзинским».
Издание летописей было уже возложено на обязанности Московского исторического общества. Следовательно, ближайшей задачей канцлера само собой становилось издание актов, тем более, что проект такого издания уже около тридцати лет лежал без движения в его собственном ведомстве — иностранных дел. Припомним план Миллера — издать собрание дипломатических актов по образцу Дюмона. Как мы знаем, все было готово к выполнению этого предприятия в 1780-х годах; только смерть Миллера помешала его осуществлению. Вспомнить об этом проекте было тем естественнее, что, в сущности, и по смерти первого историографа он не был заброшен совершенно. Миллер оставил в архиве своих помощников, один из которых, наиболее усердный — Н. Н. Бантыш-Каменский, продолжал всю жизнь работать в направлении, указанном ему Миллером. За тридцать лет БантышКаменский исподволь успел описать и даже изложить сокращенно все дипломатические документы своего архива, в том самом порядке (по алфавиту иностранных Дворов), в котором они там хранились[8]. Мы не знаем, по чьему почину снова возник в декабре 1810 г. вопрос о печатании «дипломатического корпуса»: по инициативе ли графа Румянцева, или самого Бантыш-Каменского. Но во всяком случае этот вопрос застал директора архива вполне подготовленным. По его плану проектированное «Собрание государственных грамот и договоров» должно было состоять из четырех частей. В первой должна была заключаться «внутренняя часть» этих документов, «т. е. взаимные между великими князьями условия». В остальных же трех Бантыш-Каменский предполагал поместить сношения с иностранными Дворами. Канцлеру оставалось принять готовый план, составленный знатоком архива. Он не согласился только на расположение материала по алфавитному порядку Дворов, предложенное аккуратным директором архива, и заменил его распределением хронологическим. Затем, весь подбор материала и даже выработку внешности издания он вполне предоставлял Бантыш-Каменскому, прося только не щадить издержек для «чистоты и красоты тиснения», так как «сие издание делается сколько для пользы, столько и для славы». Все расходы по печатанию канцлер принимал на себя; механическая работа возложена была на особо учрежденную Комиссию о печатании государственных грамот и договоров, составленную из чиновников архива. Себе канцлер выговорил только право «иметь участие и попечение об успехе сего предприятия» и в том случае, если ему придется покинуть действительную службу[9].
«Собрание государственных грамот и договоров» было первым предприятием, втянувшим Румянцева в издательскую деятельность и вызвавшим усиленные сношения с русскими учеными. Но в ближайшие годы к этому предприятию присоединилось и другое, обещавшее, по словам Шлецера, еще больше «славы» и, может быть, более соответствовавшее личным вкусам канцлера. Начало русской истории было с давних пор любимым предметом занятий Румянцева; у него даже были самостоятельные теории по поводу важнейших вопросов русских origines (например, происхождение Руси, значение арабской торговли). Яснее, чем большинство современных ему ученых, он понимал, что вопросы эти не могут быть разрешены с помощью одной только русской летописи; еще во время службы в Германии, в 1790-х годах, он пробует восполнить умолчания летописи с помощью немецких анналов и ищет новых неизданных источников для древнейшей истории России[10]. Позднее он обращается за разрешением своих сомнений и догадок к иностранцам — специалистам по древнейшей русской истории: он знакомится с Лербергом в последние годы его жизни (1812—1813), через Лерберга — с Кругом, потом с дерптским профессором Эверсом и ориенталистом Френом. Он становится издателем сочинений всех этих ученых, а через них завязывает сношения и с заграничными византинистами и ориенталистами — Газе, Сен-Мартеном, Гаммером. Всем им он дает поручения по собиранию и изданию в свет иностранных источников — византийских, арабских, турецких, армянских и грузинских, могущих объяснить начало нашей истории. При этих условиях естественно, что обнародование русских летописей интересовало канцлера никак не менее, чем издание грамот и договоров. Если последнее он предпринял в качестве руководителя русской дипломатии, то его симпатии, как дилетанта по русской истории, скорее лежали к первому. При первой возможности Румянцев попытался перехватить себе «честь — быть первым издателем русских летописей»[11].
Мы видели, что в 1810—1811 гг. издание летописи чеботаревским историческим обществом было официально признано неудавшимся, и Мусин-Пушкин перенес издание своего списка в Петербург. Румянцев тотчас воспользовался этим, чтобы взять издание летописей в свои руки. В ноябре 1813 г. он пожертвовал в Академию наук 25 тысяч на издание «Собрания русских летописей» и обратился к Кругу с просьбой выработать план такого издания. Круг предложил издать «Сводный толковый русский летописец». Но этот проект встретил возражения со стороны Оленина, находившего, что такое издание нельзя было бы выполнить скоро и что лучше всего издать отдельно все лучшие списки, которые бы в совокупности составили «Полное собрание русских дееписателей». Столкновение мнений разрешилось компромиссом: решено было в первом томе издать, по плану Оленина, Кёнигсбергский список летописи, а во втором томе напечатать сводное издание нескольких списков Южной летописи, открытой Карамзиным[12]. Предприятие, однако же, затормозилось, и канцлер скоро охладел к своим петербургским сотрудникам. В конце концов, уже после смерти Румянцева, в 1836 г., сумма, назначенная им на издание летописей, была употреблена на печатание «Актов Археографической экспедиции».
В Москве с изданием грамот и договоров дело шло гораздо скорее. Печатание первого тома «Собрания» закончено было к концу 1813 г. В январе следующего 1814 г. сошел в могилу старик Бантыш-Каменский, не дожив нескольких дней до выпуска в свет своего труда. Место покойного занял тоже ученик Миллера, но гораздо более чиновник, чем ученый, А. Ф. Малиновский. Быть, подобно Бантыш-Каменскому, хозяином предприятия он не мог. Приходилось позаботиться о привлечении к делу свежих ученых сил. При Бантыш-Каменском Комиссия печатания грамот и договоров не имела никакого значения и состояла из чиновников. Теперь главная тяжесть предприятия ложилась на комиссию, и канцлер решил составить ее из ученых. Переговоры с Шлецером-сыном в 1814 г. кончились, однако, отказом последнего. В 1815 г. канцлер обратился к Малиновскому с просьбой пригласить в комиссию присяжных тогдашних специалистов, Тимковского или Каченовского. Мы не знаем, сочли ли оба деятельность в комиссии ниже своего ученого достоинства, или сам Малиновский предпочел не приглашать таких самостоятельных сослуживцев; как бы то ни было, выбор пал на более молодых. Уже Бантыш-Каменский, умирая, советовал пригласить в комиссию известного нам Калайдовича. Но Калайдович, как мы видели, колебался между университетом и комиссией, просил отсрочить свое поступление в архив и, в конце концов, попал в Песношский монастырь. Тогда на место его была выдвинута кандидатура другого ученика Тимковского, не окончившего еще курс девятнадцатилетнего студента Строева. Несмотря на свою молодость, Строев был уже известен (с 1814 г.) как автор учебника «Краткой российской истории» и нескольких исторических статей. Одна из этих статей, отрывок из исторического генеалогического словаря (под заглавием «О родословии российских князей» в «Сыне отечества» 1814 г.), была замечена канцлером, который даже обращался к Строеву через редактора Греча с запросом, намерен ли автор продолжать свой труд. В противоположность мнительности и беспокойному нраву Калайдовича, Строев отличался самоуверенностью и умением ладить с начальством. Ему скоро удалось приобрести полное расположение Малиновского, и с его помощью он получил в первой половине 1816 г. должность главного смотрителя при Комиссии печатания грамот. Вышедший из своего монастырского заключения, в июле того же года, Калайдович нашел место уже занятым и должен был удовлетвориться второстепенной ролью «контркорректора» — ив этой должности он был утвержден не сразу[13].
Таким образом, из приказного учреждения Комиссия печатания грамот превратилась в ученое. Одновременно с этим происходит и другое важное изменение в ходе издания грамот и договоров. Гр. Румянцев начинает принимать в нем все более непосредственное участие. В двенадцатом году, когда поддерживаемая канцлером политика союза с Наполеоном, — политика Тильзита и Эрфурта, потерпела окончательно неудачу, Румянцев оставил службу. С этих пор он мог вполне предаться своим любимым занятиям по собиранию и изданию исторических материалов.
Собирать материалы нужно было, прежде всего, для того, чтобы пополнить затеянные уже издания: «Собрание грамот» и «Собрание летописей». Для первой цели, кроме материалов русского дипломатического архива, канцлер решается привлечь также и материалы иностранных хранилищ. Уже в 1813 г. некто Шульц работает по его поручению в Кёнигсбергском архиве. Вскоре затем из Риги канцлеру присылают важные древние грамоты. Позже является Штрандман в Италии с той же целью — списывания архивных документов. В Лондоне через нашего посла, графа С. Р. Воронцова, Румянцев получает разрешение списать все сношения России с Англией, хранящиеся в посольском архиве; списывают для него и в других английских хранилищах рукописи, относящиеся к России. В Варшаве некто Буссе снимает для канцлера копии с важнейших актов Литовской метрики[14].
По мере собирания всех этих материалов взгляд Румянцева на задачи «Собрания грамот и договоров» значительно изменяется. Прежде всего, на содержание 1-го тома, изданного Бантыш-Каменским, канцлер смотрит совсем иначе, чем покойный директор архива. Мы видели, что Бантыш-Каменский предназначал первый том для издания тех же дипломатических сношений, как и остальные тома «Собрания»; только, в отличие от «внешних» сношений, в нем должны были поместиться памятники «внутренних» междукняжеских сношений не объединенной еще России. Румянцев считает, что первый том посвящен «внутренним государственным постановлениям», не имеющим специально дипломатического характера. С этой точки зрения (да, впрочем, и с собственной точки зрения Бантыш-Каменского) он скоро нашел, что первый том неполон, что многие важные акты в него не вошли. Уже от 10 июля 1814 г. Малиновский получил извещение, что канцлер хочет издать прибавление к первому тому, в котором, кроме архивных документов, будут помещены «и многие древние документы, полученные его сиятельством из Риги, Кёнигсберга и других мест». На первых порах Румянцева несколько смущало то обстоятельство, что документы эти заимствованы не из архива Иностранной коллегии, но, в конце концов, он вышел из затруднения тем, что велел хранить в архиве копии с издаваемых документов. Раз, таким образом, первоначальные внешние и внутренние рамки издания, дипломатический характер документов и место их хранения в Московском архиве были оставлены в стороне, открывалось необозримое поле документов внутренней русской истории. Об обилии этих документов ни Румянцев, ни его сотрудники не имели никакого понятия; они твердо верили в возможность напечатать все важнейшее в «прибавлении» к первому тому «Собрания». С целью разыскать это важнейшее канцлер обращался во все московские хранилища: в патриаршую и типографскую библиотеку, где его розыски встречены были на первых порах очень неприязненно, в Архив старых дел, чиновники которого были тогда совершенно непригодны ни для каких ученых справок, и, наконец, в собственный архив, в неисчерпаемые портфели Миллера. Определить, что войдет и что не войдет в «Собрание», было теперь довольно затруднительно. Выбор материала делала, в сущности, комиссия, но все заготовленные копии посылались канцлеру, который их внимательно прочитывал и, обыкновенно, одобрял к печатанию. Вначале комиссия сомневалась еще в возможности подводить различные исторические документы под понятие «государственных грамот», но канцлер разрешил эти сомнения в смысле утвердительном. «Помещение писем жены обоих самозванцев Марины к отцу своему, также присяг, наказов и грамот кн. М. В. Скопина-Шуйского нимало не нахожу излишним, — пишет Румянцев Малиновскому, — а, напротив того, как нельзя более приличным и нужным для достаточнейшего объяснения сей эпохи в истории нашей. Да не устрашает вас, м. г. мой, обширное поприще в собирании актов для сей второй части. Чем полнее и совершеннее выйдет в свет сие собрание, тем более принесет вам чести, а мне удовольствия исполнение сего предприятия. Что же касается потребных на печатание издержек, то я готов жертвовать оными, хотя бы собрание сих внутренних актов, не вместясь в предполагаемой II части, потребовало и III».
При таких условиях масса заготовляемого материала постоянно разрасталась. «Прибавление к I тому» превратилось, как видим, во II том; в перспективе виделся и третий. Раньше, чем начали печатать третий том, явились новые «дополнительные грамоты», для которых понадобился четвертый. Некоторое время канцлер колебался, спрашивал Малиновского, не охладит ли публику к «Собранию» эта новая отсрочка договоров, и возражал против печатания некоторых документов, как «томительных для публики», но в конце концов не только сдался, а и предлагал разделить разросшийся, в свою очередь, четвертый том на четвертый и пятый. На этот раз возражал уже Малиновский. Четвертый том остался последним томом «грамот». Ему суждено было сделаться последним томом и всего «Собрания». Он вышел в свет уже по смерти Румянцева (1828); пятого же тома, в котором начинались договоры, было отпечатано всего 188 страниц, оставшихся до последнего времени в подвалах архива[15].
Переходим к другому предприятию Румянцева — к изданию летописей. Еще более, чем издание грамот, это предприятие нуждалось в розысках по русским хранилищам. Первый шаг в издании летописей всеми понимался одинаково. Это было издание Нестора. За Нестора и принимались всякий раз, как заходила речь о печатании летописей: его печатал Чеботарев, его начал печатать Тимковский, за него принялся и Оленин с сотрудниками. И канцлер, как мы знаем, предназначал для 1 тома Несторову летопись по Кёнигсбергскому списку, или по другому, «если отыщется таковой лучше, вернее и древнее Кёнигсбергского». Но что же далее? Здесь сразу начиналась область неизвестного. Московское общество истории, когда у него отняли в 1815 г. возможность продолжать издание Нестора, прямо ухватилось за издание хронографа, — очевидно, по полному незнанию чего-либо промежуточного. Гр. Румянцеву в том же положении, прежде всего, пришли в голову «Степенные книги». Еще при жизни Бантыш-Каменского он просит его «об отыскании в московских хранилищах так называемой Киприяновской „Степенной книги“ и о сличении оной с другими „Степенными же книгами“, если таковые разыщутся». Ответ, полученный от Бантыш-Каменского, не удовлетворил Румянцева. Бантыш-Каменский писал, что списки «Степенной книги» не различаются по содержанию, тогда как канцлер держался того мнения, что «у нас существуют, может быть, „Степенные книги“ разных сочинителей». Этот широкий, так сказать, нарицательный смысл «Степенных книг» должен был постепенно сузиться для канцлера, по мере того, как он получал списки летописей, не похожие на Нестора, но и не подходившие под рубрику «Степенных книг». На первых же порах Малиновский прислал из архива три таких летописных списка. По настоятельным просьбам Румянцева приступить паки к рассмотрению всех в Москве находящихся летописей под именем «Степенных книг», Малиновский прислал вскоре канцлеру и сводный текст «Степенной книги». Правда, Румянцев и этим не удовлетворился, находя, что свод сделан «только по трем рукописям». Но более точные сведения о найденной Карамзиным Киевско-Волынской летописи должны были убедить канцлера, что возможны и не менее важны находки летописей и иного характера, чем «Степенная книга». С этих пор главной целью Румянцева[16] становится отыскание Новгородской летописи.
Лучшим знатоком для поисков в русских архивных хранилищах был в то время, несомненно, Калайдович. Еще до 1812 г. он работал в Синодальной библиотеке, а в 1813 г., через посредство Общества истории, добыл разрешение пользоваться рукописями Чудова монастыря, Архангельского собора, семинарской и лаврской библиотек Троицкого посада[17]. Но Калайдович, «как человек самолюбивый, держался самостоятельности»; «Малиновский не любил» этого, и поручение произвести разведки в ближайших монастырских хранилищах Московской губернии было передано, по указанию Малиновского, Строеву[18]. Таким образом, Строев отправился в эту экспедицию по «делу, порученному его сиятельством», а Калайдович «испросил дозволение начальства» сопутствовать Строеву «из любопытства»[19].
Не будем пересказывать истории знаменитой экспедиции Строева (1817—1818) по монастырям: Иосифо-Волоколамскому, СаввиноЗвенигородскому и Воскресенскому, — экспедиции, завершившейся в 1820 г. поездкой его вместе с самим канцлером по некоторым монастырям Калужской епархии[20]. Известно, что уже в первый год (1817) сделаны были такие крупные находки, как Судебник Ивана III и Святославов изборник 1073 г. Последний найден был Калайдовичем, хотя Малиновский и Строев тщательно старались умолчать об этом в своих донесениях Румянцеву. Известия о находках обрадовали канцлера, но это было не то, чего он искал. «Отысканные уже бумаги очень любопытны, — писал он Малиновскому, — но самое сильное мое желание состоит в отыскании древнего харатейного списка Несторова или же Новгородского летописца»[21]. Не дождавшись от Строева летописных текстов, канцлер, наконец, сам, просматривая один из присланных Строевым каталогов, обратил внимание на рукопись Воскресенского монастыря, содержавшую Несторову летопись и его продолжателей, и настойчиво потребовал сличения этой летописи с другими списками. Строев, не заинтересовавшийся прежде рукописью, теперь занялся ее сличением и открыл в ней «тщательнейший список так называемой Софийской новгородской летописи». «Я уверен, — писал он Малиновскому, — что сею находкой его сиятельство немало будет порадован». Само собой разумеется, что издание Софийского списка было немедленно решено и поручено Строеву[22].
Итак, поездки Строева прошли не бесплодно и для той цели, которую, по-видимому, преимущественно имел в виду канцлер при устройстве этих поездок. Но главное их значение было другое. Они расширили сферу ученых предприятий Румянцева на совершенно новую область. Если до тех пор интерес канцлера сосредоточивался на вопросах по преимуществу исторических, то симпатии и знания его московских сотрудников лежали ближе к вопросам историко-литературным. К этому приводило самое свойство русских монастырских хранилищ, с которым Калайдович был знаком давно, а Строев познакомился во время своих поездок 1817, 1818 и 1820 гг. У Калайдовича была даже своя готовая тема в этой области; еще в 1813—1814 гг. он нашел несколько произведений, восходивших к неведомой тогда никому эпохе — славянской литературы X ст. (Иоанн, экзарх болгарский). Описания монастырских рукописей, сделанные Строевым, ввели и канцлера в область вопросов историко-литературных. Вместе с тем явился интерес и к собственному приобретению рукописей и старопечатных книг.
Калайдович и в этом отношении оказался самым удобным посредником. Еще до пожара 1812 г. он успел составить себе небольшое собрание рукописей и отлично знал московских антиквариев и букинистов. После двенадцатого года — счастливые времена, когда рукописные сокровища собирались задаром, и не всегда чистыми путями, и лежали неизвестные самому собирателю, пока не истреблял их какой-нибудь несчастный случай, — эти времена прошли безвозвратно. Тип собирателя, какой представлял только что умерший (1817) Мусин-Пушкин, уступил место новому типу, представителями которого явились гр. Ф. А. Толстой и гр. Н. П. Румянцев. Конкуренция вельможных покупателей подняла цены на рукописи до такой высоты, при которой какому-нибудь Калайдовичу только и оставалась роль посредника. Новые владельцы рукописей не только не таили их про себя, но наперерыв старались составлять ученые описания и рады были всякому исследователю, который бы сделал известным публике какое-нибудь из их сокровищ[23].
На этом поприще судьба опять столкнула Калайдовича и Строева — и опять к невыгоде для первого. Из всех рукописных собраний, которые Калайдович снабжал рукописями своих поставщиков, московских и провинциальных, едва ли не более всех обязано было его услугам собрание гр. Толстого. По всей справедливости, ему принадлежало право составить ученое описание этих рукописей, за которое он и принялся в 1818 г. с помощью Строева. К началу 1824 г. описание было готово, а к началу следующего отпечатано. В промежутке положение Строева изменилось. В начале двадцатых годов между ним и канцлером произошло взаимное охлаждение: Строев находил, что канцлер слишком дешево ему платит, а канцлер полагал, что работа Строева имеет слишком мало ученого характера. Осенью 1822 г. Строев вышел из Комиссии печатания грамот, высчитав в своем прощальном письме к Румянцеву, что всего-навсего он получил от казны и от канцлера за семь лет службы в комиссии не более тысячи рублей ежегодных. В следующем году возобновилась деятельность Общества истории и древностей, и Строев попробовал здесь утилизировать свою опытность, приобретенную на канцлерской службе. Он предложил обществу снарядить экспедицию во внутренние губернии для разыскивания документов на пять лет с расходом не более семи тысяч ежегодно. После неудачи этого проекта он вспомнил про свою юношескую работу, заинтересовавшую канцлера, и обратился к Румянцеву (начало 1825 г.) с предложением составить в пять лет три словаря: исторический, географическо-топографический и толковый. За все он желал получить десять тысяч, — по две тысячи в год. Когда канцлер отказался и от этого предложения, Строев поехал (весной того же года) в Петербург, к графу Толстому. До этой поездки гр. Толстой дал Калайдовичу основание рассчитывать, что ему будет поручено продолжение «Описания». Поездка Строева изменила положение дела. Граф передал ему «звание и обязанности смотрителя над его библиотекою», с жалованьем 150 рублей ежемесячно и с обязанностью описать старопечатные книги и от времени до времени издавать «Извлечения» из важнейших рукописей его собрания. Предусмотрительный Строев поспешил опубликовать о своей новой должности в «Северной пчеле». Для Калайдовича этот удар был тем сильнее, чем он был более неожидан. «Письмо вашего сиятельства от 4 марта, — пишет он Толстому, — столь несогласное с объявлением, появившимся в „Северной пчеле“, поставило меня в величайшее недоумение и всех тех, которые знали пятнадцатилетнее знакомство мое с в. с. и то живейшее участие, которое я принимал в судьбе вашей славяно-русской библиотеки, способствуя приращению оной покупками важнейших рукописей и старопечатных книг и действуя на внимание соотечественников и частью заграничных ученых моими трудами в отношении вашего драгоценного собрания, — словом, я дал ему тот приличный вид (как вы сами всегда соглашались), в каком оное теперь существует… Но в. с. допустили… завладеть моими трудами…»[24] Какое впечатление произвело на Калайдовича это событие, видно из того, что все лето 1825 г. он опять прохворал «нервическим расслаблением», от которого снова нашел спасение в путешествии. Существенной поддержкой Калайдовича в этом положении было отношение к нему Румянцева, во мнении которого Калайдович поднимался по мере того, как падал в его мнении Строев. В начале 1825 г. Калайдович заключил с канцлером условие, — правда, гораздо менее ловкое и неопределенное, чем-то, которым Строев связал гр. Толстого. Калайдович обязывался в три года составить ученое описание славянских и русских рукописей московской Синодальной библиотеки. С осени он принялся за работу, но успел сделать немного. 3 января 1826 г. Румянцев скончался, и этот последний удар окончательно подломил Калайдовича. Уже в конце 1827 г. родные заметили в нем признаки душевного расстройства; весной 1828 г. он был формально освидетельствован, объявлен помешанным и отставлен от службы. В следующем году психическая болезнь, правда, прошла, но здоровье не возвратилось[25]. В 1832 г. Калайдович умер.
Малиновский, Строев, Калайдович — эти три имени характеризуют три последовательных момента в развитии деятельности Румянцева. В 1813—1817 гг. главные интересы Румянцева сосредоточиваются на «собрании актов» и «летописей». В 1817—1820 гг. внимание канцлера обращается преимущественно на разведки в русских хранилищах. По инвентарным каталогам Строева он знакомится с богатствами древнерусской письменности. В 1820—1824 гг., под впечатлением этого знакомства, в канцлере особенно усиливается интерес к собиранию и изданию памятников историко-литературных. Наконец, в дватри последних года жизни мы видим в канцлере новую перемену, смысл которой характеризуется именем Востокова. Если ученость Строева побледнела в глазах Румянцева перед ученостью Калайдовича, то и ученый престиж Калайдовича не мог удержаться, когда канцлер познакомился с настоящим специалистом своего дела, с ученым в современном смысле слова. В 1820 г. Востоков напечатал свое знаменитое «Рассуждение о славянском языке», впервые установившее, на основании Остромирова Евангелия, законы славянской фонетики. «Рассуждение» сразу покончило со словопроизводствами шишковской школы и с ее фантастическим «словенским» языком высокого стиля. Автор, до тех пор молчавший, был уже не новичком и не юношей: ему было 40 лет, когда вышло в свет «Рассуждение». Просто и ясно, без всяких претензий, без всякой погони за эффектом, Востоков излагал свои замечательные открытия и сразу завоевал себе всеобщее внимание и признание. Год спустя по выходе «Рассуждения» Востокову попался пергаментный листок, подаренный Кеппену митр. Евгением. Пораженный сходством правописания этого листка с языком Остромирова Евангелия, Востоков обратился к Евгению и получил от него целый ворох пергаментных обрывков. В самый короткий срок он вернул Евгению эти обрывки в сопровождении целого трактата по лингвистике и палеографии. К лингвистике сотрудники Румянцева были слишком мало восприимчивы и подготовлены, но знатока палеографии они оценили сразу. Евгений поделился замечаниями Востокова с Румянцевым, и канцлер в свою очередь «прельстился ими до крайности». «Давно уже я стараюсь, — писал он Евгению, — но без успеха, сблизиться коротким знакомством с г. Востоковым; он от того отказывался всегда тем, что, будучи страшный заика, очень страждет с незнакомыми людьми». Но те 2000 рукописей, я увидел, что все известное нам есть не что иное, как небольшая частица огромного целого, что оно будет незначительно перед необъятною массой неоткрытого. Естественно было заключить отсюда, что «без приведения в известность всех памятников нашей письменности невозможно довести до надлежащего совершенства ни политической истории нашей, ни истории литературы славянороссийской». С этой точки зрения, задачей ученого общества становилось не «издавать только то, что найдется случайно или отчасти уже известно», а «извлечь (из хранилищ), привести в известность и если не самому обработать, то доставить другим средства обрабатывать письменные памятники нашей истории и древней словесности, рассеянные» на всем пространстве России. Для выполнения этой задачи Строев предлагал назначить экспедицию или, точнее, три последовательных экспедиции в северную, среднюю и западную части России. Из составленных экспедицией каталогов рукописям библиотек духовного ведомства он предполагал, затем, сделать «Общую роспись», систематически расположенную, которая представляла бы самое полное и вернейшее описание всех где-либо существующих памятников нашей истории и литературы от времен древнейших до XVIII века". И только тогда уже «будет предлежать последняя, самая важная часть занятий общества: наступит время изданий и критики». Тогда будет уже зависеть от воли общества издать «не два или три, случайно попавшихся» списка летописи, а «целое Собрание летописцев и писателей русской истории, обработанное критически», предпринять не один журнал с «древними анекдотами», а составить целый ряд томов «пособий для древней литературы, дипломатики, истории политической и церковной, законоведения и проч.». Словом, тогда только явится возможность.
«достигнуть великой цели, предположенной в уставе общества: привести в ясность российскую историю»[26].
Таков был «плод многолетних трудов, опыта и соображений» Румянцевского кружка, предложенный от имени Строева Московскому историческому обществу. Среди сочленов речь Строева вызвала, однако же, мало сочувствия. Одним его предложения, через несколько лет осуществленные, представлялись химерой; другие просто-напросто приняли их за дерзость со стороны молодого сочлена, вздумавшего учить старших. Вероятно, испугала и сумма денег, затребованная Строевым для осуществления Археографической экспедиции. В конце концов, общество склонилось к предложениям Калайдовича, который по-прежнему отдавал обществу свой труд, не требуя денег. Вполне признавая необходимость «привести в известность наши исторические сокровища», Калайдович предлагал «отправить одного из членов для обозрения» нескольких важнейших только библиотек, именно: Софийской новгородской, Антониева-Сийского и Соловецкого монастырей. Помимо же этого, он советовал продолжать старые издания общества и прежде всего «обнародовать» 13 листов Лаврентьевской летописи, напечатанные его учителем Тимковским, тогда уже покойным[27]. Мы знаем, что еще в 1815 г. об этом сделано было постановление, ввиду полученного от министра известия, что в следующем (1816) году выйдет петербургское издание Лаврентьевского (пушкинского) списка. Но петербургское издание все еще не выходило, и общество решило теперь (1823) — «испросить дозволения и содействия» Румянцева «в поручении окончания труда сего обществу». «Дозволения», однако, не последовало; канцлер сослался на начатое для него издание Оленина, и обществу оставалось вернуться к первоначальному решению, на котором настаивал Калайдович: опубликовать готовые 13 листов издания Тимковского[28]. Из других поручений общества Строеву досталось наиболее выгодное — съездить в Софийскую библиотеку, а Калайдовичу — наиболее тяжелое — подготовить материал для второго тома «Достопамятностей», о котором он хлопотал уже давно. Как будто нарочно для того, чтобы подчеркнуть свою отсталость от общего хода исторической работы, общество возобновило в 1823 г. проект издания «Биографического словаря» митр. Евгения. Рукопись Евгения была прислана обществу еще в 1812 г.; с тех пор всякий раз, как оживлялась деятельность общества (1815, 1817), оно принималось за пересмотр словаря, пока, наконец, в 1823 г. Евгений не уведомил общество, что словарь им совершенно переработан, частями напечатан, и список, залежавшийся в обществе, потерял всякую цену. Вслед затем общество погрузилось в прежнюю бездеятельность. Документы, приготовленные Калайдовичем для «Достопамятностей», остались лежать в его бумагах. Никакого движения не получили и принятые обществом предложения Калайдовича — издать Псковскую летопись и какой-нибудь хронограф[29].
Помимо бездеятельности Общества истории и древностей российских, у нас есть еще и другой способ наглядно измерить путь, пройденный в немногие годы русской исторической наукой. Речь идет на этот раз о старейшем члене кружка, наиболее независимом от него, вечно деятельном митрополите Евгении[30]. Задолго до двенадцатого года, когда сформировался Румянцевский кружок, Евгений был уже специалистом по русской, особенно церковной, истории. Как позже Строев и Калайдович, Евгений (тогда еще Евфимий Болховитинов) начал с того, что написал русскую историю по Болтину и Татищеву (1792—1793). Но уже тогда, а еще более потом, когда он сделал попытку написать русскую церковную историю (1812—1816), ему должно было сделаться ясным, что для составления «подлинной» истории необходима предварительная разработка «знаний, пособствующих исторической науке». С этих пор главный интерес Евгения сосредоточивается на составлении справочных пособий, какими и явились «История российской иерархии» для церковной и словари духовных и светских писателей для литературной истории. По самому складу ума, трезвого и практического, не любившего обобщений и отвлеченностей, Евгений гораздо более подходил к этого рода работам. «Сущность истории, — определяет он уже в 1794 г.[31], — состоит в том, чтобы представить бытие и деяния сколько можно так, как они были, и в таком порядке, как были». Другими словами, идеал истории есть фотографическая точность исторического изображения. Не задаваясь целью дать такое изображение, Евгений накопляет для него как можно более подробностей, в уверенности, что когда-нибудь и для чего-нибудь они кому-нибудь пригодятся. «Я верю, — пишет он, — что и мелочные замечания часто объясняют целую историю; ибо в натуре вещей мелочи сопровождают важности». «Non sunt contemnenda quasi parva, sine quibus magna constare nequeunt»[32]. Но, накопляя мелочи для будущего историка, сам Евгений не спешит ими воспользоваться. Он испытывает, по-видимому, величайшее затруднение всякий раз, когда ему приходится сделать выбор между различными показаниями источников или высказать собственное мнение по предмету исследования. В том случае, если он решится всетаки принять определенный взгляд, часто его сомнения по отношению к принятому взгляду тотчас же возрастают, и рано или поздно он присоединяется к противоположному мнению, которое раньше оспаривал. В большинстве же случаев он не принимает никакого мнения и спешит спрятаться за существующие теории и взгляды, сопоставлением которых и ограничивает свою задачу. Всего интереснее сравнить этот протоколизм официального стиля Евгения с умным реализмом и злым остроумием его частной переписки. Одно это сравнение может показать, что-то «бездействие размышляющей силы», которое отметил один из критиков в ученых работах Евгения, есть не только личное свойство автора, но также и особенность усвоенной им архаической ученой манеры. Ему случается не раз обезличивать своими летописными приемами те самые явления, для которых в частных письмах он находит самые характерные объяснения. Не менее характерны также и те случаи, для которых Евгений делает исключение из обычного ему правила авторской сдержанности. Это случается только тогда, когда историку приходится принимать на себя защиту церкви или духовного сословия. В роли апологета-полемиста преосвященный иерарх забывает подчас о своем ученом беспристрастии и является прямым наследником и продолжателем иерархов XVII и XVIII ст. Но и эти случаи чаще объясняются установившимися приемами обращения с деликатными сюжетами церковной истории, чем живым, непосредственным отношением к духовным интересам церкви. Недаром такие ревнители церкви, как кн. А. Н. Голицын и арх. Фотий, заподазривали Евгения в холодности к вопросу о «душах и о спасении вверенной паствы»[33].
Отмеченные черты Евгения, как ученого, помогут нам выяснить его отношение к исторической науке его времени. Как неутомимый собиратель материала, он шел впереди Румянцевского кружка и указывал ему путь на первых шагах его ученой деятельности. Биография Евгения сложилась так, что он стал знатоком русского рукописного материала задолго до Калайдовича, Строева и Востокова. После учительства в Воронежской семинарии (1789—1800) Евгений перешел в Петербургскую духовную академию на должность префекта (1800—1803)[34]; отсюда он переведен был в звании викария в Новгород (1804—1807); потом получил самостоятельную епископию в Вологде (1808—1813); из Вологды назначен епископом в Калугу (1813 — начало 1816), оттуда архиепископом в Псков (1816 — начало 1822) и, наконец, из Пскова митрополитом в Киев, где и пробыл до самой смерти, (1822—1837). Руководствуясь тем соображением, что «архивские подлинники время от времени погибают, и потому нужно не упускать всего, что спасти можно», — Евгений всюду, где ни появлялся, спешил привести в известность местные рукописные материалы: знакомился с библиотеками учебных заведений, объезжал монастыри, приказывал к себе на архиерейскую квартиру доставлять всевозможные архивные бумаги[35]. Это была тоже своего рода археографическая экспедиция, продолжавшаяся всю жизнь и обогатившая русскую науку огромной массой архивных открытий. Даже и «общую роспись» этих открытий, вроде той, о которой мечтал Строев, митр. Евгений представил ученой публике в своих словарях духовных и светских писателей[36]. Но под влиянием обширного местного материала, проходившего через руки Евгения, его ученые работы принимают особый характер. Рядом с дальнейшей разработкой справочных пособий он находит и другую форму, в которой с удобством укладываются эти местные материалы, не теряя при этом своего сырого справочного характера. Он составляет целый ряд пособий по областной истории, преимущественно церковной. В Воронеже он пишет свое «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии, собранное из историй, архивных записок и сказаний». В Новгороде он издает «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода»; в Вологде составляет описание 88 монастырей Вологодской епархии, в Пскове — свою «Историю княжества Псковского», Летопись Изборска, описание шести местных монастырей и жития местных угодников; наконец, в Киеве он печатает «Описание Киево-Софийского собора и историю киевской иерархии», «Описание Киево-Печерской Лавры» и «Киевский месяцеслов, с присовокуплением разных статей к российской истории и киевской иерархии относящихся». Не говорим уже о том, что где бы Евгений ни появлялся, он старался направить на ученую работу местные силы, особенно учащихся в духовных заведениях. Воронежские семинаристы, петербургские и киевские студенты духовных академий представили на данные Евгением темы целый ряд работ, подчас превращавшихся, благодаря близкому участию преосвященного, в его собственные[37].
Собиратель материала, организатор ученой работы и сам ученыйисследователь, митр. Евгений сосредоточивал в одном своем лице различные специальности, распределявшиеся между разными членами Румянцевского кружка. Не входя в состав кружка в качестве постоянного сотрудника, он был одним из самых усердных корреспондентов Румянцева; через канцлера он узнавал о текущей деятельности кружка, давал свою санкцию его ученым предприятиям и постоянно обменивался с кружком учеными справками. Как знаток рукописных хранилищ, он безусловно имел и надолго сохранил для кружка значение опытного и надежного советника. Тем любопытнее отметить, что он быстро потерял это значение, как сформировавшийся ученый-исследователь. Нельзя сказать, чтобы он не был знаком с теми влияниями, которые поставили кружок на точку зрения «критической истории». Шлецера он не только знал и имел у себя, но его «Нестор» был даже переведен под надзором Евгения «разными учителями» прежде, чем успел выйти в свет печатный перевод Языкова. Он знает очень хорошо и разделяет точку зрения Шлецера на русские источники. Он знает, что «около XVI века богемские, польские и прусские басни вошли в русские летописи, а особливо в «Степенные книги». Он знает, что Никоновская летопись «имеет много недостатков», что «Синопсис» «исполнен ошибок и неисправностей», что Татищеву недоставало «строгой критики»[38]. Но, несмотря на все это, он остается, в сущности, старым «читателем летописей», — любителем исторического чтения, для которого здравый смысл с успехом может заменить правила исторической критики[39]. Полнота для него остается главной целью изложения, пред которой отступает на второй план достоверность. В интересах полноты он всегда готов воспользоваться и теми подробностями, которые сплела одна «Степенная книга», и «Синопсисом», и Татищевым. Повествования Иоакимовской летописи, «сомнительной» и «мнимой» — по его мнению, «нельзя почесть все сущими вымыслами, ибо…» они «во многом дополняют сказания Несторовы». Шведский историк Далин есть «врун, недостойно названный государственным историком»; но «и в сем есть многие нужные нам подробности, коих у других нет». Наконец, даже Шлецера он готов, кажется, иногда ценить не столько как законодателя исторической критики, сколько как пособие для приискания греческих и латинских источников русской истории[40].
Самый способ составления ученых трудов Евгения характерен как образчик той же старинной летописной манеры. Всего чаще он исходит из какой-нибудь готовой, иногда печатной работы, начинает пополнять и исправлять ее; потом, по мере разрастания поправок, делает новый исправленный список, в свою очередь подвергающийся исправлениям и дополнениям по мере дальнейшего накопления материала. Иной раз вся эта работа оставляется преосвященным в местном книгохранилище, на поправку следующих поколений и на удовлетворение местной любознательности. Местный интерес, благочестивое усердие почитателей и благотворителей местной святыни, патриотизм колокольни — вот зачастую те потребности, на удовлетворение которых направлена ученая деятельность историка[41]. Накопляемые коллективным трудом, результаты этой деятельности чаще всего публикуются анонимно, и надо думать, что подчас самому автору было бы трудно разобрать, где кончается чужая работа и где начинается его собственная. Этот полудобровольный отказ от авторской индивидуальности стоит, конечно, в теснейшей связи с той формально безличной манерой писать, какую усвоил себе Евгений.
Мы видели уже, однако, что и сквозь эту манеру прорывается иногда авторская личность Евгения. Не будем останавливаться на тех случаях, когда суждение автора составляется в угоду лицам или в интересах церкви[42]. Нам важно отметить теперь, что даже тогда, когда Евгений остается верен себе в своих суждениях, — эти суждения обнаруживают в нем представителя мировоззрения, сильно устаревшего ко времени Александра I. Не забудем, что Евгений вырос вместе с поколением, которое, даже критикуя частные взгляды Монтескьё, Вольтера и Бейля, бессознательно впитало в себя общие основы европейского рационализма[43]. Конечно, Евгений не разделяет взгляда историков XVIII в. на религию как на средство обмана, и на духовенство как на сознательных гасителей просвещения. Но в духе чистого рационализма он готов считать язычество порождением суеверия и невежества, а языческие обряды русского народа — заимствованными от греков и римлян, от германцев и скандинавов. Он не сомневается, конечно, подобно своему сиятельному корреспонденту, в том, что «чудотворные иконы есть удел истории», и вводит их в историю «без зазрения совести»; но при случае и он готов объяснить легковерием предков их веру в чудесные предзнаменования природы. Точно так же обнаруживается рационализм Евгения и в склонности его объяснять исторические события из личных побуждений исторических деятелей.
Все эти черты ученой манеры, покинутой передовыми исследователями еще в прошлом столетии, оставались для большинства и в начале нынешнего века тем основным фоном, на котором совершалось развитие русской исторической науки. Исследовательская деятельность Румянцевского кружка и та теоретическая работа мысли, о которой мы будем еще говорить, окончательно отодвинули эти приемы и это мировоззрение в область преданий. Ученый иерарх пережил самого себя. Вот почему значение его деятельности могло быть охарактеризовано совершенно верно уже его младшими современниками. «Все было забыто или, по крайней мере, рассеяно, — писал в 1807 г. один иерарх, желая похвалить „Разговоры о древностях Великого Новгорода“, — а Евгений собрал в одну кучу прекурьезную и любопытную». Через четверть века (1831), по случаю выхода в свет «Истории княжества Псковского», та же похвала в устах рецензента «Московского телеграфа» превращается в сдержанное порицание. «Автор под именем „Истории Пскова“ представляет нам только историко-статистические материалы… Имея целью единственно приведение в систематический порядок собранных им материалов, почтенный автор не входил в критические исследования. Он означает, откуда что почерпнуто: иже чтет, да разумеет. Не можем не изъявить почтенному автору признательности за множество новых подробностей. Это — богатое собрание материалов» и т. д. Еще резче отметил критическое безразличие Евгения Погодин в своей рецензии на второе издание «Словаря писателей духовного чина» (Моек, вестник. 1827). «Сочинитель, — замечает он, — одинаковым, так сказать, тоном говорит иногда о мнении какого-нибудь Шлецера и о мнении какого-нибудь Елагина»[44].
Румянцевский кружок, Московское историческое общество и митр. Евгений с его случайными сотрудниками — вот три главных центра, около которых сосредоточивалась исследовательская работа в первой четверти нашего века. Для полноты мы должны были бы прибавить еще четвертый кружок ученых немцев (Лерберг, Круг, Френ), продолжавших, по традиции XVIII ст., разрабатывать при Петербургской академии древнейший период русской истории. Но в образцовых работах этих специалистов мы найдем слишком мало характерного для современного им состояния русской науки, кроме разве самого крута вопросов, их интересовавших и доступных им по характеру их учености. Нам остается поэтому познакомиться со взаимным отношением Карамзина к его ученым современникам и современников — к «Истории государства Российского».
- [1] Муравьев не был, собственно, литератор, а человек общественный по преимуществу, и то, что вышло из-под его пера, есть плод урывчатых досугов его во время воспитания великих князей (Александра и Константина Павловичей). «Образование его былогораздо обширнее и положительнее, а, следовательно, характернее, самостоятельнееи оригинальнее, нежели образование Карамзина, и потому Карамзин не мог не подчиниться влиянию такого человека» (Старчевский А. Рус. ист.
литература
первой полов. XIX в., Карамзинский период с 1800 до 1820 гг. Б-ка для чтения. 1852. Т. III. С. 3). Писатель-моралист Муравьев и на историю смотрел преимущественно с моралистическойточки зрения, но формулировал эту точку зрения гораздо глубже и сознательнее Карамзина. История для него «не есть бесполезное знание маловажных приключений».. она"представляет народы, проходящие постепенно различные возрасты и состояния, которые находятся между грубостью дикого… и между просвещением гражданина; те токмопроисшествия заслуживают все наше внимание, которые были степенями или препятствиями народного восхождения от дикости и невежества к просвещению и знаменитости" (Муравьев М. Н. Поли собр. соч. Ч. II. С. 3,110).
- [2] Суждения Тимковского по поводу проекта «буквального» издания летописисм. в «Записках» Калайдовича. Летописи русской литературы, изд. Н. Тихонравовым.Т. III. М" 1891. С. 95.
- [3] ЧОИДР. 1884. Т. I. Попов Н. А. История Имп. О-ва истории и древностей российских; Зап. и тр. О-ва истории и древностей российских. Т. И. М., 1824. С. 14, 21 и 22.
- [4] «Записки важные и мелочные» К. Ф. Калайдовича в Летописи рус. литературы.Т. III. С. 86, 89, 112.
- [5] Биографические данные о Калайдовиче взяты из биографического очерка П. А. Без-сонова (ЧОИДР. 1862. Т. III) и цитированных выше «Записок» К. Ф. Калайдовича.
- [6] Общую характеристику деятельности Румянцевского кружка и все дальнейшие библиографические указания можно найти в «Опыте русской историографии"В. С. Иконникова. Т. I. С. 1,135—243. См. также А. Старчевского „О заслугах Румянцева, оказанных отечественной истории“ (в Журн. М-ва нар. проев. Ч. XLIX); А. Ивановского"Гос. канцлер гр. Н. П. Румянцев». СПб., 1871; Сборник материалов для истории Румянцевского музея. Вып. I. М., 1882 и Материалы для исторического описания Румянцевского музея. Соч. Кестнера. М., 1882. У А. А. Кочубинского (Начальные годы русскогославяноведения. Одесса, 1887—1888) вторая глава посвящена изображению «Кружкаканцлера Румянцева» (С. 37—215 и приложения III—XCIV).
- [7] См. их разговоры в «Записках» Калайдовича. С. 81—82 bis.
- [8] Т. е. австрийский, английский т. д.
- [9] Кочубинский. С. 70—75 и прил. VII—XLII (переписка Румянцева с Бантыш-Камен-ским).
- [10] Кестнер. С. 3—8.
- [11] Слова Шлецера. На Шлецера Румянцев прямо ссылается в своем проекте изданиялетописей. Переписка Румянцева, изд. Е. Барсовым // ЧОИДР. 1882. Т. I. С. 345.
- [12] Кестнер. С. 17; Старчевский. С. 19; Сб. материалов для истории Румянцев, музея. Переписка Румянцева, изд. Е. Барсовым. С. 63. На Волынскую летопись обратил внимание Круга Калайдович (Безсонов в ЧОИДР. 1862. Т. III: «Знаете ли вы, что у васв академии хранится сокровище — летопись Волынская, зарытая между дефектамии не вписанная в каталог, которую извлек из праха Н. М. Карамзин? Я желал бы знать, кому будет принадлежать честь издания сих памятников». Письмо от 15 янв. 1814 г.).Несколько позже и Румянцев получил известие о другом списке этой летописи от самоговладельца (ЧОИДР. 1882. Т. I. С. 15, от 27 нояб. 1815 г.): «Меня уверял Полторацкий, чтоКарамзин никакой древней летописи так не уважал, как ту, которую он от него получил, а ему досталась от г. Хлебникова, что за летопись? И ежели в самом деле она заслужила полное внимание Карамзина, нельзя ли и с нее получить список?» Сам Карамзинв 1825 г. говорил Погодину, что он «лет тому назад шесть» отдал Румянцеву два списка, один свой, подаренный покойным Полторацким, другой, также почти свой, найденный"Карамзиным в дефектах академических". Барсуков. Т. I. С. 331. Свод списков Южнойлетописи был поручен приятелю митр. Евгения, Анастасевичу.
- [13] Безсонов. Калайдович (ЧОИДР. С. 55—56); Кочубинский (прил. LXIV); ПерепискаРумянцева (ЧОИДР. 1882. Т. I. С. 33). Отношение Калайдовича к поступлению Строева в комиссию видно из письма Греча к последнему от 24 ноября 1815 г.: «ПолоумныйКалайдович не хотел уведомить меня о вашем адресе, узнав особенно, что гр. Румянцевпоручил мне о вас осведомиться» (Барсуков. Жизнь Строева. С. 21).
- [14] О заграничных работах для Румянцева см. особенно Старчевского. С. 26—40.
- [15] Историю издания 2—4-го томов «Собрания государственных грамот и договоров"можно проследить по переписке Румянцева, изд. Барсовым, особенно с. 12, 13, 28, 40,110, 135, 137, 138, 168, 167—169, 173, 202—204, 227, 272—273, 275—276. Кочубинский, прил. LVI.
- [16] Переписка Румянцева, изд. Е. Барсовым СЧОИДР. 1882. Т. 1. С. 9, 15. Кочубин-ский. прил. L—LI, LIV.
- [17] Барсуков (в ЧОИДР. С. 13, 14, 30, 35).
- [18] Выражения в кавычках из письма Строева к Погодину. Барсуков. Жизнь Строева.С. 43. „Вы выбрали его“, — пишет Румянцев Малиновскому. Переписка Румянцева, изд.Барсовым. С. 47.
- [19] Переписка Румянцева. С. 42, 45; Кочубинский. С. 108.
- [20] Подробный рассказ о поездках Строева см. у Барсукова. Жизнь Строева.С. 23—41.
- [21] Переписка Румянцева, изд. Барсовым. С. 47.
- [22] Переписка Румянцева. С. 74, 76, 77, 83, 86, 87, 89, 91, 93.
- [23] См. отзыв Калайдовича в письме к одному жертвователю, подарившему в архив7 рукописей: „Вы сделали благороднейшее дело и малым показали свое усердие к наукам, между тем как Гр. П. и другие подобные, беззаконно стяжавшие свои ученыесокровища, предали их на жертву пламени“ (Безсонов. Калайдович. С. 41), и печатныевыражения в предисловии к „Описанию рукописей гр. Ф. А. Толстого“: гр. Толстому"неизвестна жалкая склонность библиографов, сберегающих литературные достопамятности, кажется, с тем, чтобы первый несчастный случай мог истребить их удобнее». Очевидно, в обоих случаях разумеется гр. Мусин-Пушкин. Ср.: Барсуков. Жизнь Погодина.Т. I. С. 159: Калайдович в 1822 г. рассказывал Погодину: «Часто бывал я с Карамзиным О
- [24] Безсонов. Калайдович, С. 132—133, 187; Барсуков. Жизнь Строева, С. 47—56,64—79, 99—103, 118—141. Гр. Толстой в свое оправдание писал Строеву: «Я хотябы и желал просить его заняться тем, чем вы теперь будете заниматься, но, во-первых, заочно неловко это делать; во-вторых, я знаю, что он столько обременен делами, чтоедва ли успеет моим заниматься и в такое время кончить, как вы взялись». Наскольконеаккуратно работал у Толстого Строев, видно из той же биографии Барсукова.
- [25] Безсонов. С. 86—88; Барсуков. С. 136—137; Кочубинский. С. 138—139.
- [26] Тр. О-ва истории и древностей российских. Т. IV. С. 277; Барсуков. Жизнь Строева.С. 64—78.
- [27] Безсонов. Калайдович. С. 14—18 (ЧОИДР. 1862. Т. III).
- [28] Безсонов. Т. 1. Переписка Румянцева, изд. Барсовым. С. 264—265, 268. Переписка Востокова. С. 84—89. В 1824 г. издание Тимковского было, наконец, выпущенов свет. В том же году появилось и издание Оленина, — очевидно, в прямой связи с новойпопыткой исторического общества.
- [29] Об этих предложениях ср. Безсонова (С. 17) и Переписку Востокова (С. 59 и 60).
- [30] Ученой деятельности митр. Евгения посвящены две обширные монографии: Шмурло Е.: Митр. Евгений как ученый. Ранние годы жизни (1767—1804). СПб., 1888;Полетаев Н. Труды митрополита Киевского Евгения Болховитинова по истории русскойцеркви. Казань, 1889. Работа г-на Шмурло выясняет, как сложилась личность ученогоисследователя, а труд г-на Полетаева дает обильный материал для оценки роли егов историографии.
- [31] В «Рассуждений о знаниях, способствующих исторической науке». Полетаев.С. 529—530; Шмурло. С. 152.
- [32] Полетаев. С. 53, 57. Ср. также 533, прим. 2.
- [33] Многочисленные иллюстрации к сделанной характеристике можно найти в книгеПолетаева, к которой и отсылаем читателя. См. особенно с. 90—97,137—138 и 146,165,167, 174, 183 и 185, 212, 214—234, 239—240, 243, 253, 262—264, 304—305, 341, 377,379—380, 384, 390—393, 462, 465 и 467, 470 и 471, 485, 491, 497—498, 504.
- [34] Поводом к этому переходу была смерть жены и последовавшее затем пострижение Евгения.
- [35] Полетаев. С. 43—44, 78, 102—104, 133—134, 170—171, 173—175, 533.
- [36] Ср.: Полетаев. С. 351 (письмо Анастасевичу, 25 янв. 1818 г.): «Я с вами согласен, что полезно издавать каталоги наших рукописей… Что я давно чувствую сию важную истину, в сем ссылаюсь на словарь мой, в коем тщательно указываю, где находятсякакие рукописи. Этот index дороже каталога печатных книг, составленного Сопиковым. Я имею из каталогов Московской патриаршей, Новгородской, Софийской, Московскойархивской, Вологодской, Архангельской и некоторых других библиотек такие индексыи опытом дознал пользу их». Подробнее о собранных Евгением каталогах рукописей см. там же. С. 352—364.
- [37] Полетаев. С. 27—28, 43, 176—182, 188—189, 475—477, 48384 (прим.).
- [38] Полетаев. С. 447, 510, 512, 523.
- [39] Характерным образом, он спешит заменить выражение «строгой критики"(о Татищеве) словами «здравой критики», а затем и вовсе вычеркивает их из своейхарактеристики (Полетаев. С. 512).
- [40] Полетаев. С. 507, 512. Особенно ярко выступает эта неразборчивость Евгенияв его «Истории славяно-русской церкви» (доведена до XI в.). См. там же. С. 127,146, 199,275—279, 452—513.
- [41] Там же. С. 100, 108, 112—117, 119—122, 123, 124, 143, 148, 152, 155—156, 160,236, 255, 258—262, 302—303.
- [42] Там же. С. 381—382, 471.
- [43] Шмурло. С. 51—87, 100—101. Вскоре по приезде в Воронеж, на место службы, Евгений приобретает для семинарской библиотеки такие книги, как словарь Бейля, сочинения Вольтера, энциклопедию (Там же. 106). Под руководством Евгения семинаристы перевели «Философские размышления о происхождении языков» Мопертюии «Волтеровы заблуждения, обнаруженные аббатом Ноннотом»; к последней книгеЕвгений приложил скомпилированную им самим биографию Вольтера и отзывы о немсовременников. (Шмурло. С. 125—134; ср. 147—148).
- [44] Полетаев. С. 123, 158—159, 413—414. Те же замечания делал и Полевой в «Моек, телеграфе» (1828). Всего характернее обнаружилась критическая беспочвенность Евгения по поводу подделки в 1810 г. «Баяновой песни и некоторых провещаний новгородских жрецов, писанных руническими буквами». Евгений сперва относится с недовериемк новому открытию, но ждет приговора ученых; затем вслед за петербургскими судьяминачинает верить и пользоваться мнимыми памятниками старины, наконец, отказывается от них, когда подложность их была признана всеми. (Полетаев. С. 454—455, 458,465—469).