Пачуко и хип-кеты против элитарности
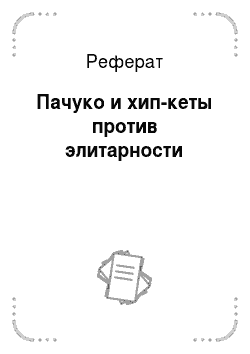
Эстетика возобновления: мода получает свою легковесность от смерти, а современность — от уже-виденного. В ней и отчаяние от того, что ничто не вечно, и, наоборот, наслаждение от знания, что за порогом смерти все сохраняет шанс на повторную жизнь, только уже лишенную невинности, так как весь мир реальности успевает поглотить мода. Она придавливает живое значение всей тяжестью мертвого труда… Читать ещё >
Пачуко и хип-кеты против элитарности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Впрочем, такая схема жизненного цикла модного тренда стала возможной лишь в 40-х годах XX века. Тогда начинает интенсивно развиваться серийный рынок, и средств воздействия на широкие массы становится больше. Тогда же мода перестает быть синонимом понятия элитарности, теперь это просто форма самовыражения, манера одеваться и вести себя, способ подачи публике своего «Я», вне зависимости от того, дорого ли это, престижно или нет.
В 40-е годы молодое поколение все громче заявляло о себе. Активизировались чернокожее население Америки и молодежные банды пачучос, или пачуко. Рождается ультрамодная в те годы субкультура хип-кэтов. Хип-кэты носили зут суит — прямые длинные пиджаки до колен. Еще их отличали необычные, мешковатые и сужающиеся книзу брюки, свисающие сбоку цепи для ключей, ярких цветов пальто ниже колен, кожаные шляпы и ботинки на толстой подошве. Пачучос прославили длинные пиджаки на весь мир и фактически ввели на них моду, которая держалась довольно долго, а в наши дни опять вернулась на подиум и в шкафы заядлых модниц и модников.
У хип-кэтов были ближайшие родственники, приверженцы очень похожего стиля. Их звали «зазу» — считалось, что они пропагандируют так называемый карибский стиль. Несмотря на то, что представители обоих направлений имели разный цвет кожи, зазу были ближе к чернокожей культуре. А это означало свинг, джаз и бипоп. Ямайцы иммигрировали в Европу в больших количествах, поэтому именно они создали в сознании европейского человека четкую взаимосвязь между длинными пиджаками и танцующими джазменами.
Эстетика возобновления: мода получает свою легковесность от смерти, а современность — от уже-виденного. В ней и отчаяние от того, что ничто не вечно, и, наоборот, наслаждение от знания, что за порогом смерти все сохраняет шанс на повторную жизнь, только уже лишенную невинности, так как весь мир реальности успевает поглотить мода. Она придавливает живое значение всей тяжестью мертвого труда знаков, и притом с чудесной забывчивостью, в фантастически неузнаваемом их виде. Но вспомним, что и чары индустриально-технической машинерии тоже происходят оттого, что все это мертвый труд, который следит за трудом живым и постепенно пожирает его. Наше ослепленное неузнавание старых форм соразмерно этой операции, когда мертвый хватает живого. Один лишь мертвый труд обладает совершенством и странностью уже-виденного. Таким образом, удовольствие от моды — это наслаждение прозрачно-циклическим миром форм, отошедших в прошлое, но вновь и вновь воскресающих в виде эффективных знаков.
Мода и время МН, N° 45, 2007.
ТЕДДИ БОЙ И ХИППИ-ШИК В 50-е годы обостряются социальные различия. Наверстывая упущенное за годы войны, все стремились показать свое благосостояние или хотя бы создать видимость некоего статуса. Молодые люди из рабочего класса подражали «золотой молодежи». И вот сначала в Британии, а затем и по всему миру зарождается и массово распространяется стиль теди бой.
Тедди бой щеголяли в узких брюках-дудочках, сюртуках с двойным воротником и галстуком в стиле вестернов. Эти ребята отличались очень агрессивным поведением. Они слушали американский блюз, кантри, рок-н-ролл, скиффл и устойчиво ассоциировались с этими музыкальными направлениями.
В эти годы под влиянием последствий войны и прогрессирующего развития науки общество «крутило» очень сильно. Молодежь стирала границы между классами, ломала устои и стереотипы. На Западе возникло движение «разбитой молодежи», движение анархическое, отвергающее традиционную мораль и общепринятые ценности. Их называли — битники. Если выстраивать ассоциативный ряд, который возникает со словом «битник», то, наверное, получится следующее: 50-е годы — Америка — протест, гомосексуализм — наркомания. Из битников выросли хиппи.
Образ битника странный, нелепый, зато отлично известный всему миру и 50-х, и 60-х и даже 70-х годов. Небритый брутальный парень, обутый в кеды или сандалии, с рюкзаком за спиной и пластинками с джазом под мышкой. Их стиль дал толчок новым тенденциям на подиуме — так называемой антимоде, разрушавшей традиционные представления об одежде. Битники бунтовали и продвигали «большую революцию рюкзаков», а более мирные члены общества, которым тем не менее претила гламурность, носили одежду с неровными краями, кривыми швами, юбки с кедами и прочие несочетаемые сочетания.
60-е — это, конечно же, хиппи. Сами того не желая, они оказали бешеное влияние на культуру моды нескольких десятилетий. Мотивы в стиле хиппи регулярно появляются, исчезают и возрождаются в моде. Это этнический стиль, экологический стиль, джинсы-клеш, естественные, не химические ткани — лен, хлопок, кожа. Это узоры на одежде, отражавшие темы природы — цветы, листья и т. д. Также это великое множество маек и футболок со всевозможными надписями и рисунками, которые превратились в объект моды. Популярными стали рок-н-ролл, автостоп, медитация, мистика, дзен-буддизм, индуизм, даосизм, вегетарианство и, к сожалению, наркотики. Сами хиппи носили хайры и повлияли тем самым на моду причесок: популярность красивых длинных волос возросла не только среди женщин и удерживалась как минимум два десятилетия.
Следуя основному закону моды, стиль хиппи возрождается в 90-е годы в рамках направления хиппи-шик. Этот стиль был уже подиумным, не массовым, и основными его символами были рваные джинсы и пиджаки из натуральной кожи с неровными краями.
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДУРНОГО ВКУСА Стремление хиппи отстаивать свое право на свободный секс привело в 70-х годах к стиранию границ между полами и к такому явлению в моде, как унисекс, которое позднее возродится в 90-е годы и перейдет в XXI в. Символом направления унисекс стали джинсы. Удобная одежда искателей золота, лесорубов и ковбоев благодаря хиппи ворвалась на подиум и в высокую моду. В те же годы и благодаря той же субкультуре становится очень популярным рисунок на одежде. Самый распространенный — цветы. Цветы как аппликация или мелкие как фон, вышитые на «крестьянских» блузках, на жилетках и даже на дубленках. Ну, и, конечно же, на джинсах. Самыми популярными фасонами стали брюки-клеш и мини-юбки. В моду вошли длинные «цыганские» юбки с воланами и цветочным рисунком.
Чуть позже субкультура скинхедов — группировок, формировавшихся на улицах Лондона, — дала миру стиль милитари. Его можно было легко опознать по подтяжкам, военной обуви и камуфляжу.
Панки оккупировали вторую половину 70-х годов. Их субкультуру отличала любовь к быстрой и энергичной рок-музыке (панк-року), протест против истеблишмента, консерватизма, авторитаризма, национализма и радикального капитализма, а также приверженность идеалам антирасизма и антифашизма. Панки повлияли сразу на три индустрии: на мод}', на парикмахерское искусство и на рынок аксессуаров. Они носили яркие ирокезы и стоящие торчком волосы. Благодаря панкам появились ассиметричные прически, которые актуальны и до сих пор. Благодаря панк-течению в моду вошли рваные джинсы, рваные колготки, нарочито потертая одежда и даже специально состаренная обувь. Кстати, последнее было очень популярно в прошлом году (2006), и в этом популярны состаренные сумки. Гардероб модника пополнился цепями и булавками.
(особенно на швах джинсов), шипованными напульсниками, значками и нашивками с названиями групп или политическими лозунгами.
Постепенно молодежь этого десятилетия пришла к идее, что в одном образе можно смешать сразу несколько стилей. Это заметил Кензо и довольно быстро ввел эклектику в моду. Вновь появилось сочетание несочетаемого. Эклектика позволила выйти на рынок моды японским дизайнерам, которые ориентировались скорее на антимоду или национальную одежду'. Кензо удалось удачно смешать европейскую одежду с элементами японского кимоно.
Активный отказ от эталонов и норм привел к тому, чтобы этот период назвали «десятилетием дурного вкуса», несмотря на то, что все ультрамодные новинки 70-х довольно быстро стали классикой.
По словам Кенига, мода снедаема своего рода суицидальным желанием, которое реализуется в тот самый момент, когда она достигает своего апогея. Это верно, только это желание смерти — созерцательное, связанное со зрелищем беспрестанного упразднения форм. То есть и само желание смерти также реутилизируется в моде, очищается от всяких субверсивных фантазмов и включается, как и все остальное, в ее безвредные циклические революции. Прочистив эти фантазмы, которые в глубинах воображаемого придают повтору чарующее обаяние прошлой жизни, мода производит свой головокружительный эффект исключительно на поверхности, в чистой актуальности. Мода лишь симулирует невинность становления. Она лишь реутилизирует, вовлекает в повторный оборот этот цикл видимостей. Доказательством служит то, что развитие моды исторически совпадает с развитием музея. Парадоксальным образом, музейный императив вечной запечатленности форм и императив их чистой актуальности функционирует в нашей культуре одновременно. Просто управляет ими один и тот же статус знака в нашей современной цивилизации.
СЛИШКОМ ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ Отказ от правил и прежних устоев привел к тому, что 80-е годы прошли под эгидой понятия «слишком». Все было гротескно и гипертрофированно: слишком облегающая одежда, слишком вызывающие вещи, слишком яркий макияж, слишком кричащие краски, слишком большие прически. В моде подтянутая фигура и белозубая улыбка — нужно быть слишком красивыми. Так родился стиль секси. В 80-е увлечение спортом стало массовым, но не ради здоровья, а ради красивой формы. Набирают обороты бодибилдинг и шейпинг — те виды спорта, которые позволяли «лепить» фигуру. Из спортивных залов на улицу переместились лосины и леггинсы. Их носили вместо брюк, ведь это отлично подчеркивало фигуру. Кстати, совсем недавно леггинсы возродились, только теперь уже в сочетании с юбками и платьями.
В 80-е заработки росли, а возможность сорвать куш была почти на каждом углу. В Нью-Йорке появлялось все больше и больше молодых людей, разбогатевших на бирже и рынке недвижимости. Таких людей называли яппи (yuppi было аббревиатурой, расшифровывающейся как «молодой городской профессионал»). Предприимчивые и успешные, они думали только о карьере и были неравнодушны к внешней атрибутике благосостояния. Они задали моду' на классические бизнес-костюмы с очень широкими плечами в сочетании с кроссовками, мокасинами и майками. Особенно эта идея понравилась Армани, Хуго Босс и Ральфу Лорену. Такое сочетание, только с классическим покроем плеч, уже несколько лет популярно в наши дни среди молодежи.
ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НАСТУПАЕТ В 90-е годы наука развивается очень быстро. Одним из главных увлечений молодежи становится виртуальная реальность, в которую частенько уходят из настоящего мира. Лидеры подиума видят эту тенденцию — и создают коллекции в популярном стиле кибер-панк. Одежда и аксессуары теперь пародируют героев популярных компьютерных игр, ткани используются ярких цветов, материалы в основном синтетические.
В начале 90-х во многих странах случился экономический кризис. Молодежь утратила надежду на обеспеченную жизнь и высокий социальный статус. Новой суровой реалией молодых стал аскетизм. Сложилась очередная молодежная субкультура, нетерпимая к поведению и традициям старшего поколения, — субкультура гранж (или грандж). Приверженцы новой субкультуры стремились возродить дух 60-х, пытались уйти от проблем реальности в мир иллюзий. Чаще всего для этого прибегали к наркотикам, по миру прошел очередной бум наркомании. Одежда гранж совмещала в себе черты хиппи и панка. Вернулись в моду длинные волосы, рваные джинсы, грубые армейские ботинки, приобрела популярность одежда секонд-хенд.
Когда в 8§-м году гранж «дошел» до модных журналов, сложился стиль маргинальный шик. На подиум вышли модели со спутанными, будто немытыми волосами и в состаренной одежде. Самым модным стал образ нищего и бродяги, что предполагало многослойность одежды, полураспущенные свитера, случайное сочетание цветов. Этот стиль не возник на улице, а был списан с нее, скопирован.
Готы — субкультура, зародившаяся в конце 70-х годов на волне постпанка. Культивирует индивидуальность, интерес к мистицизму. Черные и красные цвета в одежде, белая штукатурка на лице, кроваво-красные губы и темные тени на и под веками.
Одно из самых популярных и массовых движений 90-х годов и настоящего времени — эмостиль. Эмо — молодежная среда, образовавшаяся из поклонников одноименного музыкального направления. Идеология эмо — эмоциональность, гипертрофированное проявление всех чувств. Все эмо-киды носят волосы средней дзины с рваной челкой, наполовину закрывающей лицо. Одеваются в узкие брюки, разноцветные кеды, не забыв снабдить свою большую сумку через плечо множеством ярких значков.
Как и многие другие, этот стиль возник среди молодежи, а затем уже задал новые тенденции мировой моде. Эта субкультура вобрала в себя и готику, и панк, и кибер-панк, и даже немного гламура. Классическая одежда эмо — это одежда в черно-розовой гамме, с узорами также двух цветов. В наше время появились эмо, которые сочетают черный цвет с любым другим, но обязательно ярким и обязательно одним.
Эмомакияж распространен как у девушек, так и у парней: подводка глаз черным карандашом. Цвет волос обязательно темный — черный или каштановый. Среди эмо очень популярна полоска, в основном горизонтальная. Важный аксессуар — шарф и зимой, и летом, поверх куртки или поверх майки, желательно очень длинный. Недавно у эмо появилась новая «фишка» — куртки работников автозаправок.
Бунтующая молодежь задает тенденции для от-кутюр и прет-а-порте. И надо заметить, что если бы не было панков, эмо, тедди боев, яппи и других субкультур, основанных на экономическом положении, политическом состоянии страны или какойто новой философии, то мода была бы скучной и нудной. Максимум, до чего бы модельеры додумались без помощи улицы, это возрождение Средневековья, античности и животного мира.
В то время как реальные стили взаимно исключают друг друга, для музея характерно сосуществование всех стилей, их смешение в рамках одного и того же суперинститута, точнее, их ценностная соизмеримость под знаком золотого эталона культуры. Так же поступает и мода в рамках своего цикла: она играет взаимонодстановками абсолютно всех знаков. Темпоралыюсть музея характеризуется «совершенством», завершенностью — это специфическое состояние того, что миновало и ни в коем случае не современно. Но мода тоже никогда не современна — она играет на повторяемости однажды умерших форм, сохраняя их в виде знаков в некоем вневременном заповеднике. В музее есть элемент дизайна, обыгрывающего разные произведения как элементы единого целого. Мода и музей — современники и сообщники, совместно противостоящие всем прежним культурам, которые строились из неэквивалентных знаков и несовместимых стилей.
Жан Бодрийяр: «Искусство — это гениальность, авантюрность, способность порождать иллюзии и отрицать реальность, противопоставляя ей сцену, на которой веши подчиняются правилам высшей игры» (Бодрийяр Жан. Прозрачность зла, М., 2000, с. 213).
Композиторам первой волны романтизма, или так называемого «чистого движения», пришлось едва ли не труднее всего. Перед ними стояла задача интродуцирования в музыкальную культуру симулякров национальных особенностей — задача, с которой не сталкивался до сих пор ни один музыкант, и которая могла с легкостью провалиться из-за неприятия общественностью совершенно неизвестного ранее музыкального элемента. Чтобы она была успешно решена, было необходимо, прежде всего, замаскировать симуляцию под нечто реальное, действительное, но в то же время неузнаваемое. Если бы симуляцию интегрировать в музыку как легко опознаваемый процесс, она потеряла бы всякий смысл и была бы отторгнута как инородная структура. Создание национальных симулякров в музыке сразу легло в плоскость игры как противоположности «серьезного» во всех этнических культурах, даже в тех, которые, по всей вероятности, никак друг с другом не были связаны, разве что исключительно опосредованно.
Симулякры второго порядка — это «симулякр симулякра» (Baudrillard. Simulaclacres et Simulation. P., 1981, p. 91). Рассмотренные выше симулякры, будучи помещенными в рукописи опер, остаются лишь достоянием специалистов и архивных служащих и поэтому неспособны оказывать никакого социального воздействия, но они порождают следующее поколение себе подобных. Это происходит при исполнении или постановке оперы. Характерно, что, как впервые отметил Жиль Делез, симулякров второго порядка всегда значительно больше, чем их предшественников первого порядка, третьего больше, чем второго, и т. д. Создается эффект «размножения» симулякров и «цепной реакции» их распространения.
Национальные симулякры, не останавливаясь на втором уровне, продолжают размножаться и дальше, и третий порядок отражает их проникновение из театра непосредственно в социум. Основа успешной национальной симуляции третьего уровня кроется в адекватном восприятии симулякров второго порядка зрительской аудиторией, «угадывании» ей национального подтекста. Здесь имеет место не только искусная игра симулякров, но и момент духовного «единения», консонанса публики и исполнителей — participation, о котором говорил еще Гадамер. Так, Вагнер считал обязательным активное соучастие зрителей в оперной постановке для успешной выработки у них национального чувства, то есть принимал крайнюю важность национальной симуляции третьего порядка, поэтому и называл свои оперы сценичсской праздничной игрой, проводя таким образом аналогию между представлением оперы и народным праздником, когда приглашенные на праздник проводят время не пассивно, а активно.
Остается невыясненным вопрос, до какого порядка продолжаются ряды национальных симулякров в музыкальном искусстве. Действительно ли они стремятся к бесконечности, как полагал Делез, или ограничены сверху. Французский социолог был прав, но он не отметил одной основополагающей детали: появление новых порядков симулякров возможно только благодаря их перманентной игре.
Известно, что культура является второй природой. Бодрийяр хочет показать, что органика мира замещается его естественным подобием. В качестве иллюстрации он берет роман французского писателя Ж. Перека «Веши». Тот самый дом, который всегда был родным очагом, здесь подменяется «пустым местом».
«Отсутствие очага как центра дома, портретов и фотографий родственников, зеркал, символизирующих отражение для отражения (они вытесняются в ванную), свидетельствуют о конце интимности, интровертности (в данном случае „закрытости“ — прим. П. Г.) традиционной семьи, экстравертной (экстраверсия — нацеленность на „других“, открытость — прим. П. Г.) прозрачности быта 60−70-х годов. Яркие, агрессивно-вульгарные цвета как знаки языка пульсаций, мебель и бытовая утварь, освободившиеся от традиционных функций, пластмасса, способная имитировать любые материалы, закамуфлированные источники неонового света и т. д. — знаки экстериоризации (экстериоризация — переход изнутри во вне — прим. П. Г.) формы, отделяющей от веши и отпадающей от нее подобно панцирю. Это пустая скорлупа, полая оболочка, ложная форма … и есть симулякр» (Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. М., 2000, с. 59).
Вещи становятся более хрупкими. Они превращаются в однодневки. Современные люди, ускорив темпы перемен, навсегда порвали с прошлым. Мы отказались от прежнего образа мыслей, от прежних чувств, от прежних приемов приспособления к изменяющимся условиям жизни. Именно это ставит под сомнение способность человека к адаптации — выживет ли он в новой среде? Сможет ли он приспособиться к новым обстоятельствам жизни, к бытованию среди симулякров?
Однако для того чтобы человек мог выжить, его модель должна иметь некоторое общее сходство с реальностью. Ни одна мысленная модель мира не является чисто личным произведением. Хотя некоторые из мысленных образов строятся на основе личных наблюдений, все же большая их часть основывается на информации, поставляемой средствами массовой коммуникации и окружающими людьми. Если бы общество само по себе оставалось неизменным, человек не испытывал бы потребности пересматривать собственную систему представлений и образов, чтобы увязать их с новейшими знаниями, которые есть в обществе. Пока общество стабильно или изменяется медленно, образы, на основе которых человек строит свое поведение, также могут меняться медленно. Но вот общество вошло в сферу, где все происходит быстро, неотвратимо. Разумеется, это грозный симптом кризиса, который угрожает человечеству.
Когда говорят о постмодерне, нередко возвращаются к поздней античности. В ту эпоху тоже рождались мысли о конце истории, о том, что все, что могло человечество выразить, оно уже выразило. Но можно ли говорить о постмодерне только как о культуре истощения, кризиса? По-видимому, нет. В нашу эпоху идет поиск нового идеала красоты, нового взгляда на прекрасное. Возвышенное заслоняется удивительным, трагическое — парадоксальным. Постмодернизм направляет развитие эстетики вглубь, сознательно ставя пределы той или иной тематике, пытаясь выявить ее изнанку.
Постмодерн стремится внести художественное содержание не только в узкую сферу искусства, но и в повседневность. Он терпимо относится к массовой культуре, обращается к тем эстетическим феноменам, которые, казалось бы, навсегда ушли из жизни. Постмодерн охватывает по возможности весь совокупный художественный опыт человечества. Разумеется, постмодернистская культура открыла новые горизонты в художественном освоении реальности, но вместе с тем заставила думать о судьбах культуры.
Нельзя не видеть, как нарастает вокруг обобщение явлений и процессов, связанных с имитацией, подменой, подделкой, копией, бутафорией, контрафактным продуктом.
Это квази, псевдо, «как бы», когда, сохраняя внешнее существование, веши теряют свою сущность и служат выражением чего-то другого. Не случайно в современном языке так широко распространен оборот «как бы». Вино без алкоголя (как бы вино), кофе без кофеина (как бы кофе), секс без партнера (как бы любовь), бесчисленные амортизаторы и «улучшители вкуса», добавки к какой-нибудь химической массе, составу, делающие их «яблочнее яблока», «земляничнее земляники», «розовее розы» и т. п., но это не яблоки, не земляника и не розы.
Искусственные цветы, которые ярче и красивее естественных, бетонная стена «под мрамор», пластмассовый стол «поддерево», соевая колбаса «под мясо», певцы с «фабрики», выражающие не себя, не свое состояние и чувства, а замысел и проект продюсера. Чем меньше в них самостоятельности, личностных особенностей, тем лучше и легче реализовать волю режиссера. Это конструкт, концепт, воплощенный в реальности, но не как новый артефакт, а внедренный в нечто существующее, воспроизводящее функции, но меняющие его субстрат, субстанцию, лишающее его собственных импульсов существования и развития. Человек без души, без самости, функционер, марионетка, зомби, робот. Песни «под фанеру», речь с чужого текста, порнография вместо секса, ложь как норма поведения и т. д., как в анекдоте, когда на вопрос об образе жизни отвечают: образ есть, а жизни нет.
Заслуга постмодернистской философии в том, что в ней впервые нашла обобщение эта мощнейшая тенденция развития нашей цивилизации и «как бы жизни». Тенденция к потере идентичности человека, подлинности его бытия, реальности как таковой, ее замены знаками реального. Симуляция есть некое параллельное движение процессу семиотизации. Культура эволюционирует от парадигмы «отражения реальности» до маскировки ее отсутствия, достигая состояния, когда семиотическая среда выступает как самодостаточная и субъект (в структурализме означающее) больше не соотносится с какой бы то ни было фактичностью. На место оригинала ставится копия. Парадокс? Только генетически, по происхождению. А на практике полученная из-под ксерокса бумага вполне может быть четче и лучше той, которую она воспроизводила. Картина великого художника, «облагороженная компьютером», отступает на второй план перед своей копией. Ароматизированная и дополненная пищевыми химикатами колбаса вкуснее натурального мяса. Люди на экране красивее, чем в жизни, и встреча с оригиналом обычно приносит разочарование.
Получается, что по бытию, его качеству повторение предшествует факту, и это влияет на логику нашего мышления, на представление о соотношении причины и следствия. В конце концов мир возгоняется сначала в знаки (чего-то), а потом в ничего не означающие «пустые знаки*, не-знаки. Драматизм ситуации в том, что качество получаемой реальности действительно выше, но это реальность иного. Качество собственно человеческого, не опосредованного техникой бытия — ниже, отчужденнее, вторичнее. Оно становится необязательным, «ненастоящим». Причина превращается в предлог. Господствует пост (гипер)реальный синтетический продукт, получаемый комбинаторной деятельностью.
Однако здесь, в отношении симулякров, надо оговориться, изменив нашему в основном критическому подходу к оценке философии постмодернизма. Некоторые ее авторы сами выступают с резкой критикой симулякризации и семиотизации мира. Прежде всего Ж. Бодрийяр (р. в 1929). Преподает в Парижском университете, читает лекции в Европе, США, Австралии. Он не просто работает в сфере постмодернистской «академической» философии, а, популяризируя ее, одновременно — разоблачает. Вместе с миром постмодерна и порядками в нем, порождающими феномен постмодерна. Главной мишенью его анализа является потребительское общество с его рекламой, формализмом и псевдодеятельностью. Выступает против бездумного сциентизма и глобалистской гегемонии Америки.
Он собственно и разработал данное понятие, хотя словарно оно существовало раньше. Симуляционному перерождению мира много внимания уделяет также широко публикующийся левоориентированный философствующий писатель Славой Жижек (р. 1949). Хотя обоих этих авторов относят к постмодернизму (они действительно работают в его терминах), но в отличие от некоторых других коллег, они не лукавят и не маскируют происходящее. Не делают из своей философии «симулякра». Показывая глубинную связь капитализма, глобализации и информатизации, их отчуждающее влияние на человека, они ищут для него выход, предлагают способы противостояния превращению вещей в симулякры.
Чего не делают или даже углубляют кризис вещного мира лучшие постмодернистские авторы. Например, Ален Бадью в книге «Делёз. Шум бытия» (М., 2004) стремится доказать, что теория симулякров уже была у Платона и что вещи как таковые никогда не существовали и их природа изначально симуляционна. В том числе природа людей. А в сущности, полагает он, опираясь на Ж. Делёза, субстанцией мира надо считать виртуальное, реальность же есть его симулякр. Это яркий пример антиисторизма и актуализма, парадигмального перенесения сегодняшней ситуации на прошлое, идейная агрессия новых микрои мегамиров, инфовиртуальной реальности против жизненной естественно-исторической среды существования человека как Homo vitae sapiens. Думается, что учитывая неоднозначность положения и внутреннюю борьбу в постмодернистской философии, надо поддерживать в ней линию на сохранение подлинности вещей и идентичности человека. Поддерживать и развивать, соотнося с контекстами классического субъект-объектного философствования. (Кутырев В. А. Философский образ нашего времени (безжизненные миры постчеловечества. Смоленск, 2006, с.).
И еще к симулякру. Стразы Сваровски для тех, кто не может позволить себе настоящие бриллианты. Резиновая женщина. Безалкогольное пиво. Ученые из Таллина готовы потратить 29 млн. долларов на то, чтобы вывести новый вид конопли. Вообще без наркотического эффекта. Кури сколько хочешь — ни разу не торкнет.
Налаженная индустрия подделок, фальшаков, имитаций, наводняющих мир и во все горло кричащих: «Попробуй нас! Купи! Оборотись в нашу сторону!».
Мы незаметно привыкли к владычеству контрафакта. Куда ни направишь взор — кругом одна фальшивка. Водку и минералку разливают на подпольных заводах, прямо из-под крана. Одежду от-кутюрье шьют в Китае и Таиланде. Новинки видеорынка появляются на Горбушке раньше, чем они поступают в пролажу.