Вместо заключения: Постмодернизм как ментальный кризис
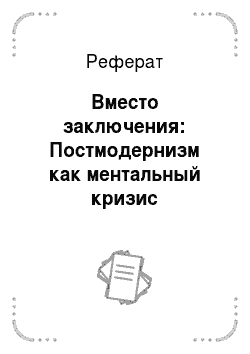
Кризисное состояние постмодерна — явление исторически процессуальное и в этом смысле неизбежное. А вот непосредственное будущее ментального бытия культуры всегда событийно, поскольку всегда имеется несколько более или менее вероятных сценариев (синергетических аттракторов) дальнейшего развития исторической ситуации. Возможны, по-видимому: а) затягивание кризиса, ведущее к усилению тенденций… Читать ещё >
Вместо заключения: Постмодернизм как ментальный кризис (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Постмодернизм последних десятилетий XX столетия определяется радикальным разочарованием в «субъект-центрированном разуме как принципе модерна»[1] и представляется гораздо более фундаментальным, нежели постсимволизм, возможно, завершающим кризисом постриторической формации в ее культурообразующей продуктивности. Постмодернистский аспект новейшего времени предстает феноменом глубокого кризиса дивергентной ментальности, приходящей — вследствие своего принципиального эгоцентризма — к «неразличению внутренних и внешних отношений»[2]. По мысли Фуко, освобождение «я» от существования, которое его ограничивает, приводит к стиранию самого человеческого существования, становящегося беспредельным. Закономерное следствие такой беспредельности — эрозия коммуникативности, которая как раз и предполагает событийное преодоление границ, размежеваний, обособленностей.
Так, углубление кризиса авторства в музыкальной сфере приводит, в частности, к алеаторической музыке, являющейся, быть может, наиболее чистым воплощением акратической контрдискурсивности: «Ни композитор, ни исполнитель над ней не властны: вместо этого они становятся толкователями результатов случайного процесса. Главным фактором в принятии решений, верховным авторитетом, истинным творцом стал Случай»; исполнение такой музыки «не опирается на какое-либо предварительное соглашение между музыкантами, и для них — точно так же, как и для слушателей — звуковые результаты их действий непредсказуемы […] Чтобы „извлечь смысл“ из этого непредсказуемого потока звучаний […] сам слушатель вынужден „импровизировать“ — артикулировать, подразделять, группировать, опознавать, соотносить, делая это на свой страх и риск, как пациент, подвергаемый психологическому тесту Роршаха»[3].
После кризисного всплеска 1968 года модернистская апология креативности обернулась редукцией превознесенного субъекта: «проектом сведения человеческого сознания к его реальным первоусловиям»[4]
и, в конечном счете, к языку, который будто бы говорит «сам собой» (в противовес идее Бенвениста о «присвоении» языка субъектом). Однако тексты Фуко, осуществляющие реализацию этого проекта — «вырвать субъекта у него самого», — сами явственно принадлежат к провокативной метастратегии диалогического разногласия.
Постмодернистская концепция «смерти автора» представляет собой спровоцированное Ницше сугубо субъективное развенчание субъекта как «основоположника значений», как несущей опоры культурной жизни. Стратегия «контрдискурса», с легкой руки Барта, самого Фуко и особенно Дерриды в последние десятилетия XX века активно вторгшаяся в область научного письма, реализует установку «выразить значение только для того, чтобы признать его несостоятельным и необоснованным, как и сам способ „производства значений“ в индустрии науки»[5].
Дионисийство Ницше, обнаруживаемое у истоков кризиса эгоцентрической культуры, Юрген Хабермас парадоксально, но тем более убедительно охарактеризовал как «усиление субъективного вплоть до полного самозабвения»[6]. «Ницшевская критика модерна» — дискурсивными средствами самой модернистской Я-ментальности — «находит последователей в лице Батая, Лакана и Фуко […] в лице Хайдеггера и Дерриды»[7]. Восходящая к титанизму эпохи Возрождения претензия человеческого сверхсубъекта на культурообразующее положение в социальной жизни оборачивается «псевдоочевидностью субъекта», которую Мишель Пешё остроумно квалифицировал как «эффект Мюнхгаузена»[8]. Однако постмодернистские разоблачения этого эффекта, как правило, не покидают коммуникативного поля субъективных мнений и своевольных желаний, реализуемых в провокативных формах авторства.
Так, расхожая в XX веке мысль о сводимости текстов к означающему без означаемого отражает ни что иное, как зарождающуюся в эпоху барокко тенденцию к абсолютизации иконической дискурсивности (первичность и самодостаточность сигнальной стороны знака). Пределом этой тенденции оказывается провозглашенная Жаком Дерридой «абсолютная тотальность» текста, отождествляемого с «долингвистическим восприятием»: «То, как я воспринимаю […] уже само по себе для меня текст»[9].
Пантекстуальность — очевидный феномен постриторической культуры уединенного сознания: если весь мир является текстом, перед лицом мира субъектом остаюсь только я один; все остальные квазисубъекты — только знаки этого текста. (По мысли Поля Рикёра, «нет ничего более опасного, чем […] утверждать: все есть знак»[10], сводя к этому статусу и человеческую личность). Постмодернистское «я» отказывается от самодовольной позиции мирового центра, но ему остается только самоотрицание — рассеивание и себя среди знаков мирового текста. Если такая интенция реализуется в дискурсивной практике, то актуализируются (впрочем, при социальных гарантиях авторского права пишущего) архаичные коммуникативные стратегии анонимного авторства.
Глубокая диагностика ментального кризиса Я-культуры принадлежит Жану Бодрийяру, который выделил три фазы нигилизма: романтизм, сюрреализм (и другие модификации художественного авангарда), постмодернизм (мыслимый «эрой симуляции»). Нигилизм — поистине одна из наиболее существенных характеристик дивергентного менталитета, питающего постриторическую дискурсную формацию с ее деконструктивной альтернативностью каждого сознания — другому сознанию. Заключительная стадия нигилистической культуры видится Бодрийяру в «индифферентности» и «завороженности всеми формами исчезновения»[11]. Современный человек напоминает Бодрийяру ребенка в мире взрослых: от него требуется быть податливым объектом воздействия и одновременно инициативным субъектом жизни. На первое он отвечает непокорностью, на второе — безразличием и безволием.
Впечатляющая картина тотальной окруженности человека симулякрами отражает парадоксальную ситуацию массовости уединенного сознания. Пока такое сознание противополагало себя толпе, сохранялось романтическое двоемирие: пошлая действительная реальность, с одной стороны, и жизнетворчески воображаемая реальность — с другой. Когда же доминирующая роль дивергентной ментальности в культурной жизни становится массовым явлением, для первой реальности не остается места: «Реальное производится […] Оно только операционально. Фактически, это уже больше не реальное, поскольку его больше не обволакивает никакое воображаемое. Это гиперреальное, синтетический продукт»[12].
Утрата творческим воображением непосредственного контакта с действительностью лишает его материала, вследствие чего иссякает и творчество. На его месте обнаруживается квазимифологическая (дориторическая) серийная вариативность, исследовавшаяся Умберто Эко[13]. Новаторская имагинативность модернистской культуры вырождается в вязкую псевдо-инновационную информативность. Автономное «я» вынужденно поглощается всеобщей дивергенцией как производящим механизмом культуры. Оно утрачивает свою романтическую сокрытость, оказываясь в ситуации «невольной транспарентности» (прозрачности); вокруг него «становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла»[14]. Исчезновение из коммуникативных событий «сильных референтов» первичной реальности приводит к тому, что современному участнику культурной жизни остается только «теоретическое насилие, а не истина»[15].
Показательно для кризисной эпохи, что картина катастрофического апофеоза нигилистической ментальности нарисована субъектом как раз уединенного сознания, самоопределяющимся как нигилист. Постмодернизм переживается Бодрийяром изнутри, в тональности иронии отчаяния.
Самоценность человеческой индивидуальности, обоснованная просветительской доктриной «прав человека», для подавляющего большинства в высокоразвитых современных странах остается аксиомой. В общественной жизни таких стран очевиден культ свободного мнения и дискуссионное™ (диалогического разногласия). Однако многие существенные процессы и влиятельные феномены современной культуры находятся в кризисном разладе с этой аксиоматикой. Приведу лишь несколько характерных и достаточно общеизвестных примеров отступления от постриторической дискурсной формации как доминантной для новейшего времени.
Многостраничные и многофигурные нарративы нововременной классики, подобные «Войне и миру», умножая число жизнеописаний в своем составе, старательно обеспечивали уникальность каждого из них. Эти вымышленные биографические дискурсы требовали от читателя развитого и напряженно работающего воображения; они предлагали читателю бесчисленное многообразие жизненных путей из прошлого в будущее, отсылая его тем самым, так или иначе, к собственному жизненному пути, к самоопределению. Тогда как постмодернистская эстетика серийности (варьирования узнаваемого прецедента), а также катастрофический рост удельного веса визуальности в культуре убедительно свидетельствуют об усталости Я-сознания огромного числа потребителей искусства. Это симптомы ослабленное™ их имагинативной потенции, их потребности в самоактуализации, симптомы утраты рекреативной когнитивное™ с ее этосом самодостаточности. Дерридаистский пафос деконструкции и порождается, на мой взгляд, импульсом ментального противостояния кризисному состоянию усталости постмодернисткого «я».
Эстетика кинотелевизионной и книжной многосерийности базируется не на принципах универсально-жанровой нормативности и не на принципах кантовской «гениальности» (оригинальности), но на принципе вариативности. Бесконечное варьирование одних тех же по сути своей ситуаций, различающихся лишь наборами внешних атрибутов (индексальная дискурсивность), переводит фигуративнофикциональное (художественное) высказывание из референтной модальности личного мнения — в модальность безличного знания. Это предлагает адресату, по выражению Эко, «мифологию настоящего». Псевдо-сотворческое, а по сути своей репродуктивное узнавание в новых частностях новой серии мифоподобной прецедентности сериала в целом ведет к «элиминации напряжения» (Эко), к эффекту отрешения от озабоченности собственной самостью, к этосу идентичности (с прочими потребителями зрелища), к интенции покоя.
Аналогичная рецептивная установка — при всей внешне ритуализованной возбужденности зрителей — составляет риторический этос спортивных и иных массовых зрелищ. В случае поражения «своих» возникающая в среде спортивных зрителей массовая неудовлетворенность возбужденной, но не реализованной потребности в праздничном покое победителей приводит порой к архаичным по своей роевой ментальности побоищам.
Налицо радикальный поворот от постриторических стратегий, сросшихся с эстетической деятельностью эпохи модернизма, к дориторическим стратегиям ритуально-мифологического сознания. Не случайно, размышляя о «конце истории», Жан-Франсуа Лиотар противопоставляет ей «время мифов».
Схожие тенденции очевидны в областях изобразительной и музыкальной культуры. Так называемые «инсталляции» современных художников-дизайнеров в основе своей, как и многие сериалы, имеют провокативный импульс изобретательного замысла. Они антиканоничны, однако лишены модернистской (кантовской) оригинальности: они воспроизводимы. Копия такой инсталляции не только возможна, но и способна технически превзойти оригинал, поскольку само творение безлично: оно не таит в себе энигмы авторского переосмысления бытия, которую Кант именовал «духом» гениальности.
Интеллектуальная тяга к деструктурированной анонимной ментальности обрела свою концептуализацию в эксплицированной Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари категории «ризома»[16]. На их взгляд, современный субъект утратил свою креативную способность к порождению дихотомических значений, зато обрел причастность к мифоподобной сверхдетерминированности, характеризующейся ценностной амбивалентностью. Ризома — децентрированная, дезиерархизированная множественность без конструктивного единства; это хаотическое, неструктурированное образование, аналогами которого выступают пучок, луковица, клубень, стая, колонна муравьев. В качестве социальных примеров называются жизнеуклады Океании, американского дикого Запада, битников и гангстеров, а также буддизма и маоизма, где все индивиды взаимозаменимы, поскольку являются носителями единой нервной системы с короткой памятью. Короткая память — беззаботна и легко поддается мифологизации.
Метаанархизм Делёза и Гваттари — это бунт усталости («мы устали», «мы утратили» и т. п.) против любых структур, обременяющих личность: не только против гетероцентрических структур государства, идентифицирующих ролевое существование человека, но и против эгоцентрических структур самоактуализации. Причем наиболее острым противостоянием авторов «Ризомы» является противостояние всякой субъективации как корню всякой власти. Однако коммуникативная стратегия самого текста по имени «Ризома» — яркий пример провокативной стратегии диалогического разногласия, против ментальных основ которой направлена их книга. При этом сами авторы призывают «писать лозунгами» (дискурсивная практика авторитарной коммуникации), что, на их взгляд, и было бы ризоматическим письмом.
Прежде всего, сама «ризома» — очевидное порождение иконической дискурсивности. Это типично кантовская «эстетическая идея», то есть «такое представление воображения, которое […] дает повод так много думать, что этого никогда нельзя выразить определенным понятием, стало быть, эстетически расширяет само понятие до бесконечности»[17] (возможных его значений. — В. Т.). Помимо уже названных выше значений изобретенного термина (закрепляющего, как признаются сами авторы, своего рода «галлюцинаторный опыт»), ризомами оказываются: географическая карта, город Амстердам, совершенный автомат, оазис в пустыне, однополая сексуальность, сорная трава, кочевничество, проза Кафки, партизанский отряд, поток и даже восточная деспотия и «машина войны». В конечном счете, общий знаменатель всех этих весьма субъективных представлений о различных объектах, говоря словами Пирса, есть «знак, который обладал бы своим характерным свойством, собственно и делающим его значимым, даже если б его объект и не имел существования»[18]. Это имагинативный знак мнения.
Иконична сама попытка написать ризоматическую книгу о ризоме — никому не принадлежащую, без начала и конца, с немотивированными переходами от абзаца к абзацу. При этом текстопроизводство контркультурной книги оказывается в итоге именно предаваемой анафеме «калькой» с авангардисткой практики письма. Устранив размежевание двух своих субъективностей в сочинении книги, авторы отнюдь не слились в ризоматическую «конъюнкцию» со своими читателями. Целевая риторическая установка их глубоко иронического дискурса представляется достаточно очевидной, хотя и глубоко противоречивой: интенция желания (своеволия, произвольности), грезящего о покое, который желательно было бы достигнуть безответственным растворением в «ризоматическом» потоке жизни.
Подлинным предметом постмодернистской критики выступает базовый для европейской культуры компромисс нормативного и дивергентного менталитетов, сформировавший те «системные тиски», которые заботили Хабермаса: «Свою новую идентичность старая Европа обретет лишь в том случае, если сможет противопоставить чреватому постоянными кризисами хитросплетению […] ощущение реальной возможности вырваться из самостоятельно наложенных ею на себя системных тисков»[19]. Ризоматический проект не представляется «реальной возможностью» такого рода (как и тоталитарный проект сталинского типа). Гораздо перспективнее видится бахтинской проект «диалога согласия».
Бахтинскому диалогизму согласия во второй половине XX века наиболее близка философия Эммануэля Левинаса, также опиравшегося на опыт конвергентного сознания, явленный художественным творчеством Достоевского. Если в глазах Фуко ницшеанская «смерть Бога» приводит к утрате личным существованием конструктивных границ и, соответственно, к утрате субъектом своей субъектности, то для Левинаса такой границей является всякий, кто «имеет значение другого»[20]. Суверенная идентичность «я» обретается в коммуникативной ответственности перед этим «другим», в диалоге, который мыслится Левинасом не как средство сообщения смыслов, но как орудие смыслообразования.
В окружающей философа реальной действительности он констатировал кризисное состояние личностного менталитета, приводящее к тому, что каждый воспринимает всех других как «чужих» и существует уединенно. Однако последней тайной существования, скрытой от повседневного сознания, — «первоначальной структурой я, прибытием в мир»[21] — является ответственность как приобщенность к жизни другого, а через него — к трансцендентности диалога в качестве этической структуры бытия.
В случае Левинаса можно говорить о восстановлении в правах (или открытии заново) тех культурообразующих возможностей конвергентного сознания, которые зародилась еще в пределах постриторической дискурсной формации, и были эксплицированы первым поколением «диалогистов» в ситуации ее начального кризиса.
Кризисное состояние постмодерна — явление исторически процессуальное и в этом смысле неизбежное. А вот непосредственное будущее ментального бытия культуры всегда событийно, поскольку всегда имеется несколько более или менее вероятных сценариев (синергетических аттракторов) дальнейшего развития исторической ситуации. Возможны, по-видимому: а) затягивание кризиса, ведущее к усилению тенденций дориторической дискурсной формации; б) своеобразная «контрреформация» постриторической дискурсной формации модернистского типа перед лицом угрозы мусульманского фундаментализма с его нормативной ментальностью; в) рецессивное восстановление доминантной роли дискурса власти с его императивно-регламентарнорегулятивными компетенциями, как это случилось в послереволюционной России; г) наконец, возможен и давно готовящийся неориторический прорыв конвергентного менталитета к доминированию в духовной жизни людей.
При резко возрастающей глобальности человеческой цивилизации каждый частный выбор одного из этих сценариев может оказаться не просто событийным, но и общечеловечески значимым.
Отмечу при этом, что интернет способен стать медиальным средством реализации любой дискурсной формации. Однако именно он открывает уникальные возможности осуществления неориторического порыва ко всеобщей солидаризации жизни, при которой, по слову Мандельштама, «все хотят увидеть всех».
- [1] Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2008. С. 109.
- [2] Смирнов И. П. Бытие и творчество. СПб., 1996. С. 22.
- [3] Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон; СПб., 1992. С. 212.
- [4] Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994. С. 383.
- [5] Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 347.
- [6] Там же. С. 102.
- [7] Там же. С. 105.
- [8] См.: Pecheux М. Les Verites de La Palice. Paris, 1975.
- [9] Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 313.
- [10] Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 409.
- [11] Baudrillard J. Simulacres et simulation. Paris, 1981. P. 231.
- [12] Ibidem. P. 11.
- [13] Cm.: Eco U. Innovatoin et repdtition: entre esthetique modern et postmodern //Reseaux. 1994. № 68.
- [14] Baudrillard J. Simulacres et simulation. P. 121.
- [15] Ibidem. Р. 235.
- [16] См.: DeleuzJ., Guattari F. Rhizome. Paris, 1976.
- [17] Кант И. Критика способности суждения // Соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 331.
- [18] Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М., 2000. С. 218.
- [19] Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 375.
- [20] Levinas Е. En decouvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris, 1964. P. 225.
- [21] Levinas E. Autrement que savoir. Paris, 1988. P. 72.