Проблема оценки психологии Адлера
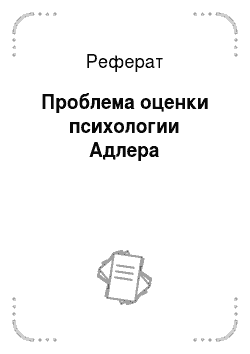
Всякую новую психологию, похоже, можно описать как реакцию социокультурной эмансипации, точнее, рефлексию соответствующих процессов, происходящих в культуре. Например, психология Фрейда связана с процессами эмансипации социальных и этнических меньшинств, происходившей в Австро-Венгерской монархии (лоскутной монархии), причем Фрейд и лично являлся участником этого процесса (эмансипации этнических… Читать ещё >
Проблема оценки психологии Адлера (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В историко-психологических исследованиях обычно принято говорить о влиянии на рассматриваемого автора предшествовавших по времени концепций, а также идей современников. Относительно Адлера (так же, как и Фрейда) сделать такие указания нелегко. Сам Адлер открыто говорит в своих ранних работах только о влиянии на его мировоззрение «философии как если бы» Г. Файхингера. Но кажется, эта философия в большей мере дала Адлеру определенную форму для выражения, чем непосредственно повлияла на содержание его идей. Адлер также охотно ссылается на И. Канта, и действительно индивидуальная психология формально построена «в духе Канта». Но это общий дух европейского Просвещения. Так что и в этом случае также нельзя говорить о непосредственном влиянии философии Канта на психологию Адлера. Иногда Адлер ссылается на Ф. Ницше, в частности на его ид<5и воли к власти и воли к видимости. В данном случае Ницше, конечно, оказал непосредственное влияние на формирование концепции стремления к власти А. Адлера. Однако одновременно Адлер приходит к этим идеям и самостоятельно на материале изучения психопатологии и, конечно, опираясь на свою личную «апперцепцию», а также на то новое культурное поле опыта, в которое он был включен и на котором идеи Ницше «проросли» и объективировались (в том числе и в устройстве психики человека в норме и патологии). Аналогичное можно сказать и о влиянии на Адлера неокантинианства и философии жизни.
Прямо на работы философов, принадлежащих к этим направлениям, Адлер нигде не ссылается, однако влияние соответствующих идей чувствуется, но опять-таки это обще культурные веяния того времени. Трудно, например, наверняка утверждать, что на Адлера оказывает непосредственное влияние понимающая психология В.Дильтея. Во-первых, последняя слишком философична (что не соответствует потребностям Адлера), а во-вторых, это тоже общая тенденция для европейской культуры (здесь заметно, скорее, влияние психоаналитического опыта понимания).
Что касается гештальтпеихологии, то ее некоторое влияние возможно, но отнюдь не обязательно, поскольку она возникла в то время, когда Адлер уже достаточно обосновал и оформил свою психологию. К тому же идея целостного подхода была достаточно распространена в Европе не только благодаря усилиям гештальтпсихологов как в гуманитарных исследованиях (например, О. Шпенглер), так и в естествен но-научных (например, в биологии), особенно в Германии. Непосредственное, хотя и неоднозначное, влияние оказал на Адлера, конечно, 3. Фрейд. Но опятьтаки оказал влияние на уже сложившиеся идеи Адлера. Так, Адлер по аналогии с учением о сексуальных влечениях Фрейда создает учение о влечении к самоутверждению и т. п. Психоанализ оказывает влияние на формирование психологии Адлера также в том смысле, что на материале критики психоаналитических учений шаг за шагом оттачивается концепция самого Адлера, который активно критикует, например, солипсизм психоанализа, жесткость и неподвижность фрейдовских определений и пр. В контексте этой полемики отрабатывается социальная ориентация индивидуальной психологии. И вообще, Адлер ратовал за целостный подход к психике, выступал против жестких оппозиций, поэтому мог брать материал отовсюду. Но внутри его концепции этот материал приобретал новое значение, Адлер стремился объяснить его именно изнутри единого подхода, опираясь на собственную концепцию. Так что объяснить происхождение психологии Адлера определенными влияниями конкретных авторов вряд ли возможно. Здесь имеет значение влияние культурно-исторической ситуации, в которой оказался Адлер. В целом Адлер как младший современник Фрейда смог учесть новые тенденции, которые отчетливо наметились в культуре, а вместе с ней и в людях.
В этой связи, подводя некоторые итоги, задумаемся над вопросом оценки психологии Адлера и соответственно над способом ее восприятия. Например, Г. Ф. Элленбергер считает, что ее нельзя сравнивать с экспериментальной психологией, с одной стороны, и с психологией Фрейда — с другой. Психология Адлера иная: она не претендует ни на экспериментальное изучение психологических фактов, ни на глубинное изучение личности. С точки зрения Элленбергера, это прагматическая психология, которая предполагает принципы и методы, позволяющие человеку приобрести практическое понимание себя и других людей, и не притязает на глубинное рассмотрение проблем (см.: Элленбергер Г. Ф., 2004). Элленбергер пишет, что психологию Адлера в этом отношении можно сравнить с «Антропологией с прагматической точки зрения» И. Канта. Аналогичную психологию, с его точки зрения, можно вывести и из работ Ф. Ницше.
Хотя при формальной оценке такое сравнение как будто имеет смысл, но при историко-психологическом подходе с таким положением в целом трудно согласиться. Например, почему психология Ницше не претендует на глубину? Она как раз больше других философий и психологий конца XIX в. в эту глубину и заглядывает, и на ее прозрениях в значительной мере строится психология XX в. А ставить рядом психологию Канта и Ницше не имеет смысла, потому что это исторически различные психологии. Кант исходил из современной для него экзистенциальноисторической ситуации, в своей психологии осознавал и рефлексировал именно ее, а Ницше находился в иной экзистенциальной ситуации. То, что психоанализ не глубже индивидуальной психологии, мы уже пытались показать и попытаемся делать это в дальнейшем. У Фрейда и Адлера тоже различные исходные экзистенциально-исторические ситуации, определившие их психологический опыт. Наконец, почему психоанализ нс прагматичен? Разве что в том смысле, что Фрейд пытался строить его по аналогии с классической наукой, старался жестко рефлексировать методы получения знания. Но это только форма, которая вскоре не может выдерживать тех знаний, которые получает психотерапия. В процессе последующего развития психотерапии классические психоаналитические псевдонаучные формы разрушаются.
Остается вопрос о значении существования различных психологий. Сегодня мы имеем много психологий и появляются все новые. Элленбергер считает, что психология Адлера — это прагматическая психология, другими словами, она имеет определенную функцию. Из этого можно заключить, что различные виды психологий отличаются по своей функции. Иными словами, для решения различных задач появляются различные психологии. В обществе функционирует много психологических знаний, но не все они рефлексируются в виде психологических теорий и практик, не все оцениваются как культурно значимые. Это происходит только с некоторыми психологическими знаниями. И если психологическое знание социокультурно рефлексируется и принимается обществом или хотя бы его частью, то это значит, что оно может выполнять определенную функцию в этом обществе.
Значит, функция, функциональное место в обществе для этого знания уже готовы. Знание М. Лютера появляется в условиях средневековой культуры, знание Фрейда — в условиях XIX в. и разрабатывается на материале невроза истерии и т. п. Но это только часть ответа. Хотя именно на ней обычно и останавливаются историки психологии. Здесь нет ответа на такие вопросы: откуда же возникает это новое психологическое знание, как это происходит, почему оно такое, а не иное? На эти вопросы не отвечают и теория выдающихся личностей в истории, и теория исторической необходимости появления нового знания.
Аналогичные проблемы возникают и по поводу познавательной ценности психологического знания. Традиционный гносеологический подход к психологическому знанию в данном случае недостаточно эффективен. Если предлагают экспериментально проверить психоаналитическое знание, то это обнаруживает серьезное непонимание. Экспериментальное и психоаналитическое знание и по методу, и по форме, и по содержанию — это различные виды знания. Они получены в разных условиях и в рамках разных видов опыта. Другое дело, что экспериментальная академическая психология может задним числом рефлексировать психоаналитический опыт, частично воспроизводить способы получения знания в этом опыте, так же как рефлексировать новые структуры знания, которые функционируют в психоаналитическом опыте. В этом смысле различные виды опыта могут частично перекрывать и рефлексировать друг друга.
С видом опыта связана также и истинность психологического знания. Можно сказать, что истинность психологического знания определяется внутри того опыта, в котором данное знание получено. Внутри этого опыта содержится и ценность психологического знания. Скажем, как можно сравнить опыт человека, предающегося свободным ассоциациям, и опыт человека, бегающего по лабиринтам за бумажкой? Они просто различны, и у каждого есть своя правда. У знаний, полученных в процессе этих двух видов опыта, свои критерии истинности, своя валидность и т. п. Нечто подобное мы можем сказать, сравнивая исторически различные типы психологического знания. Традиционный, принятый в истории психологии подход, объясняющий рост психологических знаний через их постепенное прогрессивное наращивание, здесь ограничен. В данном случае, прослеживая некоторую линию развития психологического знания, важно суметь проследить, как разные виды опыта способны перекрещиваться и обогащать друг друга.
Еще сложнее картина психологических знаний XX в. Допустим, мы соглашаемся, что, если психологическая концепция длительное время функционирует в культуре и имеет последователей, она хотя бы в определенной мере истинна. По крайней мере, она истинна для ее последователей. Тогда возникает вопрос: почему у Фрейда представление о человеке одно, у Адлера — другое, а у Юнга — третье? Прогрессистский подход здесь не работает, потому что эти концепции возникают почти одновременно. А то объяснение, что Адлер и Юнг — ученики Фрейда, впоследствии отошедшие от него, оказывается мифом, созданным внутри психоанализа, и не совсем бескорыстно. Историко-психологическое объяснение духом времени тоже не проходит. Почему же этот «дух» выносит на культурную поверхность такие разные и часто противоречащие друг другу знания? Если мы попытаемся понять такое положение дел через особенности выдающихся личностей Фрейда, Адлера и Юнга, то непонятно, почему их различные и противоречащие друг другу идеи одновременно принимаются одним и тем же обществом, одной и той же культурой.
Наконец, мы можем теоретико-аналитически сопоставить и проанализировать, скажем, концепции Фрейда и Юнга. Но это в зависимости от типа анализа даст только различные пары оппозиций. Мы можем пойти дальше и попытаться построить гипотезы и подвергнуть их эмпирической проверке. Но и здесь, даже если это в идеальном случае удастся, мы можем столкнуться с таким положением дел, что подтвердятся обе позиции. Остается единственно возможный путь действительного понимания психологического знания: понимания знания изнутри ситуации его образования, изнутри экзистенциальных условий его возможности и социальной и культурной необходимости, внутри определенного личного и культурного опыта. В таком случае мы будем понимать психологические концепции как теоретические экспликации различных видов опыта и как определенные формы его рефлексии. И действительное понимание психологической концепции будет означать понимание структуры и механизмов того опыта, который производит данные психологические знания.
Такая реконструкция опыта может быть осуществлена на уровне социологии опыта и социологии психологического знания. Здесь задача состоит в том, чтобы уяснить социальные причины, условия и механизмы производства и воспроизводства определенного психологического знания в культуре. К этой задаче мы уже обращались и будем систематически обращаться в дальнейшем. Однако аналогичную реконструкцию опыта мы можем осуществлять также на основе анализа личного опыта автора психологической концепции, а именно на основе анализа его биографии. Адлер в этом отношении удобный и репрезентативный случай. Биографический анализ следует дополнить культурологическим и социологическим анализом того общества, в котором происходило развитие Адлера, и соответственно того социального и культурного опыта, который становится материалом адлеровской психологии.
Всякую новую психологию, похоже, можно описать как реакцию социокультурной эмансипации, точнее, рефлексию соответствующих процессов, происходящих в культуре. Например, психология Фрейда связана с процессами эмансипации социальных и этнических меньшинств, происходившей в Австро-Венгерской монархии (лоскутной монархии), причем Фрейд и лично являлся участником этого процесса (эмансипации этнических меньшинств). Поэтому он был восприимчив к соответствующим процессам, и одним из оснований его психологии является процесс этнической эмансипации. Но нечто подобное можно сказать и о психологии Адлера. Прежде всего, она связана с процессами социальной эмансипации, происходившими в то время, но также и с эмансипацией этнических меньшинств. Как мы уже говорили, семья Адлера относилась к группе евреев, которые были менее притесняемы, чем предки Фрейда. Они отошли от иудейской религии, слились со средним классом Австрии (и Венгрии) и верили в возможность демократических преобразований. Данная группа евреев стремилась к ассимиляции с этническим большинством. Это тоже вид эмансипации, к которому примкнул и Адлер. Этим можно, в частности, объяснить особенное и систематическое подчеркивание Адлером значения чувства общности, социального интереса и социального равенства людей. Таким образом, и психологию Фрейда, и психологию Адлера следует понимать как определенную рефлексию ответа определенных социальных групп на некоторое социокультурное давление по отношению к ним определенного социального и этнического большинства. И в одном, и в другом случае мы имеем ответ психотехнический, хотя и различный.
Однако психологии Фрейда и Адлера нельзя рассматривать только как рядоположенные. Психология Адлера в некотором роде базируется на рефлексии оснований, на которых построена психология Фрейда. Так, процессы женской эмансипации стали условием формирования «фрейдовских» неврозов и условием развития онтологии и техники психоанализа (сексуальная этиология неврозов, зависть к пенису, эдипов комплекс и т. п.) (см.: Олешкевич В. И., 1997). Адлер же процесс женской эмансипации берет как исходный онтологический постулат своей теории неврозов. Из него выводится и чувство неполноценности, и стремление к власти. То есть то, что у Фрейда было неосознаваемым условием его теории, Адлер ставит во главу угла своей теории неврозов. Как же в таком случае можно говорить, что психология Фрейда глубже, чем психология Адлера?
Психология Адлера в своей основе имеет более широкую и глубокую социальную базу, которую составили новые социальные и культурные процессы в европейских обществах (женская эмансипация, социальный инфантилизм, индивидуализм и социальные условия для развития нарциссизма, порождающие чувства зависти и невротические компенсации, и т. п.). Эти условия составили ту социокультурную базу опыта, базу для той психотехники, которая во времена Адлера прорывается вовне и становится объектом психологической рефлексии, отличной от фрейдовской и в определенной мере снимающей ее в себе. Поэтому и психотерапевтическая техника у Адлера иная, иной и более целостный фокус ориентации на самоосознание, сбалансированный с задачами компенсации дефектов пациента и его социализации.
Вопросы для самопроверки
- 1. В чем основной смысл таких понятий А. Адлера, как «жизненная цель», «прототип» и «стиль жизни»?
- 2. В чем суть подхода А. Адлера к патопсихологии?
- 3. Что составляет основу подходов А. Адлера к проблемам психосоматической медицины?