Причины Великой Французской революции
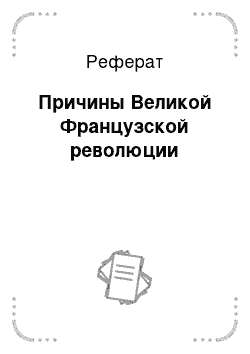
Старая реальность почему-то требовала новых выражений. Если раньше выражением изящного стиля считалось, например: «j'esteme le melon», то революционер бы сказал прямо «j'aime le melon» — «я люблю дыню». Если раньше солнце называли: «1е flamebeau du jur», то для истинного республиканца это просто «1е soleil». Вместо привычного «monsieur» все стали говорить «citoyen». Особенно многим нововведениям… Читать ещё >
Причины Великой Французской революции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Традиционно историография связывает начало революции с событиями последних лет правления Людовика XVI. Это была эпоха нескольких крупных скандалов, в центре которых стояла фигура жены Людовика — королевы Марии-Антуанетты. Скандализировавшее народные массы поведение королевы не прибавляло популярности королевской власти. Достаточно здесь вспомнить известное дело об «ожерелье королевы», которое послужило Дюма-отцу фабулой одного из его романов. Также в ходе революции королева играла не самую благовидную роль «поджигательницы», в чем ее не без оснований обвиняло революционное мнение. Общественное мнение считало ее главной виновницей иностранной интервенции, привлечения иностранных войск во Францию. Хотя много в деле королевы и наносного, историография отнеслась к ней крайне пристрастно. Вместе с тем было бы большой натяжкой полагать, что главной причиной революции стало поведение Марии-Антуанетты. Конечно же, нет. Просто подобного рода субъективный фактор в ту пору служил катализатором общественных настроений, провоцировавших недовольство.
Одним словом, время правления Людовика XVI, не самого плохого короля, чьи моральные качества всегда оценивались историками положительно, ну никак не могло служить причиной кровавого бунта. Несмотря на хрестоматийное объяснение причины революции финансовым кризисом, экономическое положение королевства перед революцией, что признано историографией, было хорошим. Современники (например, англичанин Артур Юнг) отмечали это. Даже пресловутая поддержка американской революции — посылка войск за океан, хоть и сыграла с Людовиком прескверную шутку, не стала причиной революционных событий. Причина в другом — в появлении к середине XVIII столетия во Франции силы, значение которой современники поняли не сразу. Немудрено, поскольку эта сила изначально рядилась в одежды философской рефлексии. Этакого свободного, хоть и салонного рассуждения на любые отвлеченные темы. Но больше всего тогда любили порассуждать о смысле этого мира.
Оказывалось, что, несмотря на то, что этот мир полон бессмыслицы, он имеет определенное оправдание, покоящееся на абсолютной и догматической вере, объединяющей «философов» в секту, «где от братьев требуется не столько служить разуму, сколько верить в него» | Кошен, 2004, с. 22]. Именно, не пользоваться им, а фетишизировать, т.с. обожествлять его. «Там, за стеной, нечего любить, не за что приняться, не к чему привязываться» [Там же: 25]. Содержанием новой веры становится пресловутая laissez-faire, laissez-passer. Человек как дитя природы (Phomme de la nature), он, как тот гурон из известной трагедии Вольтера, разумен так же, как разумна сама природа. Но вот беда — люди за прошедшие века впали в невежество, они зачастую не знают своего счастья. Их здравый смысл затемнен и заслонен вековыми наслоениями рабства, культивировавшимся старым порядком — эти аристократы, эти попы — все они кровопийцы, затуманивающие сознание нации. Нацию нужно разбудить от векового сна, заставить ее проснуться!
Эта поразительная черта философии XVIII в., только по нелепости названной Просвещением, приводит к появлению феномена, названного Ипполитом Тэном «политическим народом», а Огюстом Кошеном — «малым народом». Вот они, будущие революционеры, «трубачи молодые», как сказал поэт, глашатаи свободы — те, кто появился словно из ниоткуда, невидимые миру, они врываются в этот свет, чтобы переделать его на свой лад. Vae victis! И горе тогда побежденному миру, его ждет одномерная плоскость бытия. Только знаменитому «одномерному человеку» Герберта Маркузе здесь место.
Что же это был за народ такой, что за мухи? Ответ одновременно прост и сложен. Па него в свое время очень хорошо ответил уже упоминавшийся нами граф Токвиль. В его прелюбопытном труде «Старый порядок и революция» есть одна глава, которая прямо отвечает на поставленный нами вопрос: «Каким образом около половины XVIII в. литераторы сделались главными государственными людьми во Франции?» Эта «республика словесности», как ее назвал Кошен, представляла собой странную картину. Токвиль пишет:
«Само положение писателей развивало в них любовь к общим и отвлеченным теориям в области государственного управления и склонность слепо доверяться им. Живя в бесконечном почти отдалении от практики, они совершенно лишены были опыта, который мог бы умерить порывы их темперамента; ничто не предупреждало их о тех препятствиях, на которые могли натолкнуться в существующих фактах даже наиболее желательные реформы: они не имели ни малейшего представления об опасностях, всегда сопутствующих самым необходимым переворотам. Они даже не предчувствовали этих опасностей, потому что благодаря полному отсутствию политической свободы деловой мир был им не только плохо знаком, но прямо невидим. Они в нем ничего не делали, не могли даже видеть, что делают там другие. Таким образом им не доставало того поверхностного воспитания, которое вид свободного общества и отголоски всего, что говорится в нем, дают в таком обществе даже людям, наименее причастным правительственной деятельности. Вследствие этого у них развилось гораздо больше смелости в нововведениях, гораздо больше любви к общим идеям и системам, презрение к древней мудрости и уверенности в своем индивидуальном разуме, чем это обыкновенно наблюдается у авторов, пишущих теоретические сочинения о политике» [Токвиль, 1918, с. 1171.
Неприятие старого мира, его критика с позиций разума и только разума разлагающе действовала на все общество. На аристократию, держащуюся за свои привилегии, но привлеченную игрою ума, проводящую время в салонных разговорах, опасность которых лишь оттеняла непоколебимость ее привилегий. На третье сословие, налоговое бремя которого, точнее неравенство в его несении, делало из этого сословия самого благодарного слушателя каких угодно небылиц, лишь бы в конце рассказов указывалось на необходимость снижения налогов или их перераспределение. Верно подмечено тем же Токвилем, что словоблудие литераторов, их дилетантские суждения о том, как надо переустроить мир, в глазах обывателя являлись истиной в последней инстанции во многом потому, что сам этот обыватель был отстранен от участия в решении государственных дел. Именно эта неопытность в политических делах и позволила мухам сделать свое дело.
Эти мухи, обитатели литературных салонов и выйдут йотом на площади, чтобы, как они выражались, «гальванизировать» народ, поднять его на убийство тиранов. Революция вначале им казалась не более сложным занятием, чем препарирование лягушек. Но вот, когда они взглянули в лицо разбуженного ими зверя, их ужасу не было предела. «Масса, — писал Кошен, — разнузданная толпа, предоставленная самой себе, инстинктам, сиюминутным внушением, не знающая ни узды, ни власти, ни закона; такая, какой она явилась в июле 1789 г. изумленным взорам „философов“, огромное чудовище, бессознательное, орущее, в течение пяти лет наводившее ужас на Францию и оставившее в душе тех, кто это видел неискоренимый страх, — кошмар, который витал над двумя третями XIX в. и у трех поколений заменял исчезнувшую лояльность» | Кошен, 2004, с. 121].
Не случайно в начале самой революции слово «народ» (le peuple) не употреблялось. В лексиконе «писателей» это слово было синонимом «быдла». Вместо слова «народ» полагалось употреблять «нация» (la nation). Не потому, что это слово звучало изящнее, а потому, что нация означала ту часть народа, которая способна отвечать за свои поступки, т. е. обладает хоть какой-то собственностью. Но эта терминологическая утонченность помогала мало. Кстати, о лексиконе революции. В нем как нельзя лучше отразилась эпоха. И дело здесь даже не в том, что как писал Токвиль, политический язык «наполнился общими выражениями, отвлеченной терминологией, смелыми изречениями, литературными оборотами» [Токвиль, 1918, с. 122]; язык стал походить на язык «философов», что является истинным доказательством силы их влияния на умы.
Старая реальность почему-то требовала новых выражений. Если раньше выражением изящного стиля считалось, например: «j'esteme le melon», то революционер бы сказал прямо «j'aime le melon» — «я люблю дыню». Если раньше солнце называли: «1е flamebeau du jur», то для истинного республиканца это просто «1е soleil». Вместо привычного «monsieur» все стали говорить «citoyen». Особенно многим нововведениям в языке дали жизнь новые способы умерщвления врагов народа: «hors de la loi» (поставить вне закона), «mitraillade» (расстрелять[1]), старое «noyade» (утопление) стало «boir a la grand fasse» (дословно «пить большой чашей», намек на массовые утопления людей в баржах). Модное поветрие затронуло даже знаменитого парижского палача Сансона. Он настаивал, чтобы вместо старорежимного «bourreau» его называли «executeur», а то и просто «fournisseur». Теперь «наэлектризовать» или «гальванизировать» означало «не провести опыт с Лейденской банкой», а «воодушевить народ к новым победам». Одни названия газет революционной поры чего стоят: La bouche de fer («Железный рот»), Bon Dieu! Qu’els sont done betres, ces Frangais («Боже мой! Что за звери эти французы»), Lettres bougrement patriotiques du pere Duchene («Чертовски патриотичные письма папаши Дюшена»). О стиле журналистики той эпохи можно судить хотя бы по сообщению о казни королевы в номере «папаши Дюшена»: «Величайшая радость из радостей папаши Дюшена после того, как он увидел собственными глазами голову самки вето, отделенную от ее, суки, шеи потаскухи». Старые понятия требовали новых слов — это ли не доказательство произошедшей революции!
Но дело здесь не ограничивается исключительно неологизмами. Неологизм неологизму — рознь. Великая Французская революция подарила миру ряд таких неологизмов, от которых стынет в жилах кровь. Например, такой неологизм, как «враг народа» (ennemis de peuple). Причем она дала еще и подробнейшую квалификацию этого нового понятия, единственной санкцией за право так называться было радикальное средство от головной боли, как тогда шутили, — гильотина (guillotine)[2]. Другой изящный неологизм — «вздернуть на фонаре» (au reverbere). На этом стоит остановиться подробнее.
Дело в том, что революционный Париж продолжал оставаться типично средневековым городом с узкими улочками, для освещения которых использовался специальный механизм. Между соседними через улицу стенами перебрасывалась балка, на которой висел блок с фонарем. Фонарь висел на веревке, один конец которой крепился на высоте человеческого роста у одной из стен. Фонарщик отпускал закрепленную у стены веревку в случае необходимости, фонарь спускался, затем его зажигали, дергали за веревку и фонарь поднимался. Оказалось, что если на фонарь привязать петлю, то получается быстрый механизм по повешению аристократов и прочих врагов народа. Рассказывают, что этот механизм стал причиной появления одной из знаменитых острот революции. Как-то толпа в Париже схватила одного аббата и с криками «на фонарь» поволокла беднягу к только что описанному нами ближайшему приспособлению. Спасло его только то, что после очередного вопля «на фонарь», он воскликнул: «Хорошо, на фонарь меня, но разве от этого станет светлее?» Эта острота спасла аббату жизнь.
Собирательным образом всего порочного, отжившего, являющегося олицетворением прежнего мира, стал такой неологизм, как «ancien regime» («старый режим» или «порядок»), О нем мы поговорим подробнее, поскольку необходимо знать, от чего Революция отталкивалась.
- [1] Особым шиком считался расстрел скованных цепью людей из пушек. Уцелевшие от ядер добивались потом штыками и прикладами.
- [2] На самом деле гильотина не была французским изобретением. Сохранились сведения о ее существовании в Древнем мире, в частностиу персов. Очень похожую машину убийства использовали в Средние векав Шотландии, Богемии, Голландии и Италии. Версия о том, что она такназвана по имени врача Гильотена, озабоченного изобретением быстрогои безболезненного способа казни, не подтверждается. На ее применениипри казнях настаивал другой врач — Луизон, отчего машину часто называли «луизитиной». Скорее мы имеем дело с журналистской ошибкой, кто-то из писак эпохи революции дал неверные сведения в газеты, откуда они просочились в европейскую печать. Гильотинирование как видсмертной казни было установлено законом Законодательного собранияот 20 марта 1792 г., естественно, в целях человеколюбия.