Парадигмы позитивизма, критического реализма и конструктивизма и их связь с исследовательскими методами
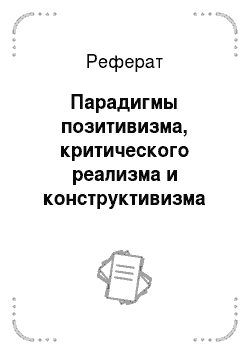
Как уже было сказано, обсуждение методов (в особенности методов в традиции качественных исследований) нередко ведется с ссылкой на парадигмы позитивизма, критического реализма и конструктивизма. Любопытно, что позитивизм — та эпистемологическая позиция, которая до сих пор подвергается явной критике со стороны приверженцев качественных методов в психологии и социальных науках, хотя в философии… Читать ещё >
Парадигмы позитивизма, критического реализма и конструктивизма и их связь с исследовательскими методами (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Как уже было сказано, обсуждение методов (в особенности методов в традиции качественных исследований) нередко ведется с ссылкой на парадигмы позитивизма, критического реализма и конструктивизма. Любопытно, что позитивизм — та эпистемологическая позиция, которая до сих пор подвергается явной критике со стороны приверженцев качественных методов в психологии и социальных науках, хотя в философии науки она уже давно утратила всяческое влияние и в настоящее время в чистом виде никем не поддерживается. Как направление в философии науки позитивизм зародился в XIX в., в оформлении его идей видную роль сыграли О. Конт, Дж. С. Милль, Г. Спенсер, Р. Авенариус, Э. Мах, представители Венского кружка — М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат и другие. Для своего времени это было весьма прогрессивное философское течение, ставившее своей целью проведение четкого разделения между научным («позитивным») знанием и любыми спекуляциями, в том числе философскими. Согласно позитивистам, научное знание — эмпирическое, полученное в опыте, основанное на том, что непосредственно дано. Представители Венского кружка сформулировали концепцию базисных утверждений науки, выражающих непосредственно данное в опыте; эти базисные утверждения получили название протокольных предложений, возможность сведения к которым гарантирует верифицируемостъ того или иного утверждения. Согласно позитивистам, научны лишь те суждения, которые либо могут быть прямо сведены к протокольным предложениям (верифицированы опытом), либо выводятся из них путем логических операций. Сегодня такая концепция научного знания считается преодоленной. То, что критикуют сторонники качественных методов, относится не к философскому направлению позитивизма, а к более общей доктрине, к некоторым установкам парадигмального характера, по сей день определяющим тип научной практики. Позитивизм как исследовательская парадигма базируется на представлении, что существует непосредственная связь между миром (объектами, событиями, феноменами) и его восприятием и (или) пониманием (Willig, 2001). Соответственно, в акте познания, при помощи научного метода, можно постичь то, что есть, в том виде, как оно есть. В позитивизме господствует корреспондентная1 теория истины, согласно которой[1]
объекты мира непосредственно влияют на то, как их самих воспринимают, и следовательно, существует прямое соответствие между ними и их репрезентациями. Важнейшей частью позитивистской парадигмы остается эмпиризм — не в его радикальных вариантах, согласно которым все теоретическое знание выводится из эмпирического опыта, но в более умеренных, предполагающих, что теоретические положения должны быть укоренены в данных, обоснованы ими. Позитивизм критикуют прежде всего за наивный реализм: в частности, критики подчеркивают, что наши восприятие и понимание мира весьма избирательны, мы смотрим па мир из определенной точки зрения и в контексте собственных практических действий, научное познание невозможно очистить от факта включенности в него точки зрения и действий исследователя, а потому получение абсолютно объективной картины мира невозможно.
В психологии исследования, выполненные в парадигме позитивизма, достаточно распространены. В ряде исследований главная задача, которую решают психологи, — поиск связей между отдельными переменными, измеряемыми при помощи стандартизованных методик; на основании комплекса эмпирических данных исследователи пытаются делать обобщения теоретического уровня. При этом пользуются конструктами, введенными в эмпирическое поле, а не выведенными из него, однако методологические следствия подобного дедуктивного конструирования данных, как правило, не рефлексируются: данные мыслятся в качестве «жестких» фактов, над которыми надстраиваются теоретические интерпретации. Хотя именно сторонники качественных методов критикуют за позитивистские ориентации «количественников», качественные исследования тоже нередко строятся на основе позитивистской парадигмы. Примером могут служить исследования, выполненные, но классическому методу обоснованной теории Б. Глезера и А. Страусса, а также исследования по методу анализа разговора и близких ему вариантов дискурс-анализа: во всех этих случаях данные также представляются в качестве «жестких» фактов; предполагается, что смыслы, вычитываемые исследователем, уже есть в самих сырых данных, исследователь лишь обобщает их и интерпретирует. Вообще влияние позитивистской парадигмы на исследовательскую традицию, по-видимому, значительно глубже, чем это отслеживается самими психологами. Позитивистские импликации можно наблюдать даже в тех исследовательских и методологических работах, авторы которых эксплицитно связывают себя с альтернативными позитивизму эпистемологическими позициями. Например, вполне позитивистскими можно считать попытки сторонников качественных методов провести строгое разграничение между данными, их аналитическим описанием и интерпретацией (Мельникова, Хорошилов, 2010): подобные попытки исходят из имплицитного допущения возможности «чистого», фактического представления данных самих по себе, в отношении которых исследователь и осуществляет интерпретации, но уже на следующем, более высоком уровне анализа. Заметим, что позитивистские импликации прослеживаются и в принятом типе представления результатов исследования: традиционно в психологической работе вначале должен быть представлен пункт, в котором отражены основные результаты исследования, и лишь затем их интерпретация; исследование, как правило, предваряется внушительным обзором литературы, но интересующей исследователя проблематике, определением основных понятий, их операционализацией и т. п.
Другая парадигмальная позиция — позиция критического реализма — в философии науки наиболее последовательно выражена К. Поппером и И. Лакатосом. Именно идеи этих философов активно используются психологами для обоснования экспериментального метода (Корнилова, 2005; Корнилова, Смирнов, 2009). К. Поппер провел радикальную критику индуктивистской логики позитивизма и сформулировал в качестве альтернативы принципы гипотетико-дедуктивного метода (эти принципы и легли в основу экспериментальной психологии). Согласно К. Попперу, никакое число наблюдений не способно привести исследователей к убедительному теоретическому обобщению. Хрестоматийный пример: если миллион встреченных нами лебедей оказался белым, это не дает нам строгого основания утверждать, что «лебединость» обязательно связана с «белостью», поскольку мы не знаем, не окажется ли следующий, миллион первый лебедь — черным. Это проблема индукции. Кроме того, ни одна теория, строго говоря, не может быть верифицирована опытными наблюдениями, поскольку одни и те же наблюдения могут работать на различные теории. Это проблема верификации. Взамен индукции и верификации Поппер предложил дедукцию и фальсификацию, которые и реализуются в гипотетикодедуктивном методе, исследователь предлагает теоретические гипотезы и подвергает их опытной проверке — испытывает на прочность. Научным может считаться не то утверждение, которое подтверждено (верифицировано) опытом или выведено из опыта (позитивистский принцип верифицируемости научных утверждений), а то, для которого предложены условия его опровержения, или фальсификации (постпозитивистский принцип фальсифицируемости научных утверждений). Процесс научного познания, по Попперу, представляет собой путь отбраковывания ложных гипотез в результате экспериментальных проверок.
Исследовательская парадигма критического реализма, как следует из самого названия, базируется на реалистической онтологии, что роднит ее с позитивизмом: предполагается, что исследователь познает мир таким, каков он есть на самом деле. Однако в отличие от позиции позитивизма критический реализм не предполагает возможности зеркального соответствия между миром и его репрезентациями в процессе познания, реалистическая установка критического реализма, если можно так выразиться, более утонченная: в процессе познания мы создаем лишь версии реальности и затем подвергаем их испытаниям; если наши гипотезы выдержали испытания, это вовсе не означает, что мы достигли истины — реальности, как она есть, но лишь то, что мы на некоторое время можем принять нашу версию реальности, до тех пор, пока она не будет, наконец, опровергнута или пока не появится новая версия, обладающая большим объяснительным и предсказательным потенциалом.
Большинство экспериментальных исследований в психологии выполняется в рамках парадигмы критического реализма. Исследователи строят теоретические модели (теоретические гипотезы), выводят эмпирические следствия из этих моделей (эмпирические гипотезы) и проверяют последние, создавая экспериментальные ситуации. Огромное значение в критическом реализме придается теориям: именно на теоретическую работу направлен максимум усилий исследователя, эксперименты — это лишь то, что позволяет тестировать предположения, полученные дедуктивным, теоретическим путем. Подчеркнем, что, согласно ряду психологов (в частности, на это неоднократно обращала внимание Т. В. Корнилова), эмпирия в психологии носит реконструкционный характер, т. е. психолог имеет дело с эмпирическими фактами, которые невозможно непосредственно наблюдать; психологические факты — это не сами по себе данные поведения, вербальных реакций, ответы на пункты опросника и т. п., а то, что относится к предполагаемому психологическому процессу, который еще необходимо реконструировать, что, в свою очередь, возможно сделать лишь в контексте тех или иных теоретических предпосылок. Положение о реконструкционном характере психологической эмпирии позволяет придерживающимся его авторам делать вывод, что парадигма позитивизма вообще не близка психологии (по сути, собственно позитивистской можно назвать лишь бихевиоральную психологию) и что основная ветвь исследовательской практики с самого начала была направлена на развитие гипотетико-дедуктивного метода и ориентировалась на парадигму критического реализма.
Как и в случае парадигмы позитивизма, нельзя сказать, что критический реализм жестко привязан к каким-то конкретным методам сбора и анализа данных: проверка гипотез может осуществляться как с использованием качественных данных, так и при помощи сбора данных, выраженных в количественных шкалах. Правда, приоритет все-таки отдается количественным методам, поскольку в этом случае можно получить более точные результаты, позволяющие сделать валидный вывод об опровержении или принятии экспериментальной гипотезы.
Современный стандарт проведения психологических исследований предполагает, что любое исследование включает этапы выдвижения гипотез и их последующей проверки. Однако в реальности далеко не все проводимые исследования имеют своей целью проверку гипотез: существует тип поисковых исследований, направленных нс на проверку гипотез, а на эмпирические обобщения и на этой основе формулирование гипотез. Б. Глезер и А. Страусс предложили методологию генерирования гипотез на основании эмпирических данных: метод обоснованной теории, в котором реализуется индуктивно-абдуктивная восходящая (от эмпирии к теории) стратегия исследования, взамен обосновываемой в рамках критического реализма дедуктивной нисходящей (от теории к эмпирии) стратегии. Большинство психологических исследований включает как дедуктивный, так и индуктивно-абдуктивный компонент; исследователь как тестирует гипотезы, выдвинутые теоретическим путем, так и делает индуктивные обобщения в процессе самого исследования, трансформируя первоначальные гипотезы и выдвигая новые, уже на основе собранных эмпирических данных. Можно сказать, что в критическом реализме описывается лишь одна сторона научного исследования — та, которая имеет отношение к проверке гипотез, но при этом упускается из виду другая сторона — процесс самого генерирования гипотез, и если физика — наука, про которую нередко говорят, что в ней все открытия были сделаны «на кончике пера», т. е. дедуктивным способом, то в психологии выведение гипотез из эмпирических наблюдений играет очень важную роль.
Еще один известный пункт критики позиции критического реализма и связанного с нею гипотетико-дедуктивного метода касается того, что в реальности теории, не получившие подтверждения, автоматически не опровергаются. Как правило, ядро теории сохраняется за счет включения в нее дополнительных объяснительных звеньев, конкретизации условий, выдвижения гипотез ad hoc (гипотез к данному случаю) и т. п. Вообще отношения между теорией и ее экспериментальными проверками в реальной истории науки гораздо более сложные, чем предполагается критическим реализмом. Иногда позицию К. Поппера даже называют мифом (Willig, 2001), поскольку фиксируемые в ней регулятивы научного метода не соответствуют реальному историческому процессу движения научного знания. В психологии, может быть, даже сложнее, чем в естественнонаучных дисциплинах, представить себе ситуацию опровержения научной теории на основании отдельных экспериментов. Т. В. Корнилова (2005) очень точно показывает, что реконструкция психологического процесса в эксперименте в значительной мере зависит от предполагаемой исследователем теоретической позиции и сами по себе непосредственно наблюдаемые явления могут быть множественно прочитаны в зависимости от привлекаемого исследователем «интерпретативного каркаса». Но в таком случае психологическому эксперименту невозможно в строгом смысле придать статус инструмента, позволяющего делать четкий выбор между различными теориями и отвергать одни в пользу других.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что в критическом реализме артикулировано действительно очень важное положение, которое можно отнести к ядру научного метода — положение о необходимости постоянного критического отношения к собственным утверждениям: любые утверждения исследователя не более чем гипотезы, нуждающиеся во множестве проверок. В области качественных интерпретативных исследований принципы критического реализма оформились в следующее правило: невозможно представить критерии истинности интерпретации, но, по крайней мере, возможно обозначить условия ее ложности: неспособность интерпретатора двигаться за эмпирическим материалом в его целостности и отсутствие «программируемости» интерпретации текстом (Бусыгина, 2009а).
Последняя из названных позиций — парадигма конструктивизма оформилась во второй половине XX в., хотя ее источники современные авторы находят еще в философии Нового времени. Нельзя сказать, что парадигма конструктивизма представляет собой единую позицию — скорее, это совокупность множества позиций, объединяемых на основании их критического отношения к классической реалистической онтологии. Очень важной идеей для конструктивизма является тезис о значимости социальных факторов в формировании (конструировании) представлений о реальности. Видными представителями этого направления в философии науки являются С. Вулгар, Д. Блур, Б. Латур, К. Кнорр-Цетина. Огромное значение для становления конструктивистской парадигмы имела изданная в 1966 г. книга П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности» (рус. пер.: Бергер, Лукман, 1995).
Множество теорий, образующих идейное пространство парадигмы конструктивизма, нередко делят на три основных направления или ветви: 1) конструктивизм в узком смысле слова; 2) радикальный конструктивизм; 3) социальный конструкционизм (Улановский, 20 096). Конструктивизм в узком смысле в психологии представлен в работах Ж. Пиаже и Дж. Келли. Его центральная идея — подчеркивание неотражательной, конструктивной природы знания: познание включает в себя активный процесс построения образа предметов, событий в сознании субъекта, при этом значительная роль принадлежит сенсомоторным и концептуальным структурам, сложившимся у человека в процессе онтогенеза (Ж. Пиаже), или конструктам — оценочным шаблонам, создаваемым человеком и позволяющим упорядочивать мир (Дж. Келли). В радикальном конструктивизме также подчеркивается идея конструктивной природы восприятия и познания, но, в отличие от конструктивизма в узком смысле, акцент смещается с анализа влияния культуры и субъектных действий отдельного человека на исследование биологических систем, мозга. С точки зрения радикальных конструктивистов, познание определяется структурной и функциональной организацией нервной системы организма. Среди представителей радикального конструктивизма Э. фон Глазерсфельд, У. Матурана, Ф. Варела (два последних являются авторами известной теории автопоэтическш структур).
Социальный конструкционизм — наиболее обсуждаемое в психологии направление: когда речь идет о конструктивистской парадигме, в основном имеется в виду именно позиция социального конструкционизма[2]. Для него характерно акцентирование роли социальных отношений и дискурса в конструировании образа мира и идентичности людей. Социальные конструкционисты подчеркивают, что конструирование не может быть сведено к акту индивидуального сознания, как это видится представителям конструктивизма в узком смысле и радикального конструктивизма; мы познаем мир совместно, в языке и социальных практиках. Человеческий опыт, включая восприятие и познание, опосредован историческими, культурными и языковыми процессами. Иными словами, то, что мы воспринимаем, понимаем и переживаем, — не отражение условий окружающего мира, но наш способ прочитывать эти условия, причем в соответствии с теми особенностями чтения, которые задает культура. Как подчеркивает виднейший представитель социального конструкционизма К. Герген (Джерджен), исследования должны быть нацелены на то, чтобы понять, как именно создается наша версия «объективной реальности»; при помощи каких риторических приемов рождается то, что мы полагаем в качестве истины; какова ценностная и идеологическая нагруженность наших представлений о мире и самих себе; каким социальным процессам они служат и какие можно предложить альтернативы (на рус. яз. см.: Джерджен, 2003). Например, в психологии социально-конструкционистские исследования нацелены на критический анализ того, как в процессе взаимодействия людей создается то, что относится к «психологическому миру»: эмоции, мотивы, личностная и социальная идентичность, психопатология и др. Сторонники социального конструкционизма (К. Герген, В. Барр, Р. Харре, Дж. Поттер, М. Уезерелл, Дж. Шоттер, М. Биллиг, Я. Паркер и другие) показывают, что язык психологии — это путь конструирования психологического мира, а не отражение того, что якобы существует — некой додискурсивной «психической реальности».
Итак, исследовательская парадигма конструктивизма основана на критическом отношении к реалистической онтологии и тезисе о социальном конструировании реальности; научный метод в рамках этой парадигмы осмысляется как процесс интерпретативного конструирования знания исследователем в контексте диалогического взаимодействия его с участниками исследования, а также в контексте более широких социальных практик, в которые исследователь неизбежно включен. Знание в парадигме конструктивизма всегда носит локальный характер: это знание, полученное в определенных условиях, знание в перспективе, задаваемой углом зрения и позицией исследователя. Процесс познания должен обязательно включать не только анализ самого объекта, но и рефлексию условий и перспективы, в которых этот «объект реальности» был сформирован (сконструирован) в качестве «объекта исследования».
Парадигма конструктивизма практически несовместима с методами измерения психологических переменных. Существует немало работ, в которых ее сторонники проблемагизируют само понятие психологической переменной. Они подвергают критике его валидность и предлагают анализ тех способов, при помощи которых «психологическая переменная» конструируется в качестве реальности. Согласно социальным конструкционистам, действие измерения само по себе есть способ производить реальность того, что измеряется, и делается это, как правило, ввиду определенных социальных и политических нужд.
В методологической литературе, посвященной качественным исследованиям, качественные методы часто связывают с конструктивистской эпистемологической позицией. Нельзя сказать, что конструктивизм — единственное парадигмальное основание качественных методов: уже отмечалось, что на первоначальном, традиционном этапе их применение базировалось на позиции онтологического реализма, да и сегодня качественные методы нередко применяются в тех исследованиях, авторы которых ориентируются на позитивизм и критический реализм. Вместе с тем можно наблюдать все больший поворот к конструктивистской позиции у сторонников многих современных качественных подходов. Примерами могут служить развитие интерпретативного метода в феноменологии, появление и развитие вариантов критического дискурс-анализа, а также конструктивистских версий метода обоснованной теории. И все же конструктивизм, несмотря на его широкое обсуждение и моду на него в эпистемологических кругах, не стал той парадигмой, на которую ориентируется большинство эмпирических исследований в психологии, причем это касается даже исследований, проводимых в рамках качественных подходов. И связано это как с обстоятельствами общеметодологического характера, так и с особенностями познавательных ситуаций, традиционно реализуемых в психологии.
Как исследовательская парадигма конструктивизм несет в себе ряд неразрешенных проблем. В частности, последовательно проводимый перспективизм оборачивается проблемой радикального релятивизма — невозможностью сопоставления различных перспектив и трудностями выработки критериев оценки качества исследования. Необходимость рефлексии перспективы, в которой исследователь видит исследуемый объект, в ситуации реального исследования нередко принимает формы чрезвычайного интереса исследователя к исследовательскому процессу и самому себе в этом процессе, так что исследование объекта уходит на второй план. Очень сложно обобщать и сравнивать друг с другом подобные индивидуализированные повествования. Как ответ на радикальный релятивизм, предполагаемый конструктивистской парадигмой, в последнее время в философии науки были предложены позиции, позволяющие примирить конструктивизм и реализм. Например, на основе модели, выраженной в экосистеме: согласно этой модели свойства каждого элемента определяются природой, в которой он находится во взаимосвязи с другими элементами независимо от исследующего; однако человек, вступая в ситуацию, становится одной из ее составляющих и может различными путями влиять на распределение прочих составляющих (Райдер, 2005). Подобные эпистемологические модели намечают пути решения общеметодологических проблем конструктивистской парадигмы, но как применять эти модели в реальной исследовательской практике, как должно выглядеть исследование, базирующееся на их постулатах, — ответы на эти и подобные вопросы из предлагающихся моделей непосредственно не вытекают. Проанализировать следствия моделей для практики исследования — отдельная методологическая задача.
В психологии сильны эпистемологические позиции позитивизма и критического реализма. Антиреалистические установки конструктивизма идут вразрез с устоявшимися традициями. Тезис об активности субъекта восприятия и познания принят большинством психологов, однако следствия этого тезиса для понимания ситуации научного познания в психологии, как правило, не продумываются: исследование строится так, как будто исследователь имеет непосредственный доступ к той психической реальности, которая существует независимо от ситуации познания. Психологи пытаются открывать закономерности психического мира, механизмы психических процессов, особенности связей между психологическими переменными. Исследования, выполненные в конструктивистской парадигме (как правило, с использованием качественных методов) и изучающие способы дискурсивного конструирования тех или иных версий реальности и их социальных следствий, в контексте традиционных психологических исследований выглядят «не совсем психологией». Однако границы того, что считать дисциплинарной областью, тоже задаются парадигмами, и конструктивизм обрисовывает эти границы не там, где их традиционно привыкли мыслить. Психология в парадигме конструктивизма — это психология, специфическим образом конструирующая свою предметную сферу и устанавливающая специфические правила се исследования. Одно из наиболее точных описаний конструктивистского исследования дает С. Квале (2003). Он предлагает два контрастных образа исследователя, которые можно рассматривать как воплощение различных парадигм: как шахтера и как путешественника. Метафора шахтера представляет знания как полезные ископаемые, а исследователя — как шахтера, который добывает ценный материал. Исследователь «выискивает самородки данных или смыслов в чистом опыте собеседника, не замутненном никакими наводящими вопросами». Он либо «расчищает поверхность сознательного опыта», либо «раскапывает глубинные слои бессознательного». «Драгоценные факты и смыслы очищаются при переводе из устной формы в письменную. В процессе анализа объективные факты и сущностные смыслы извлекаются с помощью различных техник и отливаются в определенные формы. Наконец, ценность конечного продукта, степень его чистоты определяются установлением его связи с объективным, внешним, реальным миром или с реальностью субъективного, внутреннего, аутентичного опыта» (там же, с. 13). Альтернативная метафора путешественника рисует исследователя, который путешествует по стране, встречается с собеседниками, слушает их истории, а затем пытается их качественно реконструировать в форме собственных рассказов, адресуемых другим исследователям или более широкому кругу людей. Рассказы собеседников превращаются в новые повествования, значимые благодаря своей аргументации и убедительные благодаря своей эстетической форме. В рамках метафоры путешественника познание — это разговор, в котором факты возникают в межличностном взаимодействии, соавторстве и совместном творчестве исследователя и исследуемого. Каждая из двух предложенных метафор — исследователь как шахтер и исследователь как путешественник — принадлежит особому жанру и предполагает свои правила игры. Образ шахтера отражает общепринятое в современных социальных науках понимание знания как «данности». Образ путешественника относится к конструктивистскому пониманию. В метафоре шахтера исследование «располагается где-то в области социальной инженерии, управления людьми; в метафоре путешественника — поблизости от гуманитарных наук и искусств» (там же, с. 14—15).
Подводя итоги рассмотрению парадигмальных оснований методов, в целом можно сказать, что связь между конкретными методами как способами фиксации и анализа данных и парадигмально-эпистемологическими позициями носит не логический, а риторический характер. Одни и те же методы могут быть использованы в рамках различных парадигм, а в исследовании, базирующемся на определенном парадигмальном основании, могут применяться различные методы (безусловно, в контексте различных парадигм одни и те же методы получают различную окраску). В современной методологической литературе, посвященной обсуждению методов в их связи с предполагаемой ими эпистемологической позицией, наблюдается тенденция к интеллектуальной интеграции методов в единую систему. Вместе с тем следует отметить достаточно серьезный накал дискуссий, касающихся самого парадигмального самоопределения психологии: на какие именно постулаты онтологического и эпистемологического характера должна опираться современная психология? Ответ на этот вопрос определяет не столько то, какие методы — качественные или количественные — будут применяться в исследованиях, а какие нет, сколько то, как именно они будут использоваться и для каких целей.