1937 годы.
История русской литературы XX века
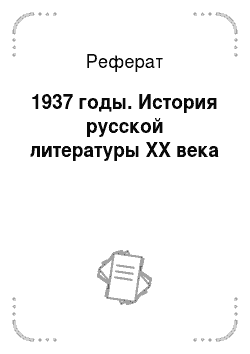
Так, в «Стихах о неизвестном солдате» обнаруживаются шекспировские, байроновские, лермонтовские и многие другие литературные аллюзии. Память человечества — это и есть живое воплощение соборности, причем соборное сознание, по Мандельштаму, — сознание массовое и одновременно пророческое. В него включено сознание «миллионов убитых задешево», за которых поэт говорит («Я губами несусь в пустоте… Читать ещё >
1937 годы. История русской литературы XX века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Стихи, написанные Мандельштамом в 1930;е гг., в последующих (посмертных) изданиях поэта объединены в раздел " Новые стихи" , с делением на хронологические циклы: " Московские стихи" (1930−1934) и " Воронежские тетради" (1935−1937). Большинство из стихотворений 1930;х гг. увидело свет через много лет после гибели автора.
Изменения в социальной и духовной жизни начала 1930;х гг. Мандельштам трактует в субстанциональном плане — как глобальное искажение самого лика природы (см. в «Ламарке»: " Природа вся в разломах"). В «Московских стихах» поэт художественно обобщает жуткую, бредовую атмосферу времени, прибегая к кафкианской манере письма. Он показывает будничность проявлений политического насилия, сюрреалистически растворенного в повседневных реалиях. Демонические инверсии в стихах 1930;х гг. достигают своего апогея и воплощаются в зловещей подмене физических субстанций, извращении духовных и чувственных проявлений:
И вместо ключа Ииокрены Домашнего страха струя Ворвется в халтурные стены Московского злого жилья.
(«Квартира тиха, как бумага…»).
Процесс демонических подмен захватывает все сферы бытия. Особенно явно он проступает в замене человеческой природы на «звериную» («И по звериному воет людьё / И по людски куролесит зверьё…»), что, по Мандельштаму, неизбежно в эпоху тирании:
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет…
(«Мы живем, под собою не чуя страны», 1933).
Поэт моделирует взаимоотношения тоталитарного государства и личности, которая ощущает себя не только жертвой, но и совиновником эпохальных деяний («Нет, не спрятаться нам от великой муры…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Неправда»), Архитектурные, домостроительные мотивы, заданные еще в «Камне», в «Московских стихах» меняют свой ценностный вектор. Сама идея домостроительства оборачивается фикцией («А стены проклятые тонки»). Храм оказывается срубом («Сохрани мою речь…»), а дом не только не защищает, но и способствует проникновению тоталитаризма в домашний быт. Отсюда — проклятие квартире («Квартира тиха, как бумага…», 1933).
В том же ключе воплощается и «петербургская», а точнее — «ленинградская» тема. Так, в стихотворении " Ленинград" (1930) город становится мертвым пространством, ассоциирующимся с могилой: «Петербург! У меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса». Эта связь подчеркивается еще и тем, что местом обитания лирического субъекта оказывается «черная лестница» (в связи с «траурной» символикой стихотворения эпитет «черный» обретает дополнительные смыслы), топос, который в силу своей пограничности в рамках мифопоэтического дискурса оказывается связан с демоническим «антипространством». «Мертвенная» семантика города выражена также в риторических обращениях: лирический субъект стихотворения взывает к Петербургу («Петербург! Я еще нс хочу умирать!»), городу, ушедшему в прошлое. Вследствие этого пространство в стихотворении претерпевает семантическое раздвоение, которое подчеркивается двойным наименованием города «Ленинград-Петербург», а лирическое «Я» оказывается связующим звеном, соединяющим две смысловые ипостаси города.
Современное бытие герой «Московских стихов» воспринимает как «чумный пир». Не случайно в стихотворении " Я скажу тебе с последней прямотой…" (1931) поэт развивает тему вакхического пирования, как бы заимствованную из пушкинской «маленькой трагедии»: «Ангел Мэри, пей коктейли, / Дуй вино!» Основываясь на ситуации пушкинского «Пира во время чумы», автор моделирует пограничную — в экзистенциалистском смысле — ситуацию и предлагает парадоксальное ее разрешение. Ужасу насильственной смерти, смирению перед ней он противопоставляет дионисийски раскрепощенное, «карнавальное» поведение. Тема утраты близких, характерная для пушкинского «Пира…», переводится Мандельштамом в культурологический план. В стихотворении «Я скажу тебе с последней прямотой…» послереволюционная смерть культуры переживается лирическим героем как личная драма:
Там, где эллину сияла Красота, Мне из черных дыр зияла Срамота.
Греки сбондили Елену По волнам.
Ну, а мне — соленой пеной По губам.
Ситуация «чумного пира» «разыгрывается» и в стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков…» .
(1931), где скрещиваются мотивы пира и утраты, что выливается в итоге в идею утраты самого пира:
За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей -.
Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей.
Мотив лишения, потери не исчерпывает отношение поэта к наступившей эпохе. Между героем и веком развертывается неравная борьба: «Мне на плечи кидается векволкодав, / Но не волк я по крови своей…» «Век-волкодав», по сути, имеет тот же мифологически-знаковый ореол, что и чума у Пушкина: те же неразрешимые, гибельные обстоятельства, которые, однако, имеют слишком явные тоталитарно-сталинские аллюзии («Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязны, / Ни кровавых костей в колесе»). В финале стихотворения появляется мотив смерти в поединке равных («И меня только равный убьет»), который может быть адекватно понят только на фоне пушкинского «Пира…», а именно вальсингамовского упоения боем с равным соперником — роком, судьбой, чумой.
Искажению социальных (а по логике Мандельштама, и природных) форм жизни противостоит поэт, осмысляющий свою роль как миссию «восстановления» правильного порядка мира. Именно поэтому тема поэтического творчества принимает облик гамлетовской задачи выправления «вывихнутого» века. В «Московских стихах» поэтическая речь, как и речь вообще, — сила, противостоящая энтропийным тенденциям социума, что воплотилось, в частности, в гневно-публицистическом накале стихов, направленных против режима («Мы живем, под собою не чуя страны…», «Старый Крым», «Квартира…»).
Исходя из представлений о логосной природе слова, Мандельштам приписывает звучащей речи онтологическую функцию, поэтому онемение мира, глухота символизируют последнюю стадию регресса — как социального («Наши речи за десять шагов не слышны» в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…»), так и онтологического («Наступает глухота паучья» — в «Ламарке»). Отсюда и объединение в один метафорический ряд неба и нёба, воды и речи.
В природном бытии, понимаемом им как вселенский универсум, Мандельштам находит гармонию, которую противопоставляет разломам социума. Так, в цикле " Восьмистишия" природа предстает как зеркало мироздания, каждый элемент которого отражает единство мира и одновременно ассоциируется с духовно-творческими процессами. И если в природе преодолевается ее «затверженность», то она может быть преодолена и во вселенском бытии, как физическом, так и духовном.
Мандельштам приходит к мысли о соборности поэтического творчества в апокалипсические времена. Он говорит от имени всех: «Мы живем… Наши речи…» В «Отрывках из уничтоженных стихов» поэт прямо заявляет:
Я говорю за всех с такою силой, Чтоб небо стало нёбом, чтобы губы Потрескались, как розовая глина.
13 мая 1934 г. Мандельштама арестовали за инвективу, направленную против Сталина: «Мы живем под собою не чуя страны…» (1933). Следователь на допросе назвал эти стихи «беспрецедентным контрреволюционным документом». Приговор — три года ссылки (сначала в Чердыпь, затем в Воронеж). О публикации стихов и переводов уже не могло быть и речи, в печати не упоминалось даже имя Мандельштама. Поэта угнетали не столько бедственное материальное положение и статус ссыльного, сколько та духовная изоляция, в которой он оказался в Воронеже. Но чем безысходнее становилось социальное положение поэта, тем явственнее в его лирике проступал «восторг вселенной», которым, по его разумению, исполнено природное бытие.
В " Воронежских тетрадях" (1935−1937) наряду со стихами, продолжающими трагедийную линию «Московских стихов» («Лишив меня морей, разбега и разлета…», 1935; «Я в львиный ров и в крепость погружен…», 1937; «Куда мне деться в этом январе?..», 1937), появляются стихотворения, в которых закрепощенность и обреченность физической плоти побеждается творческой свободой, духовным веселием. По мнению исследователя, «существует удивительная связь между личной угнетенностью поэта и неограниченной свободой его творчества»[1]. Творчество, в понимании Мандельштама, — это «выпрямительный вздох», противостоящий любому гнету. Поэт пишет «на разрыв аорты», превозмогая ограничения «времени и места» .
Гармоническое тождество небесного и земного, природного и рукотворного отражает единый закон Вселенной, которому подчиняется и культура, и природа, а в стихотворениях последних лет — и социум. Изменения в мироощущении и поэтике Мандельштама ярче всего проявляются в трансформации субстанциональных мотивов. Не случайно «Воронежские тетради» открываются стихотворением " Чернозем" (1935), которое звучит декларацией приятия мира. Чернозем оказывается эквивалентом «рождающего лона», первоосновой жизни, и одновременно первоосновой творчества, той материальной субстанцией, которая уже содержит в себе «и музыку, и слово»: «Тысячехолмие распаханной молвы // Гниющей флейтою настраживает слух, / Кларнетом утренним зазябливает ухо…». Но поскольку гармония растворена в косной материи («И всетаки земля — проруха и обух»), то извлечь ее можно только «пахотой», «зиждительной работой», для которой земля и предназначена.
Ключевую и фактически символическую роль в стихах воронежского периода играет образ неба. Из стихотворения в стихотворение небо обретает новые качества, то сливается с «небом искусства», то становится ареной демонстрации «восхитительной мощи» природы, то апокалипсическим полем боя. Так, в «Стихах о неизвестном солдате» (1937) «небо крупных оптовых смертей» оборачивается не только " воздушной могилой" , но и библейским небом Страшного Суда. К концу воронежского цикла небо становится «раздвижным и прижизненным домом», вечным «небом вечери», которое в своей всеобъемлющей целостности делается залогом бессмертия: " Цветы бессмертны, небо целокупно…" («Есть женщины сырой земле родные…»).
Одна из особенностей онтологической семантики в «Воронежских тетрадях» — перетекание одной природной субстанции в другую. Воздух слит с землей («Чернозем»), с камнем («Воздушно-каменный театр времен растущих» из стихотворения «Где связанный и пригвожденный стон?..»). Дыхание суть человеческая мера неба; внутренний ветер, соединяющий человека и небо. «Сосновой рощицы закон» оказывается законом, обусловливающим синтез природных и культурных начал.
Отсюда и концепция творчества, которую поэт разрабатывает в ином ключе, чем в «Московских стихах». Если в «Восьмистишиях» поэзия трактовалась как иррациональный способ познания мира, то сейчас поэт, отождествляя природу и творчество, делает акцент на «рукотворности» и чуда искусства, и чуда мироздания. Возвращаясь к старому мотиву «игры Бога с людьми», поэт противопоставляет игру на уровне сотворения мира и «пот и опыт» как путь к достижению этого состояния. Точно гак же сотворенный мир под «временным небом чистилища» противопоставляется некому глубинному «небохранилищу», скрывающему трансцендентные глубины, о которых можно намекнуть лишь «начерно, шопотом» .
В заключительных стихах «Воронежских тетрадей» поэт, «заблудившись в небе», обращается к тому, «кому оно близко», т. е. к Богу, а само небо для него становится «небом вечери». Стихотворение " Небо вечери в стену влюбилось…" (1937) посвящено фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи — живописному образу соборности, к пониманию которого направлено творчество позднего Мандельштама.
Христос и апостолы — прообраз идеального человечества, а идеальное творчество, но определению Мандельштама, есть «подражание Христу». Звезды — образ апостолов, оплакивающих смерть Солнца. Но их мучительная смерть неизбежна, исторические рамки смещены («Все изрублено светом рубцов»). В эпоху тоталитаризма каждый распятый, т. е. наказанный невинно, подобен Христу. История вне времени превращается в миф — таково, согласно Мандельштаму, взаимодействие искусства и жизни. Вечность не приемлет свое подобие, небесная твердь становится стенобитной твердыней. «Диалог» двух небес — библейского неба (вечного) и неба искусства (остановившего время, по и разрушаемого им), воскрешая миф, раскрывает природу времени в искусстве — как длящуюся вечность:
И под каждым ударом тарана Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны -.
Неоконченной вечности мгла…
Последние стихотворения «Воронежских тетрадей» свидетельствуют о том, что Мандельштам приблизился к христианскому пониманию не только искусства, но жизни и смерти. Отсюда стремление поэта к соборности и надежда на всеобщее воскресение, изображением которого и завершаются «Стихи о неизвестном солдате» :
Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом, Я рожден в девяносто втором.
И столетья окружают меня огнем…
С идеей соборности связана и интерпретация народных масс в духе юнговской теории «коллективного бессознательного». Народ — не «безликая» и «безымянная» масса, по хранитель генетической, родовой памяти человечества:
Не у меня, не у тебя — у них Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поют тростник и скважист, И с благодарностью улитки губ людских Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ -.
И будешь ты наследником их княжеств…
В стихах 1930;х гг. меняется образ лирического героя. С одной стороны, он — «человек эпохи москвошвея», «трамвайная вишенка страшной поры» («Куда как страшно нам с тобой…», «Мы с тобой на кухне посидим…», «Неправда», «Еще далеко мне до патриарха…» и др.). Но и в этом качестве его восприятие жизни и его жизненные ситуации становятся широким типологическим обобщением судеб миллионов людей. Отсюда хоровое многоголосие, в котором авторский голос — лишь один из многих; программное «опрощение» поэтики; жесткость и «последняя прямота» лирической интонации («Я скажу тебе с последней…», «Квартира…», «Нет, не спрятаться мне от великой муры…», «Твоим узким плечам под бичами краснеть…», «Еще не умер ты, еще ты не один…», «Это какая улица…» и др.), коррелирующая с «демократическим» и нищенски-трагическим обликом лирического героя.
С другой стороны, герой «Московских стихов» и «Воронежских тетрадей» — это лирический субъект, осознающий себя харизматическим лидером, несущим «роковое бремя» своего трагического времени, и одновременно тоскующий, но мировой культуре. Отсюда огромное количество литературных подтекстов в «Воронежских тетрадях», связанных с мировой культурой.
Так, в " Стихах о неизвестном солдате" обнаруживаются шекспировские, байроновские, лермонтовские и многие другие литературные аллюзии. Память человечества — это и есть живое воплощение соборности, причем соборное сознание, по Мандельштаму, — сознание массовое и одновременно пророческое. В него включено сознание «миллионов убитых задешево», за которых поэт говорит («Я губами несусь в пустоте»), В то же время его речь за них и о них и есть та самая весть, «летящая светопыльной обновою», весть об Апокалипсисе и Втором Пришествии. Слова " От меня будет миру светло" проецируются как на евангельский текст («Я свет миру» , Ин. 8:12), так и на апокалипсическую ситуацию: «Будут люди холодные, хилые / Убивать, холодать, голодать…» Оракул предсказывает то, что может произойти, пророк — то, чего не избежать. Свободный выбор уже не возможен.
И если, по Мандельштаму, поэтическое слово может быть хранителем прошлого, то оно может и свидетельствовать о будущем. Пророческая тема «Стихов о неизвестном солдате» естественным образом вытекает из этой мифологической идеи. Поэт моделирует обратимость времени, совмещая в пространстве одного стихотворения разные времена, но такова, по Мандельштаму, природа поэтического слова, отрицающего время.
В эссе " Разговор о Данте" (1933) Мандельштам косвенно обосновал принципы своей поздней поэтики, суть которой определяется новой функцией слова — функцией «собирания и сохранения» мира, в том числе «собирания» времени. Это, в свою очередь, актуализировало поиски механизмов восстановления культурно-исторической «памяти» слова. В статьях 1920;х гг. слово трактовалось как «свернутая история». Теперь же, в эпоху «беспамятства» 1930;х гг., художественная практика Мандельштама воочию показывает, каким образом слову удается быть хранителем культуры и истории, а значит, и времени. Используя цитатно-метонимический принцип изображения, рассчитанный на включение ассоциативного механизма памяти, Мандельштам в то же время работает и с внутренней формой слова, выстраивая в стихотворном пространстве целые смысловые парадигмы, включающие прямые, переносные и контекстуальные значения (см. § 10.2.1).
* * *
В мае 1937 г. воронежская ссылка кончилась, но поэту запрещено проживать в Москве. Мандельштамы вынуждены поселиться в Калинине. Во второй раз Осипа Мандельштама арестовали в ночь с 1 на 2 мая 1938 г. Затем Лубянка, «телячий» вагон и в декабре 1938 г. смерть в «аду» Владивостокского пересылочного лагеря. Судьба ограничила время земной жизни Мандельштама: во времена «большого террора» поэтов убивают. По его жизнь полностью растворилась в творчестве, стала Словом.
- [1] Карабчиевский Ю. Улица Мандельштама // Юность. 1991. № 1. С. 65.