Соотношение мышления и речи
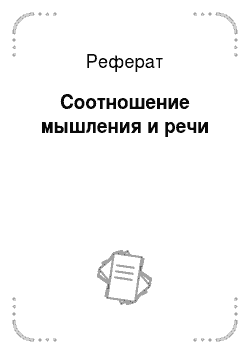
Существуют прямые доказательства участия внутренней речи в процессе мышления. Например, известный исследователь внутренней речи А. Н. Соколов показал, что в мышлении внутренняя речь представляет собой активный артикуляционный, неосознаваемый процесс. Беспрепятственное течение внутренней речи необходимо для полноценного мышления. В результате опытов Соколова с взрослыми людьми, где в процессе… Читать ещё >
Соотношение мышления и речи (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Мысль и слово, мышление и речь в психологии традиционно выделяются и рассматриваются как отдельные психические функции. В других науках, таких, например, как логика и языкознание, они также разделены и представлены в соответствующих исследованиях как разные явления. Даже в том случае, когда в соответствующих науках изучается феномен, в котором мышление и речь неразрывно слиты друг с другом — слово как понятие, — исследования мышления и речи ведутся раздельно. Имея в виду словесно-логическое мышление, логики изучают только мышление, его операции и формы, а лингвисты в том же самом явлении акцентируют внимание на языке и речи как средствах обмена информацией.
Тот факт, что мышление и речь как предметы исследования разделены между разными науками, говорит в пользу того, что они представляют собой различные явления даже в том случае, если на высших уровнях своего развития они существуют в неразрывном единстве. Поставим и обсудим далее следующие вопросы.
- 1. Что объединяет друг с другом мышление и речь?
- 2. Могут ли речь и мышление существовать и развиваться независимо друг от друга?
- 3. Каким образом и при каких условиях они объединяются в словеснологическом мышлении?
- 4. Что представляет собой с психологической точки зрения процесс их интеграции?
Все эти вопросы в свое время поставил и нашел ответы на них Л. С. Выготский. Приступая к анализу проблемы соотношения мышления и речи, он отмечал, что на протяжении всей истории психологической науки проблема связи мышления и речи привлекала к себе повышенное внимание, но решалась не вполне правильно. Предлагаемые ее решения оказались самыми разными — от полного разделения речи и мышления и рассмотрения их как совершенно независимых психических функций до столь же однозначного их соединения, почти полного отождествления.
Современные ученые, благодаря научным трудам Выготского, придерживаются в этом вопросе компромиссной точки зрения, полагая, что, хотя мышление и речь связаны друг с другом (например, в словесно-логическом мышлении), они представляют собой как, но генезису, так и по функционированию относительно независимые психические функции. Главный вопрос, который обсуждается в связи с проблемой соотношения мышления и речи, — это вопрос о характере связи, существующей между мышлением и речью, об их генетических корнях и преобразованиях, которые они претерпевают в процессе своего развития.
Слово, писал Выготский, так же относится к речи, как и к мышлению. Слово — это живая клеточка, содержащая в самом простом виде основные свойства, присущие речевому мышлению. Слово не ярлык, присоединенный в качестве индивидуального названия к отдельному предмету. Оно всегда характеризует суть соответствующего предмета или явления обобщенно и, следовательно, выступает как акт мышления и понятие (общее представление) о данном предмете или явлении. Одновременно слово — это также и средство общения, и поэтому оно входит в состав речи. Будучи лишенным своего значения, слово уже не относится ни к мысли, ни к речи. Обретая свое значение, оно сразу же становится органической частью и того и другого. Именно в значении слова, отмечает Выготский, завязан узел того единства, которое называется речевым или словесно-логическим мышлением.
В своем генезисе мышление и речь имеют разные корни. Существуя отдельно друг от друга, они выполняли разные функции и развивались относительно независимо друг от друга. Исходной, базисной функцией речи была ее коммуникативная роль. Сама речь как средство общения возникла и развивалась в силу необходимости разделения и координации действий людей в процессе их совместной деятельности. Такой, например, речевой прием, как указательный жест, никакого отношения к мышлению не имел.
У маленьких детей и у высших животных обнаруживаются своеобразные средства коммуникации, не связанные с мышлением. Это выразительные движения, жесты, мимика, отражающие внутреннее состояние живого существа, но не являющиеся знаком или обобщением. В филогенезе мышления и речи отчетливо вырисовывается доинтеллектуальная фаза в развитии речи. В свою очередь, есть виды мышления, которые генетически не связаны с речью, например наглядно-действенное или практическое мышление у животных.
Когда ребенок в возрасте от 8—10 месяцев до одного года решает простые задачи путем действий с реальными материальными предметами, то очевидно, что эти действия представляют собой чистые акты так называемого ручного мышления, никак не связанные с речью. Первые признаки наличия у ребенка той разновидности речи, которая впоследствии соединяется с мышлением, появляются не раньше годовалого возраста, а развернутые речевые высказывания, которые используются для формулировки и выражения мысли, появляются еще позднее — не ранее второй половины второго года жизни.
Годовалые дети уже имеют довольно богатый опыт взаимодействия с окружающими людьми. У них есть четкие представления о своих родителях, об окружающей обстановке, о пище, игрушках и о многом другом. Задолго до того, как дети практически начинают пользоваться речью, их образный мир включает в себя представления, соответствующие усваиваемым словам. В таких, подготовленных предыдущим опытом социализации, условиях для овладения речью ребенку остается сделать не так уж много: мысленно связать имеющиеся у него представления и образы с определенными сочетаниями звуков, соответствующими словам. Сами эти звуковые сочетания к годовалому возрасту известны ребенку, так как он их неоднократно слышал от взрослых людей.
Следующий этап речевого развития приходится на возраст примерно 1,5—2,5 года. На данном этапе речевого развития дети обучаются объединять слова в двух-трехсловные фразы, причем от использования таких предложений до составления целых предложений дети прогрессируют довольно быстро. После двух-трехсловных предложений ребенок переходит к употреблению других частей речи, помимо уже освоенных существительных и глаголов, к построению предложений в соответствии с правилами грамматики. Л. С. Выготский полагал, что в возрасте около двух лет, т. е. в том возрасте, который Ж. Пиаже обозначил как начало следующей за сенсомоторным интеллектом стадии дооиерационального мышления, в отношениях между мышлением и речью наступает критический, переломный момент: речь начинает становиться интеллектуализированной, а мышление — речевым.
Признаками наступления этого перелома в развитии обеих психических функций становится быстрое и активное расширение ребенком своего словарного запаса. Он, кроме того, начинает часто задавать взрослым людям вопросы типа «Что это?», «Как это называется?» Наблюдается столь же быстрое, скачкообразное расширение коммуникативного словаря. Создается впечатление, что ребенок как бы впервые открывает для себя символическую функцию речи и обнаруживает понимание того, что за словом лежит мысль. С этого времени он уже пользуется словами для выражения этой мысли в процессе решения задач. Одним и тем же словом ребенок начинает называть разные предметы, и это прямое доказательство того, что он осваивает слово как понятие. Решая какие-либо интеллектуальные задачи, дети начинают рассуждать вслух, а это в свою очередь выступает как свидетельство того, что они используют речь и как средство управления своим мышлением, а не только общения с людьми. Практически доступным для ребенка в это время становится значение слова.
Все эти факты являются признаками начала соединения мышления и речи, усвоения понятий и их использования в процессах мышления и общения. Далее этот процесс активно продолжается в течение достаточно длительного времени, вплоть до подросткового возраста. Настоящее освоение понятий как научных обобщений происходит относительно поздно, к тому времени, к которому Ж. Пиаже отнес стадию формальных операций, а Л. С. Выготский обозначил как стадию формирования у детей полноценных понятий, т. е. к среднему школьному возрасту: от 11 — 12.
до 14—15 лет. Следовательно, весь период развития понятийного мышления или формирования в онтогенезе словесно-логического мышления занимает около 10 лет. Все эти годы интенсивного обучения и умственной работы уходят на формирование у детей понятий как важнейшего средства развития мышления и образования речи. Первое слово ребенка по своему значению выступает как целая фраза. То, что взрослый человек выразил бы в развернутом сложном предложении, ребенок умудряется передавать одним-единственным словом. В развитии семантической (смысловой) стороны речи ребенок начинает с целого предложения и только затем переходит к использованию частных смысловых единиц, таких как отдельные слова.
В начальный и конечный моменты развитие семантической и физической (звуковой) сторон речи идет разными, как бы противоположными путями. Смысловая сторона речи развивается от целого к части, в то время как физическая ее сторона совершенствуется от части к целому, т. е. от слова к предложению. Грамматика в становлении речи ребенка несколько опережает логику. Ребенок в своей речи раньше овладевает союзами типа «потому что», «несмотря на», «так как», «хотя», чем соответствующими им смысловыми высказываниями. Это означает, пишет Л. С. Выготский, что движения семантики (смысла, значения) и звучания слова в овладении сложными синтаксическими структурами не совпадают в направлении своего развития. Еще более отчетливо это несовпадение выступает в функционировании развитой мысли, так как далеко не всегда грамматическое и логическое содержание речевого высказывания являются идентичными. Даже на высшем уровне развития мышления и речи, когда ребенок уже овладел понятиями, происходит лишь частичное их соединение.
Большое значение для понимания отношения мысли к слову имеет внутренняя речь. Она в отличие от внешней речи обладает особым синтаксисом, характеризуется отрывочностью, фрагментарностью, сокращенностью. Превращение внешней речи во внутреннюю происходит по следующему закону: в речи в первую очередь сокращается подлежащее и остается сказуемое с относящимися к нему словами (предикативность внутренней речи). Примеры предикативности высказываний и реплик обнаруживаются и в диалогах хорошо знакомых друг с другом взрослых людей, которые часто «без слов» хорошо понимают друг друга. Таким людям нет необходимости всякий раз называть предмет своего разговора, в каждом предложении указывать его подлежащее: оно им в большинстве случаев хорошо известно. Отдельно взятый человек, размышляя во внутреннем диалоге, который реализуется с помощью внутренней речи, также не обозначает для себя предмет своих размышлений.
Слово, функционируя и развиваясь одновременно в мышлении и речи, «впитывает» в себя новые значения и смыслы. В результате этого значения употребляемых слов обогащаются разнообразными когнитивными, эмоциональными и другими ассоциациями. Во внутренней речи — и в этом состоит еще одна ее отличительная особенность — преобладание смысла над значением слова доведено до высшего уровня. Можно сказать, что внутренняя речь в отличие от внешней речи имеет свернутую, предикативную форму и развернутое смысловое содержание.
Третьей особенностью семантики внутренней речи является агглютинация. Возникающее в результате агглютинации новое слово как бы обогащается значениями и смыслами тех слов, которые в нем оказались соединенными вместе. В пределе, замечал Л. С. Выготский, можно за счет агглютинации дойти до слова, которое вберет в себя смысл целого предложения, станет «концентрированным сгустком смысла». Для того чтобы полностью перевести этот смысл из свернутого плана внутренней речи в план развернутой внешней речи, пришлось бы, наверное, использовать не одно предложение. Внутренняя речь состоит из подобных, агглютинированных слов, несущих в себе мысль в чистом виде, еще не воплощенную в слове. На уровне такой речи осуществляется речевое или словесно-логическое мышление.
Существуют прямые доказательства участия внутренней речи в процессе мышления. Например, известный исследователь внутренней речи А. Н. Соколов показал, что в мышлении внутренняя речь представляет собой активный артикуляционный, неосознаваемый процесс. Беспрепятственное течение внутренней речи необходимо для полноценного мышления. В результате опытов Соколова с взрослыми людьми, где в процессе восприятия ими осмысленного текста одновременно предлагалось вслух произносить хорошо выученные стихи или простые слоги (например, «баба» или «ля-ля»), было установлено, что как восприятие смысла текстов, так и решение умственных задач серьезно затрудняется при нарушении естественного сочетания внутренней речи с мышлением. В процессе восприятия текста в этом случае запоминались лишь отдельные слова, а их смысл человеком улавливался плохо. Это означает, что мышление присутствует в ходе осмысленного чтения и предполагает внутреннюю, скрытую от сознания человека работу его артикуляционного аппарата. Данный аппарат с помощью внутренней речи переводит воспринимаемые слова в значения и смыслы, на базе которых и строится далее мышление.
Еще более показательными оказались опыты, проведенные с младшими школьниками. У них даже простая механическая задержка артикуляции в процессе умственной работы (например, зажим языка зубами) вызывала серьезные нарушения в мышлении, чтении и понимании текста, приводила к грубым ошибкам в письме.
Промежуточное положение между внутренней и внешней речью по своей структуре занимает эгоцентрическая речь. Это речь, которая наблюдается у детей и сопровождает индивидуальную игру ребенка в возрасте примерно от трех до пяти лет. Она активизируется в те моменты игры, когда ребенок решает в уме какую-либо сложную задачу и старается не отвлекаться от процесса ее решения. Эгоцентрической эта речь называется потому, что направлена на самого ребенка и не предназначена для ее восприятия другими людьми. Хотя эгоцентрическая речь имеет форму «одностороннего диалога» (ребенок, пользуясь ею, произносит какие-то реплики, будто бы адресованные другому человеку, но не ждет реакции на них и не отвечает на такие реакции), на самом деле она представляет собой внутренний диалог, т.с. как бы вынесенную наружу внутреннюю речь[1].
Эгоцентрическая речь — это речь-размышление, и она обслуживает не общение, а мышление человека. Она выступает как внешняя по форме, но внутренняя по содержанию. При переходе эгоцентрической речи во внутреннюю она как таковая исчезает у детей. На убывание ее внешних компонентов следует смотреть, считал Л. С. Выготский, как на усиливающуюся абстракцию мысли от звуковой стороны речи.
Ему в свое время возражал Ж. Пиаже, который по праву считается первооткрывателем феномена эгоцентрической речи. Пиаже полагал, что эгоцентрическая речь — это обычная форма речи ребенка, представляющая собой вынесенный вовне монолог, т. е. просто «озвученное размышление» (размышление вслух). Такая разновидность речи, по Пиаже, представляет собой рудиментарную, пережиточную форму речи, характерную для людей далекого прошлого — того времени, когда у них еще отсутствовала логика мышления. В такой речи ребенка Пиаже усматривал проявление так называемой несоциализированной мысли ребенка. Постепенное исчезновение у ребенка к шести годам эгоцентрической речи, замеченное Пиаже, объяснялось тем, что к этому времени мышление ребенка становится социализированным, т. е. начинает приобретать те качества, которыми обладает мышление взрослого человека. Поэтому необходимость в существовании эгоцентрической речи отпадает.
До сих пор мы говорили о развитии той формы ингеллектуализированной речи, которая связана с мышлением. Мышление в своем развитии имеет собственные, независимые от речи истоки и следует своим законам развития в течение достаточно длительного времени, по крайней мере до тех пор, пока мысль не сольется с речью, а речь не станет осмысленной. Мы также знаем о том, что даже на самых высоких уровнях своего развития речь и мышление полностью не совпадают. Это означает, что свои корни и собственные законы онтогенетического развития должны быть также и у речи. Рассмотрим некоторые аргументы в пользу такого утверждения.
Уже в возрасте двух-трех месяцев ребенок начинает избирательно реагировать на лицо и голос матери, выделяя их из всех других, воспринимаемых им стимулов[2]. Со второй половины первого года жизни ребенок уже не только понимает и правильно воспринимает выражения лица и некоторые жесты матери, но также и паралигвистические компоненты ее речи: интонацию, громкость голоса, а возможно, и тембр. Более того, ребенок в это время начинает пользоваться некоторыми из этих средств общения для передачи матери и другим взрослым людям информации о своем состоянии (самочувствии, например). Это означает появление у ребенка простейшей формы речи, которая, очевидно, в данном возрасте еще не может быть связана с мышлением по той причине, что никаких признаков мыслительной деятельности у детей первого полугодия жизни еще нет.
В возрасте от одного года до двух лет у детей появляется устная вербальная речь, основанная на знании языка и на умении пользоваться им в общении с другими людьми. По крайней мере, в начальный период ее развития данная разновидность речи также еще не связана с мышлением ребенка, поскольку само мышление детей этого возраста наглядно-действенное, а не речевое (словесно-логическое). Таким образом, описанные выше разновидности речи появляются и развиваются у детей относительно независимо от мышления.
Что касается мышления ребенка, то в его независимом от речи существовании и развитии также можно выделить две стадии. Первая охватывает период времени от конца первого года жизни до примерно трехлетнего возраста. В это время у детей появляется и развивается наглядно-действенное мышление (по Л.С. Выготскому) или сенсомоториый интеллект (по Ж. Пиаже). В период от трех до пяти лет появляется и развивается наглядно-образное мышление (Выготский) или наступает дооперациональпая стадия в развитии интеллекта (Пиаже). Очевидно, что и на данной стадии развивающееся мышление ребенка еще мало связано с речью.
Процесс соединения мышления и речи, как показывают представленные выше данные о природе и судьбе эгоцентрической речи, начинается нс раньше третьего года жизни ребенка — тогда, когда у него появляется и функционирует эгоцентрическая речь. Сам этот процесс завершается только к началу подросткового возраста. Следовательно, мы можем констатировать, что связь мышления и речи окончательно оформляется лишь в этом возрасте[3].
- [1] Элементы этой речи можно обнаружить и у взрослого человека, который, решая сложную интеллектуальную задачу, нередко размышляет вслух, произнося какие-то репликиили фразы, очевидно не рассчитанные на реакции других людей.
- [2] Об этом определенно свидетельствует возникающий в это время комплекс оживления. Он проявляется в том, что, видя лицо матери или слыша ее голос, ребенок оживляется, повышает свою двигательную активность, демонстрирует явные признаки наличия у негоположительных эмоций.
- [3] Можно полагать, что этот процесс в данном возрасте не завершается и продолжаетсядальше у юношей и у взрослых людей. Однако в науке он столь детально не исследован, какпроцесс соотношения мышления и речи у детей.