Трудовое воспитание детей
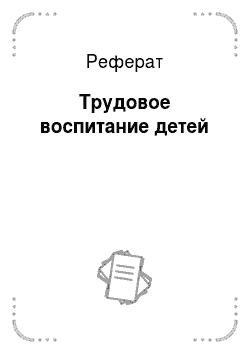
Обряду начала весенних полевых работ придавалось особое значение, так как от него во многом зависели судьба урожая и благополучие семьи. Поэтому с ним был связан особый ритуал, сопровождавшийся различными магическими действиями, которые должны были гарантировать успешность запашки и посева, а значит, хороший урожай. В каждом селе этот обряд исполнялся по-своему, но основа его была неизменной… Читать ещё >
Трудовое воспитание детей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Детство ребенка продолжалось до 13−14 или до 18 лет — все зависело от местности проживания. Если замечали, что девочка «заневестилась», а мальчик стал «женихаться», то их считали уже взрослыми.
С самого раннего детства ребенок погружался в трудовую атмосферу семьи, становился участником разнообразных дел, постепенно втягивался в систему трудовых обязанностей и отношений.
Как только ребенок подрастал, начинал твердо стоять на ногах и понимать речь окружающих, он легко и естественно включался в работу. Родители сто не принуждали, не заставляли трудиться, а заинтересовывали делом, позволяли участвовать в нем самому, помогать старшим, ведь известно, что ребенок по природе своей активное существо. Детская жажда подражания, пример окружающих были самыми действенными побудителями к труду. Мальчики были возле плотничающего отца, девочки — возле матери за прялкой, очень рано они начинали нянчить младших братьев и сестер, приобщались к работе по дому — ухаживали за птицей, мыли посуду и пол, носили воду. Уже в 4−5 лет девочка помогала сестре сматывать нитки, кормить кур, мальчик подавал лыко отцу, плетущему лапти, начинал гонять скотину на водопой, учился ездить верхом. Шестисемилетнему ребенку доверяли загнать скотину во двор, принести дров в избу. В 7−8 лет мальчик уже помогал отцу на пашне, управляя лошадью. Зимой он помогал отцу в заготовке дров, учился владеть пилой и топором. С отцом ходил на охоту, учился ставить силки, стрелять из лука, мог рыбачить. В 9−10 лет подросток сам мог управляться с лошадью, умел ее запрягать.
Не сразу дети принимались за настоящее дело, народный опыт воспитания подсказывал взрослым, что делать это надо постепенно, включая маленьких в игру. Маленькие лопата и грабли были в руках у ребенка, когда он помогал взрослым; отец часто оставлял для сына небольшой клочок земли, где мальчик учился пахать своей маленькой сохой. Девочка училась стряпать вместе с матерью, делая из теста свои лепешки и хлебцы. В маленьком ведерке она начинала носить воду. Для нее делали маленькую прялку, и она училась прясть, сидя рядом со старшими сестрами, училась шить наряды для куклы, часто изготовленной детьми постарше.
От игры постепенно переходили к настоящей работе. В 10−13 лет подросток мог участвовать в пахоте, а к 14 годам учился косить, жать серном, работать топором и цепом. В зимнее время он плел лапти и лукошки, а в 14−16 становился настоящим работником, умел косить, занимался пахотой, молотьбой, заготовкой дров в лесу, знал многие тонкости крестьянского дела. В 18 лет он мог провести сев — самую сложную работу — и с этого времени считался полноценным хозяином.
Помогали подростки семье и своим заработком, нанимаясь на лето в подпаски или выезжая пасти лошадей в ночное вместе с группой сверстников. Для семейства был нужен приработок, а для подростка это была школа, где он выучивался соблюдению взятых на себя обязательств и дисциплинированности, чувствуя себя взрослым.
Девочка с 9−10 лет начинала работать серпом на поле, с этого же времени она по-настоящему вязала снопы, полола грядки, теребила лен и коноплю. В 10−12 лет она уже доила корову, могла замесить тесто, стряпала, стирала, присматривала за детьми, носила воду, шила, вязала, а в 14 — жала хлеб, косила сено, начинала работать наравне со взрослыми, и не забудем — к этому времени она уже должна была приготовить себе приданое.
В возрасте 14−16 лет и мальчики, и девочки, пройдя большую трудовую выучку, становились самостоятельными, уверенно принимались за работу, держались степенно, с достоинством. Менялись и требования взрослых к поведению молодых людей: парень был более свободен от родительской опеки, мог без спросу уходить вечерами, бывать на гулянках; другое дело девушки — с них родители старались не спускать глаз.
Перечисленные и многие другие трудовые занятия, в которые включался ребенок с ранних лет, свидетельствуют о том, как много они значили для подрастающего ребенка. Вся жизнь крестьянина была пронизана заботой об урожае, скотине, погоде, что формировало мировоззрение детей, приучало к ответственности за судьбу урожая, благополучие семьи. В бедной и богатой семье труд составлял основу существования.
Труд — это не только выработка навыков и умений, но и развитие миропонимания, нравственная закалка, эстетические переживания и, конечно, физическое развитие и здоровье.
Включаясь в труд с детства, человек познавал закономерности природных явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость. Природа диктовала ему, например, когда сеять рожь, когда и как ее убирать. Тонкие наблюдения за изменениями в природе, осуществляемые в процессе выполнения различных дел и необходимые для их успешности, пробуждали проницательность и пытливость.
Включаясь сначала добровольно, а потом и по необходимости в различные дела, подросток воспринимал свою работу как естественное и необходимое занятие в течение всей жизни. Осознание труда как жизненной необходимости формировало и соответствующее к нему отношение.
Все трудности, сопряженные с крестьянским трудом, — ранний подъем, работа под дождем или снегом, требующая большого физического напряжения, — принимались безропотно, хотя, наверное, кто-то и мечтал о более легкой жизни.
Терпение, способность переносить жизненные тяготы, радоваться трудовым успехам, испытывать трепетное чувство при виде поднимающихся зеленей на полях — это тоже следствие трудовой деятельности. Труд с малолетства воспитывал ум и душу человека.
Выработке серьезного, уважительного отношения детей к труду способствовали также обряды, связанные с основными крестьянскими работами.
Обряду начала весенних полевых работ придавалось особое значение, так как от него во многом зависели судьба урожая и благополучие семьи. Поэтому с ним был связан особый ритуал, сопровождавшийся различными магическими действиями, которые должны были гарантировать успешность запашки и посева, а значит, хороший урожай. В каждом селе этот обряд исполнялся по-своему, но основа его была неизменной. Перед началом вспашки проходила сходка, избиравшая человека, зачин которого, как считалось, будет «легким». Нужен был крестьянин с «легкой рукой», человек добрый, хороший, обязательно мужчина: «Самим Богом положено, чтобы сеял мужик». На сходке решали, когда начинать сеять всем остальным: до обеда или завтра. Затем выносили хлеб и икону, запрягали лошадь в соху и отправлялись в поле. Избранный крестьянин перед иконой делал три земных поклона, затем, поклонившись на четыре стороны, проводил сохой борозды через все участки.
Так же по-особому отправлялся обряд первого выгона скота, совершавшийся 6 мая, в день Георгия Победоносца, которого исследователи считают пришедшим на смену языческому Яриле. Крестьяне верили, что Георгий (Егорий) сам, невидимо для людей, выезжает на своем коне и пасет скот, оберегая его от зверей, над которыми тоже властвует (известно, что выпас скота был всегда связан с опасностью нападения зверья, в изобилии водившегося в окружавших деревню лесах): «Отче наш, Георгий, спаси и сохрани нашу скотинку в темных лесах, в жидких местах от диких зверей, от ползучих змей и от злых людей. Аминь» .
Перед этим днем ребятишки ходили по домам с песней «Батюшка Егорий» и собирали мзду. В семьях совершали целый ряд ритуальных действий, направленных, как считалось, на сохранение скота: например, хозяева молились, потом обходили свой скот с хлебом-солью, с иконой святого Георгия, приговаривая: «Святой Егорий-батюшка, сдаем на руки тебе свою скотину и просим тебя: сохрани ее от зверя лютого!»; затем клали под ворота замок и ключ — чтобы пасть звериная была так крепко заперта, как запирается замок ключом; выгоняя скотину со двора, приговаривали: «Егорий храбрый, прими мою животину на все полное лето и спаси ее!» .
Выгон скота начинался одновременно во всей общине перед обедом. Из каждого двора дети гнали вербными веточками коров, овец и свиней, за ними шли хозяин с хозяйкой. Когда стадо собиралось, пастух обходил его трижды, держа на голове ковригу хлеба, а на плече кнут. За пастухом шла здоровая, цветущая молодуха, за ней — староста, тоже с ковригой на голове. Все молились.
Пастух собирал стадо потеснее и перебрасывал через него палку; «Ну, слава Богу, перешвырнул все болезни нашей скотинушки через все стадо». После этого мальчишки играли в горелки, бегая вокруг стада, что должно было способствовать хорошим удоям. Работать в этот день было нельзя.
В день Николы Угодника (22 мая) проводился первый выгон лошадей в ночное. Деревенские подростки и пастух ночью при кострах до зари пекли в золе картошку, заводили игры.
За этими днями шли и другие, обставляемые определенными ритуальными действиями: зажин — начало жатвы; начало сенокоса и т. д.
Каким же образом эти обряды способствовали трудовому воспитанию детей? Ответ на этот вопрос несложен. При исполнении обрядов дети проникались главными заботами взрослых о хорошем урожае и сохранности скота, осваивали ритуальные действия, которые, по убеждению крестьян, способствовали хорошим результатам труда, вызывали помощь магических сил. Серьезность, с которой взрослые относились к трудовым обрядам, передавалась и детям, рождала у них понимание большой важности начинаемого дела, развивала такое же серьезное отношение к работе. Но дети любили взрослые обряды еще и потому, что это были всеобщие праздники, исполненные радости и веселья.
Воспитательное значение имели также особые деревенские работы — помочи, которые сплачивали, учили взаимовыручке и поддержке, милосердию, великодушию, отзывчивости, совестливости. Они имели отношение к оказанию помощи соседям, односельчанам, оказавшимся в трудном положении, — погорельцам, сиротам, вдовам, одиноким старикам, семьям рекрутов, — помощи во время похорон и т. п. Пострадавший, например, от пожара крестьянин обращался к миру с просьбой помочь ему построить избу, и общество обязательно откликалось на такую просьбу: сообща заготавливали для стройки бревна в лесу, вывозили их и ставили дом. Заболевшему хозяину, не заготовившему вовремя семена для посева, могли собрать их по лукошку со двора, обработать землю и посеять. Такая форма взаимопомощи и называлась помочью.
На помочи крестьяне собирались не только при обращении хозяев, но и по собственной инициативе, если видели их бедственное положение. Участие в помочах считалось нравственной обязанностью каждого, помочь считалась делом обыкновенным, и хотя отказывавшегося помочь никто не наказывал, общество такое поведение осуждало, а идти против общественного мнения решались редко.
Особенно привлекали помочи молодых, потому что работа проходила весело, с песнями, шутками, шалостями, а по ее окончании целую ночь можно было петь, кататься на лошади и т. п. Существовала своя этика и для хозяина: он не указывал, кому и как работать, не делал замечаний, был любезен и приветлив, но нерадивых помощников в следующий раз не приглашали.
Известно несколько видов помочей, имевших свои названия. Вздымки — возведение сруба, подготовленного хозяином, на фундамент, когда разбирали готовый сруб и ставили его на подготовленное место, конопатили.
Печебитье — складывание глинобитной печи, чем занимались обычно холостые парни и девушки. Это молодежные помочи, на которых труд сочетался с вечеринкой. Нужно было привезти глину, затем мять и утрамбовывать ее досками, утаптывать ногами. Как правило, такая помочь собиралась при строительстве новой избы.
Супрядки — прядение шерсти, льна, конопли. Занятие для женщин и молодых девушек. Обычно их устраивали в семьях, где было мало женщин или слишком много детей.
У бабушки у нашей Супрядка была, Супрядка была.
- — Что ты, бабушка, прясти даешь?
- — Старым-то старушкам
Шерсти кужелек, А молодым-то молодушкам Беленький ленок, А молодцам-то, прощелыгам, Коневый хвост.
Устраивались супрядки и как поочередные помочи у многих девушек, когда собирались то в одной, то в другой избе.
Толока льна — это преимущественно девичьи и женские помочи, но могли в них участвовать и молодые парни; такая помочь практиковалась, когда нужно было быстро обработать собранный лен. Девушки и бабы-молодухи приходили со своими мялками на ночь, до рассвета каждая из них при свете фонаря или сальной свечи обрабатывала до ста снопов, а днем хозяин угощал помочан обедом.
Было еще немало поводов для помочей; при распашке, завершении жатвы; сеновницы — помощь в заготовке сена, дровяницы — при рубке леса, капустки — при засолке капусты и т. д.
Необходимость взаимопомощи ребенок осознавал очень рано, наблюдая за жизнью своей семьи, слушая разговоры взрослых о предстоящих помочах и постепенно включаясь в них. Для него, как и для взрослых крестьян, помочи являлись непреложной данностью, обязательность участия в них не вызывала сомнений.
Совместная работа вызывала у ее участников большой эмоциональный подъем, молодые здесь не только трудились, но и сплачивались, сближались, лучше узнавали друг друга, а песни и шутки поднимали настроение. Все это окрашивало тяжелую работу в мажорные тона, и поэтому участие в помочах не воспринималось как тяжелая обязанность. Для помочей было как раз характерно переплетение трудовых и праздничных элементов.
В праздник превращался сенокос — трудная, но веселая пора в июле, в самый разгар лета. Скошенную косарями траву женщины сушили-переворачивали, растрепывали, сгребали в кучу — копнили — и складывали в стога сообща, а потом готовое сено делили по душам.
Определение времени сенокоса, т. е. когда сено готово к закладке в стога, требовало житейского опыта, много хлопот добавляли дожди. Но при благоприятных погодных условиях уборка сена считалась приятной сельскохозяйственной работой. Теплые ночи, благоухание трав, купание после зноя — все это создавало праздничное настроение. Селяне, особенно девушки, принаряжались, пели песни, водили хороводы, играли на гармониках, шутили, девушки красовались перед женихами. Часто на дальние луга крестьяне выезжали семьями, брали с собой младенцев. В шалашах отдыхали, на кострах готовили пищу. Для обеда объединялись по нескольку семей, после работы на лугу старшие отдыхали, а молодые отправлялись за ягодами. В шалаши за деревней переселялись и тогда, когда луга были неподалеку; в эту пору молодежь оставалась на лугах все время сенокоса. Его ожидали с нетерпением и, несмотря на тяжелый труд, считали праздником.
Итак, под влиянием семейного и общественного быта закладывались основы человеческой личности, ее нравственные установки, особенно в межличностных отношениях, вырабатывался взгляд на все окружающее.
Оценивая в целом значение детского труда в становлении личности, отметим его огромную роль в развитии физических и духовных сил и подготовке к активной трудовой деятельности. Основная особенность труда крестьянских детей состоит в привязанности его ко всем видам работ взрослого крестьянина. Именно так, осваивая трудовые отношения и обязанности, дети постепенно, шаг за шагом включались в основные сферы жизнедеятельности общины. Они не готовились к будущему труду, а жили им, занимались значимыми для семьи и общества делами, на практике постигая навыки и умения. Труд являлся не столько средством воспитания, сколько смыслом жизни человека с раннего возраста. Связанный с основными сферами жизни, детский труд обеспечивал многостороннее развитие личности и был залогом успешности ее в самостоятельной взрослой жизни.