Сущность формационного и цивилизационного подходов к типологии истории, их специфика и взаимосвязь в рамках субстанциально-деятельностной парадигмы
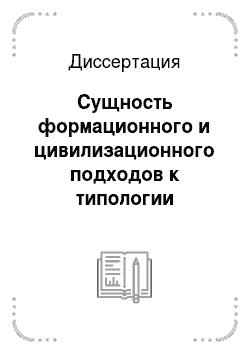
Диссертация
Обыденные, повседневные человеческие представления и практики, необходимо учитывать и изучать, тем более, что в ходе реформ в России при трансформации всего уклада жизни людей они обнаружили свою поразительную устойчивость и жизненную силу, способные достаточно длительное время выдерживать конкуренцию очевидных преимуществ рациональной доказательности в необходимости созидания новых базисных… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I.
- СУЩНОСТЬ СУБСТАНЦИАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОРИИ
- 1. «Социальная деятельность» как способ существования социальной реальности
- 2. Структурный, функциональный и динамический анализ социального действия
- 3. Анализ коллективной деятельности
- ГЛАВА II.
- СУЩНОСТЬ ФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К ТИПОЛОГИИ ИСТОРИИ
- 1. Марксистская теория общественно-экономических формаций: плюсы и минусы
- 2. Развитие формационного анализа в свете деятельностного подхода и его эвристические возможности
- ГЛАВА III.
- СУЩНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА к типологии истории
Список литературы
- Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.Г. Юнга и закономерности творческой фантазии / О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. М., 1972.
- Алексеев П.В., Панин A.B. Философия: Учебник для вузов. М.: ТЕИС, 1996.
- Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализма. М., 1978.
- Александер Дж. После неофункционализма: деятельность, культура и гражданское общество. В кн.: Социология на пороге XXI века: основные направления исследования./ Под ред. С. И. Григорьева (Россия). Ж. Коэнен-Хуттера (Швейцария). М.: РУСАКИ, 1999.
- Алтухов В. Философия многомерного мира// Общественные науки и современность. 1992. № 1.
- Андреев Ю.П. Предмет и система категорий исторического материализма. В кн.: Исторический материализм в общей структуре философского знания. М., 1981.
- Андреев Ю.П. Предмет, структура и система категорий исторического материализма. В кн.: Проблемы систематизации категорий исторического материализма. Челябинск, 1981.
- Арон Р. Этапы развития социологической мысли. -М.: Изд. группа «Прогресс», 1992.
- Арефьева Г. С. О некоторых условиях и принципах построения системы категорий исторического материализма. В кн.: Проблемы систематизации категорий исторического материализма. -Челябинск, 1981.
- Ю.Афанасьев В. Г. Системность и общество. М., 1980.339
- П.БайлукВ.В. Социальный детерминизм: категориальный анализ. -Томск: изд-во ТГУ, 1983.
- Баранец С.Н. Диалектика социального развития и проблема ее отображения в историческом материализме. В кн.: Проблема начала и исходной категории в теории исторического материализма М., 1981.
- Барулин B.C. Диалектика сфер общественной жизни. М., 1982.
- Барулин B.C. Исторический материализм. М., 1986.
- Барулин B.C. Социально-философская антропология. Общие начала социально-философской антропологии. М.: Онега, 1994.
- Барулин B.C. Социальная философия: Учебник. Изд. 2-е. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.
- П.Барулин B.C. Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя. СПб.: Алетейя, 2000.
- Батищев Г. С. Деятельностный подход в плену субстанциализма. В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990.
- Батищев Г. С. Неисчерпанные возможности и границы применимости категории деятельности. В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990.
- Бжезинский 3. Великий провал. Нью-Йорк, 1989.
- Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.23 .Бережной Н. М. Гегель и Маркс о родовой сущности человека. В сб.: Карл Маркс и современная философия. М., 1999.
- Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939.340
- Боголюбова E.B. Культура и цивилизация. В кн.: Исторический материализм и актуальные проблемы современности. М., 1980.
- Бороноев А.О., Емельянов Ю. И., Скворцов Н. Г. Особенности развития и взаимоотношений социологии и антропологии. В кн.: Проблемы теоретической социологии. — СПб, 1994.
- Бранте Томас. Теоретические традиции социологии. В кн.: Монсон Пер. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы / Пер. со швед. СПб: Нотабене, 1992.
- Брушлинский A.B. Проблемы психологии субъекта. М., 1994.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999.
- Бодрийяр Ж. Соблазн.-М., 2000.31 .Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. / Пер. с фр. М. М. Кириченко. М.: Аспект Пресс, 1998.
- Булатов М.А. Деятельность и структура философского знания. -Киев, 1976.
- Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990.
- Буртин Ю. Ахиллесова пята исторической теории Маркса. // Октябрь. 1989. № И.
- Василенко Ю.В. Соотношение формационной и цивилизационных концепций исторического процесса. Дисс. канд. филос. наук. Пермь, 1999.
- Васильев JI.C. Вторая революция. // Новое время. 1990. № 45.
- Вазюлин В.А. Логика «Капитала» К. Маркса. М., 1968.
- Введение в философию: Учебник для вузов. В 2-х частях. 4.2. / Фролов И. Т. Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г. С. и др.1. М.: Политиздат, 1990.
- Вебер М. Основные социологические понятия, Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.341
- Верч Дж. Голоса Разума. Социокультурный подход копосредованному действию. М.: Тривола, 1996. 41. Виндельбанд В. История и естествознание. М., 1901.
- Волгина A.C., Должников А. К. Потребности как атрибут деятельности субъекта. В сб.: Культура. Деятельность. Человек. Усть-Каменогорск, 1990.
- Волошинов В.Н. (Бахтин М.М.) Марксизм и философия языка. Л.: Прибой, 1929.
- Гегель Г. Философия истории. Соч. в 14 тт. М.-Л., 1935.
- Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1937.
- Гегель Сочинения. М., 1956.
- Гегель Г. Энциклопедия философских наук. М., 1974.
- Герменевтика: история и современность. М., 1985.
- Гидденс Энтони. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. ЗО. Гобозов И. А. Введение в философию истории. М., 1993.
- Гордиенко A.A. Коэволюционная парадигма и социальная философия. Новосибирск, 2000.
- Гринин Л.Е. Философия и социология истории: некоторые закономерности истории человечества (опыт философско-социологического анализа всемирно-исторического процесса). Волгоград, 1995.
- Громов И.А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная теоретическая социология. СПб.: Ольга, 1996.
- Горский Д.П. Учение Маркса об обществе (критический анализ). -Пособие для преподавателей высших учебных заведений.1. М.: Наука, 1994.
- Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории. // Вопросы философии. 1990. № 11.342
- Зб.Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1995.
- Гусейнов A.A. Предмет этики. В кн.: Предмет и структура общественных наук. М., 1984.
- Гумплович J1. Основания социологии. СПб, 1899.5 9. Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. Кн.1. М., 1911.
- Делягин М. Россия в условиях глобализации. // НГ-сценарии. 2001. № 4.
- Демичев В.А. О «начале» и структуре исторического материализма. В кн.: Основания систематизации и классификации категорий исторического материализма. М., 1981.
- Демичев В.А. Общество как открытая саморегулирующаяся органическая целостность исходная абстракция исторического материализма. — В кн.: Методологические проблемы исторического материализма. М., 1981.
- Демичев В.А. Об историческом материализме как теоретической системе и некоторых проблемах его изложения. В кн.: Проблемы систематизации категорий исторического материализма. Челябинск, 1981.
- Денисов В.В. Специфика социального познания. В кн.: Проблемы социального познания. М., 1982.
- Деятельность: теории, методология, проблемы. М.: Политиздат, 1990.
- Диалектика познания сложных систем./ Под ред. B.C. Тюхтина. М.: Мысль, 1988.
- Добреньков В.И., Кравченко А. И. Социология: В 3 Т. Т. З: Социальные институты и процессы. М.: ИНФРА-М, 2000.
- Дроздов A.B. Человек и общественные отношения. Л., 1966.343
- Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения. // СОЦИС. 1991. № 2.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
- Елфимов A.JI. Клиффорд Гирц: интерпретация культур // Этнографическое обозрение. 1992. № 3.
- Ельмеев В.Я. «Капитал» К. Маркса и некоторые современные проблемы материалистического понимания истории. В кн.: Единство марксизма-ленинизма в его историческом развитии. Л., 1986.
- Ельмеев В.Я. Социальная феноменология. В кн.: Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994.
- Емельянов Б.В., Любутин К. Н. Введение в историю философии. М., 1987.
- Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. М., 1990.
- Жуков Е.М., Барг М. А., Черняк Е. Б., Павлов В. И. Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса. М.: Наука, 1979.77.3лобин Н. С. Деятельность -труд культура. — В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990.
- Западноевропейская социология XIX начала XX веков / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1996.79.3акирова С. О характере экономических отношений вне материального производства. // Экономические науки. 1985. № 10.
- Зимин А.И., Кураев В. И., Манохин И. С. Обзор обсуждения в Президиуме АН СССР. //Вопросы философии. 1987. № 12.
- Зотов А.Ф. Выступление в дискуссии «Право, свобода, демократия // Вопросы философии. 1990. № 6.344
- Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996.
- Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). М.: Политиздат, 1974.
- Каган М.С. Еще раз о философском анализе человеческой деятельности // Вестн. Моск. ун-та Сер.7. Философия, 1980. № 3.
- Каган М.С. Мир общения. М., 1982.
- Кант И. Собрание сочинений. М., Т.6.1966.
- Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 1996.
- Карпинская P.C., Лисеев И. К., Огурцов А. П. Философия природы. М. 1998.
- Капитонов Э.А. Социология XX века. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1996.
- Карсавин Л.П. Введение в историю (Теория истории). Петербург: Наука и школа, 1920.
- Караваев Г. Г. Исторический материализм в системе марксистско-ленинской философии. В сб.: Исторический материализм в общей структуре философского знания. М., 1981.
- Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб, 1996.
- Каримский A.M. Философия истории Гегеля. М., 1988.34 597 .Категории исторического материализма: их роль в познании и преобразовании социальной действительности. Киев: Наукова думка, 1985.
- Категории социальной диалектики. Минск, 1978.
- Кветной М.С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы. Социологический аспект. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1974.
- Кедров Б.М. О методе изложения диалектики от абстрактного к конкретному // Вопросы философии. 1978. № 2.
- Ю1.Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Важнейшие аспекты методологии социально-философского исследования //Вопросы философии. 1980. № 7.
- Ю2.Келле В. Ж., Ковальзон М. Я, Теория и история. Проблемы теории исторического процесса. М., 1981.
- ЮЗ.Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Заключительные замечания // Вопросы философии. 1983. № 12.
- Ю4.Келле В. Ж. Деятельность и общественные отношения. В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990.
- Ковалев A.M. Целостность и многообразие мира. Философские размышления. М., Т. 1. 1996.
- Юб.Ковалев A.M. Человек продукт природы и основа социума. ТЗ. М.: Квадратум, 2000.
- Ковалев A.M. Общество развивающийся организм. Т.4. М.: Квадратум, 2000.
- Ю8.КомандороваИ.В. Символическая антропология Лесли А. Уайта. // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. 2000. № 5.
- Комаров М.С. О принципах построения курса социологии для вузов. // СОЦИС. 1993. № 5.346
- ПО.Комаров B.C. Введение в социологию М.: Наука, 1994.111 .Кордонский Симон. Циклы деятельности и идеальные объекты. М.: Пантори, 2001.
- Коэволюционная стратегия. М., 1995.
- З.Кравченко А. И. Социология: Учебник для студентов вузов. М.: Академический проект, 1999.
- Кржевов B.C. Методологические принципы анализа социальной структуры в исторически разнотипных обществах. Дисс. канд. филос. наук. М., 1992.
- Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград, 1996.
- Краснов В.М. К понятию общества как целостной системы // Философские науки. 1977. № 2.
- Крымский С.Б. Контуры духовности: Новые контексты индивидуальности // Вопросы философии. 1992. № 12.
- Кузнецов И.С. К вопросу о содержании понятия «социальное». В сб. научн. тр.: Формационный анализ в системе категорий исторического материализма. Свердловск: Изд. УрГУ, 1982.
- Кузнецов В.Г., Миронов В. В., Момджян КХ. Философия: Учебник. Часть I. М.: Юридический колледж МГУ, 1996.
- Ш. Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия. М.: ИНФРА-М, 1999.
- Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1980.
- Кузовкин А., Непомнящий Н. НЛО просит посадки. М.: Профиздат, 1991.
- Культурология. XX век. Словарь. СПб.: Университетская книга, 1997.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.347
- Курланд Н., Грини М. Наемный труд и собственность между капитализмом и социализмом. // Свободная мысль. 1992. № 13.
- Лапин Н.И. Проблемы формирования и развития марксизма как цельного учения. Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник. М., 1983.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр. / Общ. ред. Ю.Л. Бессмертного- Послесл. А. Я. Гуревича. М.: Прогресс-Академия, 1992.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ИНИОН АН СССР, 1980.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд.
- Леонтьев А.Н. Проблема деятельности в психологии. // Вопросы философии. 1972. № 9.
- Леонтьев А.Н. Анализ деятельности // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1983. № 2.
- Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М., СПб., 1998.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996.
- Луман Н. Понятие общества. В кн.: Проблемы теоретической социологии. СПб: ТОО ТК «Петрополис», 1994.
- Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации рациональности мышления. М.: изд-во МГУ, 1991.
- Маргулис A.B. Субъект в историческом процессе // Вопросы философии. 1987. № 9.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд.
- Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистических воззрений. М., 1966.139 .Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: диалектика современной эпохи. М., 1987.348
- НО.Маргулис A.B. О проблеме исходного основания в общесоциологической теории. В кн.: Проблема начала и исходной категории в теории исторического материализма. М., 1981.
- Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. М., 1983.
- Масленников Е.В., Петров И. Г. К концепции учебного курса методологии и методики социологического исследования. -Социология: 4M, 1997. № 8.
- Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб: Евразия, 1999.
- Межу ев В. М. Был ли Маркс утопистом? В сб.: Карл Маркс и современная философия. М., 1999.
- Межуев В.М. Культура как философская проблема. // Вопросы философии. 1982. № Ю.
- Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории. М., 1994.
- Методология научного познания и социальная практика. Казань, 1987.
- Минкина H.A. Несколько замечаний о проблеме «начало». В кн.: Проблема начала и исходной категории в теории исторического материализма. М., 1981.
- Михайлова Е.П., Орлов Г. П. Проблемы систематизации категорий исторического материализма//Вопросы философии. 1981. № 1.
- Миронов В.В. Философия. М.: ПРОСПЕКТ, 1998.
- Моисеев H.H. Человек и ноосфера. М., 1990.
- Момджян К.Х. Категории исторического материализма: системность, развитие. М.: изд-во Моск. ун-та, 1986.
- Момджян К.Х. Рефлективные парадигмы в социальной теории Маркса. В сб.: Карл Маркс и современная философия. М., 1999.349
- Момджян К.Х. Социум. Общество. История. М.: Наука, 1994.
- Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М.: Высшая школа, КД «Университет», 1987.
- Момджян К.Х. К. Концептуальная природа исторического материализма: актуальные проблемы исследования. -Дисс. докт. филос. наук. М., 1988.
- Момджян К.Х. Состояние и перспективы отечественной социальной философии. В сб.: Проблемы преподавания философии в высшей школе. Материалы конференции под ред. Чумакова А. Н. М., 1996.
- Монсон Пер. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы / Пер. со швед. СПб: Нотабене, 1992.
- Мэмфорд JI. Техника и природа человека // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.
- Никифоров A.JI. Общее и индивидуальное в деятельности. М., 1998.
- Николов JI. Структуры человеческой деятельности. М.: Прогресс, 1984.
- Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994.
- Нугаев P.M. Современная социология знания: некоторые итоги и перспективы // Социология: 4 М. 1997. № 8.164.0бществознание. Пособие для поступающих в вузы Российской Федерации./Под ред. проф. М. Н. Марченко. М.: Зерцало, 2000.
- Общественные отношения. Вопросы общей теории. М., 1981.
- Огурцов А. П. Тектология А.А. Богданова и идея коэволюции // Вопросы философии. 1995. № 8.
- Основы социологии. Курс лекций / Отв. ред. А. Г. Эфендиев. М.: Общество «Знание» России, 1993.350
- Очерки по истории теоретической социологии XIX нач. XX в. /
- Отв. ред. Ю. Н. Давыдов. М.: Наука, 1994. 169. Очерки социальной философии: Учебное пособие / Под ред. К. С. Пигрова. СПб, 1998.
- Панарин A.C. Возвращение в цивилизацию или «формационное одиночество»? // Философские науки. 1991. № 8.
- Панарин A.C. Смысл истории. // Вопросы философии. 1999. № 9.
- Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем. В сб.: Современная западная теоретическая социология. Парсонс Толкотт. М.: ИНИОН РАН, 1994.
- Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.
- Плетников Ю.К. Философские проблемы деятельности (материалы круглого стола) //Вопросы философии. 1985. № 3.
- Плетников Ю.К. Формационная и цивилизационная триады К. Маркса. В сб.: Карл Маркс и современная философия. — М., 1999.
- Плетников Ю.К. Историческая тенденция самоотрицания капитализма.//- Диалог. 2000. Декабрь. № 12.
- Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8
- Попов В.Г. Становление концепции общественной формации. Киев: УМК ВО, 1992.
- Пригожин И. Философия нестабильности. // Вопросы философии. 1991. № 6.180.0пыт словаря нового мышления. М., 1988. 181. Разин В. И. Базис и надстройка. В кн.: Исторический материализм как социально-философская теория. М.: Высшая школа, 1982.35а
- Раппопорт X. Философия истории в ее главнейших течениях // Философия и общество. Т.6. 1997.
- Рачков П.А. Социализм как форма социальной диалектики. М., 1985.
- Резник Ю.М. Пути системной реорганизации и интеграции социального знания (на примере отечественного обществознания / Личность. Культура. Общество. Т. П. Вып.1. 2000.
- Рейнгольд М.Ш. Исходная категория исторического материализма и основной вопрос философии. В кн.: Проблема начала и исходной категории в теории исторического материализма. М., 1981.
- Риккерт Г. Природа и культура // Культурология XX век. Антология. М., 1994.
- РиккертГ. О понятии философии. // Логос. Книга 1. СПб, 1910. 188 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998.
- Розенталь М.М. Принципы диалектической логики. М., 1960.
- Рожин В.П. Введение в марксистскую социологию. Л., 1962.
- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957.
- Рукопись К. Маркса «Критика политической экономии // Вопросы философии. 1967. № 7.
- Руткевич М.Н. Диалектика и социология. М., 1980.
- Сагатовский В.Н. Деятельность: монизм любой ценой или полифония? В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990.
- Свасьян К.А. Философия символических форм Э. Кассирера: Крит, анализ. Ереван, 1989.
- Семенов Ю.И. Этнология и гносеология // Этнографическое. обозрение. М. 1993. № 6.352.
- Семенов Ю.И. Философия истории. М: Старый сад, 1999.
- Сесюнина И.Б. Производительное потребление как единство духовного производства и потребления. В сб.: Формационный анализ в системе категорий исторического материализма. Свердловск: изд-во УрГУ, 1983.
- Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1990.
- Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1994.
- Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1981.
- Сорокин Питирим. Система социологии. Т.1. Социальная аналитика. Петроград, 1920.
- Сорокин Питирим. Общедоступный учебник социологии. Ярославль, 1920.
- Сорокин П.А. Социологические теории современности. М: ИНИОН РАН, 1992.
- Сорокин П. О так называемых факторах социальной эволюции // Вопросы философии. 1991. № 5.
- Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
- Сорокин П.А. Система социологии. Т.1. Социальная аналитика: Учение о строении простейшего (родового) социального явления. М.: Наука, 1993.
- Сорокин П.А. Система социологии. Т.2. Социальная аналитика: учение о строении сложных социальных агрегатов. М.: Наука, 1993
- Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997.
- Сорокин Питирим. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений./ Пер. с англ., комментарии и статья В. В. Сапова. СПб: РХГИ, 2000.353
- Социология. Основы общей теории: Учеб. пособие /Под ред. Г. В. Осипова, JI.H. Москвичева. М.: Аспект Пресс, 1996.
- Социология. Учебное пособие. -М.: Знание, 1995.
- Спиноза Б. Избранные произведения. М., Т.1.1957.
- Спирин В.М. Теория потребностей. Тверь, 1994.
- Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие для вузов. М.: Политиздат, 1988.
- Степин B.C. Философская антропология и философия науки. М.: Высшая школа, 1992.
- Степин B.C. Личность в технотропную эпоху // Наука в России. 1993. № 2.
- Степин B.C. Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996.
- Структуры и формы материи. М., 1967.
- Тарнас Р. История западного мышления./ Пер. с англ. Т. А. Азаркович. М.: Крон-Пресс, 1995.
- Тахтарев K.M. Общество и его механизм. (К пониманию общественной жизни). Петербург: КООПЕРАЦИЯ, 1922.
- Терборн Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке. THESIS, Т. П. Вып.4. 1994,
- Тимирязев К.А. Жизнь растений. М.-Л., 1936.
- Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // Этнографическое обозрение. 1992. № 1.
- Тойнби А.Дж. Постижение истории: Пер. с англ, М.: Прогресс, 1991.
- Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка /Пер. с англ. М.: Весь мир, 2000.354
- Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ./Э. Тоффлер. М.: ООО «Изд-во Act», 2001,
- Трёльч Э. Историзм и его проблемы: Пер. с нем. М.: Юрист, 1994.
- Турен Ален. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998.
- Туркин Л.П. Принципы диалектического материализма. Красноярск, 1984.
- Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М.: Наука, 1966.
- Уледов А.К. Социологические законы. М., 1975.
- Уледов А.К. Духовная жизнь общества. М., 1980.
- Федотова В.Г. Практическое и духовное освоение действительности. М., 1991.
- Федоренко Н.П. К вопросу о «клеточке» социалистического производства.//Вопросы философии. 1978. № 4.
- Федосеев П.Н., Ильичев Л. Ф. Некоторые методологические проблемы исторического материализма. Вопросы философии, 1984, № 6.
- Философия. Книга 2. М.: Изд-во МСХА, 1996.
- Философия. 4.2. Основные проблемы философии: Учеб. пособие для вузов. / Под ред. проф. В. И. Кириллова. М.: Юристь, 2000.
- Философия: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Лаврененко. 2-е изд. испр. и доп. — М.: Юристь, 2001.
- Философская энциклопедия. Т.1−5. М., 1960−1970.
- Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев и др. М.: Энциклопедия, 1983.
- Формации или цивилизации? (Материалы «круглого стола»), // Вопросы философии. 1989. № 10.355
- Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. Новосибирск, 1982.
- Фофанов В.П. Социальная деятельность и теоретическое отражение. Новосибирск, 1986.
- Франк C.JI. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
- Франк C.JI. Крушение кумиров. Берлин, 1924.
- Франк C.JI. Духовные основы общества: Введение в социальную философию // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли. Л., 1991.
- Фролов С.С. Социология. Учебник. Для высших учебных заведений. М.: Наука, 1994.
- Цивилизация. Вып. 1. М., 1992.
- Чупина Г. А., Суровцева Е. В. Современное цивилизационное мышление и российский менталитет. // Социально-политический журнал. 1994. № 9−10.
- Шаталова Г. С. Выбор пути. М.: Елена и К0, 1996.
- Шафф А. Мой XX век. // Свободная мысль. 1994. № 4.
- Швырев B.C. Проблемы разработки понятия деятельности как философской категории. -В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990.256.1Пеллинг В. Система трансцендентального идеализма. М., 1 936 356
- Шпакова Р.П. Макс Вебер о проблеме ценностей в социальном знании. В кн.: проблемы теоретической социологии. СПб, 1994.
- Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1994.
- ШтомпкаП. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996.
- Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. B.C. Автономова. М.: Экономика, 1995.
- Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М.: Шк. Культ. Политики, 1997.
- Ющенко Ю.А. Современные методологические проблемы теории исторического материализма. М.: ИНИОН АН СССР, 1989.263 .Юнг К. Г. Архетип и символ./ Сост. и вступ.ст. A.M. Руткевича. М.: Ренессанс, 1991.
- Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество. Резюме многолетней дискуссии социологов. Публикация в Интернете. 2001.
- Ядов В.А., Мешкова Е. Г. К итогам XIII Всемирного Социологического конгресса (18−23 июля 1994 г., Билефельд, Германия) // Социологический журнал, 1994. № 4.
- Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993.
- Яковец Ю.В. Формирование постиндустриальной парадигмы: истоки и перспективы. // Вопросы философии. 1997. № 1.
- Яковлев И.П. Системно-циклический подход в исследованиях российского общества. В кн.: Проблемы теоретической социологии. СПб, 1994.
- Archer M.S. Culture and Agency. Cambridge: University Press.1988.
- Aron R. Main Currents in Sociological Thought, vol.1. Garden Sity: Doubleday Anchor, 1968.357 271 .Bell D. The Cultural Contradiction of Capitalism. N.Y., 1976.
- Bernstein R. Praxis and Action. London: Duckworth, 1972.
- Boudon, Raymond: «Will sociology ever be a Normal Science?», i Theoty and Society. 1989. Vol.17, nr.5.
- Cassirer E. Philosophie der simbolischen Formen. Berlin. Bd. l, 1923.
- Dilthey W. Gesammelte Schriften. Stuttgart, 1967−1968.
- Geertz C. The interpretation of culture. New York/Basic Books, 1973.
- Giddens A. Central Problems in Social Theory. London, Macmillan, 1979.
- Giddens, Anthony: The Constitution of Society. Cambridge, 1984.
- Goodenough W. Culture, Language and Society. Menlo Park, Calif, 1981.
- Habermas I. Theory des kommunikaven Hendelns. Bd. l: Handlungsrationalitat und gesellschaftliche Rationalosierung. Frankfurt a.M.: Suhrkampf, 1985.
- Hottois G. De la Renaissance a la Postmodernite. Paris, 1998.
- Hollis M. Cunning of Reason. Cambridge: University Press, 1987.
- Kroeber A.L. Style and Civiluzation. Jthaca, N.J., 1957.
- Kroeber A.L. Klukhohn C. A Critical Concepts and Definitions // Papers of Probody Museum of American Archeology and Ethology. 1959
- Leslie G.H. Order and Change: Introductory Sociology. New York, 1973.
- Lockwood D. Some Remarks on «The Social System // System Change and Conflict. N.Y.: The Free Press, 1964.287 .Martin W. The Information Society. L., 1988.
- McMurtry, J. The Structure of Marx’s World-View. Princeton: Princeton University Press, 1978.289.0gburn W. Social Change. N.Y., 1950.358
- Parsons T. The Social System of social action. N.Y., 1937.
- Parsons T. The Structure of Social Action. Chicago, Free Press, 1949.
- Parsons T. The Social System. New York: Free Press, 1951.
- Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. -Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1966.
- Parsons T. Action theory and the human condition. N.Y., 1978.
- Ritzer, George. Toward an Intergrated Sociological Paradigm. -Boston, 1981.
- Rostow W.W. The stages of economic growth/ London, 1960.
- Rostow W.W. Politics and the stages of growth. Cambridge (Mass.), 1971.
- Serres M. Esclaircissements. Cing entretiens aves Bruno Latour. Paris 1992.
- Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. 1−4. N.Y., 1937−1941
- Sorokin P.A. Practical Influence of impractical Sociological Theories // Sociology and Social Research. Vol. 47, 1962. N 2.
- Sorokin P. Society, Culture and Personality. N.Y. 1962.
- Weber M. Gesammelten Aufsatze zur Wissenschaftslehre. Tubingen, 1951.
- Williams R. The Sociology of Culture. Chicago, 1995.