Своеобразие чувашской художественно-философской прозы
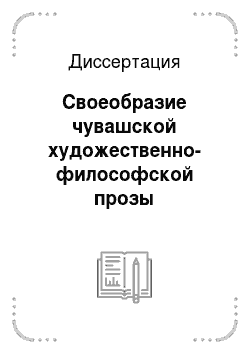
Диссертация
Фактором гармоничного сосуществования элементов публицистики и философского мышления в прозе стало и слияние обыденного и вечного в ее тематике. И одной из таких тем в чувашской литературе конца XX века стала проблема национального самоопределения героя, которая особенно ярко проявилась в творчестве Б. Чиндыкова. Вместе с тем, образ социального человека и элементы публицистики… Читать ещё >
Содержание
- I. Герой в структуре художественно-философско ения. аз социального человека и элементы публицистики зенно-философской прозе., жественно-философское осмысление жизни и духовный м 1ческого героя
- II. Национально-философское и художественн< риятие писателя. i эажение национальных традиций в художественн ской прозе
Список литературы
- Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики: сб. ст. / В. Ф. Асмус. М.: Искусство, 1968. — 654 с.
- Барабаш Ю. Я. Вопросы эстетики и поэтики / Ю. Я. Барабаш. Изд.3.е. М.: Совет. Россия, 1978. — 384 с.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин.4.е изд. М.: Совет. Россия, 1979. — 320 с.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества: сб. избр. тр. / примеч. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова. М.: Искусство, 1986. — 445 с.
- Бахтин М. М. Тетралогия / сост., текстол. подгот., науч. аппарат И. В. Пешкова- коммент. B.JI. Махлина и др. М.: Лабиринт, 1998. — 607 с.
- Бахтин М.М. Автор и герой: к филос. основам гуманит. наук / М. М. Бахтин- сост. и авт. вступ. ст. С. Г. Бочаров. СПб.: Азбука, 2000. — 333 с.
- Бахтин М. М. Эпос и роман: сб. / М. М. Бахтин- сост. В. В. Бочаров. -СПб.: Азбука, 2000.-301 с.
- Белая Г. А. Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов / Г. А. Белая. М.: Наука, 1977. — 255 с.
- Белая Г. А. Художественный мир современной прозы / Г. А. Белая. М.: Наука, 1983. — 192 с.
- Белецкий А. И. В мастерской художника слова / А. И. Белецкий. -М.: Высш. шк., 1989, — 160 с.
- Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 3 т. Т.2 / под общ. ред.Ф. М. Головенченко. М.: Гослитиздат, 1948. — 931 с.
- Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе / сост., предисл. и примеч. В. И. Кулешова. -М.: Просвещение, 1983.-272 с.
- Бердяев Н.А. Философия свободы- Смысл творчества / вступ. ст., сост., подгот. текста, примеч. Л. В. Полякова. -М.: Правда, 1989. 607 с.
- Бердяев Н. А. О назначении человека: сб. / авт. вступ. ст. П. П. Гайденко- примеч. Р. К. Медведевой. М.: Респ., 1993. — 393 с.
- Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства в двух томах. T.I. Смысл творчества / вступ. ст., сост., примеч. Р. А. Гальцевой. М.: Искусство, 1994. — 542 с.
- Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства в двух томах. Т. П. Миросозерцание Достоевского / вступ. ст., сост., примеч. Р. А. Гальцевой. -М.: Искусство, 1994. 510 с.
- Бердяев Н. А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века- Судьба России / Н. А. Бердяев. М.: ЗАО «СварогиК», 1997.-541 с.
- Бердяев Н. А. О человеке, его свободе и духовности: избр. тр. / Н. А. Бердяев- ред.-сост. Л. И. Новикова и И. Н. Сиземская. М.: МПСИ- Флинта, 1999.-311 с.
- Библер B.C. Мышление как творчество: (введение в логику мысленного диалога) / В. С. Библер. Л.: Политиздат, 1975. — 399 с.
- Библер B.C. От наукоучения к логике культуры: два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. М.: Изд-во полит, лит., 1991.-413 с.
- Бочаров А. Г. Бесконечность поиска: художественные поиски современной советской прозы / А. Г. Бочаров. М.: Совет, писатель, 1982.-423 с.
- Бочаров С. Г. О художественных мирах / С. Г. Бочаров. М.: Совет. Россия, 1985. — 296 с.
- Бычков В. В. Эстетическое сознание Древней Руси / В. В. Бычков. -М.: Знание, 1988.-61 с.
- Бычков В. В. Эстетика в России XVIII века / В. В. Бычков. -М.: Знание, 1989.-63 с.
- Бычков В. В. Эстетический лик бытия / В. В. Бычков. М.: Знание, 1990.-63 с.
- Бычков В. В. Эстетика. Краткий курс / В. В. Бычков. М.: Проект, 2003.-384 с.
- Вайман С.Т. Гармонии таинственная власть: об органической поэтике / С. Т. Вайман. М.: Совет, писатель, 1989. — 368 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика / вступ. ст. И. К. Горского- коммент. В. В. Мочаловой. М.: Высш. шк., 1989. — 406 с.
- Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей / В. В. Виноградов. М.: Гослитиздат, 1961. — 614 с.
- Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы / И. Ф. Волков. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Искусство, 1989. — 250 с.
- Вопросы эстетики. Т. I: сб. ст. / Г. Недошивин, В. Тасалов, С. Батракова и др. М.: Искусство, 1958.-436 с.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественной формы. Эпос. Лирика. Театр / Г. Д. Гачев. М.: Просвещение, 1968. — 302 с.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира / Г. Д. Гачев. М.: Совет, писатель, 1988.-448 с.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира: курс лекций / Г. Д. Гачев. -М.: Academia, 1998.-430 с.
- Гегель. Эстетика. В 4 т. Т.1 / Гегель- под ред. М. Лифшица.- М.: Искусство, 1968.-312 с.
- Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер- пер. и примеч. А. В. Михайлова. М.: Наука, 1977. — 703 с.
- Гизатов К. Т. Диалектика национального и интернационального в советском искусстве / К. Т. Гизатов. М.: Знание, 1982. — 64 с.
- Гиршман М. М. Ритм художественной прозы: моногр. / М. М. Гиршман. М.: Совет, писатель, 1982. — 367 с.
- Голан А. Миф и символ / А. Голан. М.: Рус. Лит., 1993. — 375 с.
- Грифцов Б. А. Психология писателя / Б. А. Грифцов. М.: Худож. лит., 1988.-462 с.
- Гулыга А. В. Принципы эстетики. Над чем работают, о чем спорят философы / А. В. Гулыга. М.: Политиздат, 1987. — 286 с.
- Днепров В. Д. Идеи времени и формы времени / В. Д. Днепров. -Л.: Совет. Писатель, Ленингр. отд-ние, 1980. 598 с.
- Егоров Н. И. Чувашская мифология / Н. И. Егоров // Культура чувашского края. Чебоксары, 1994. — Часть I. — С. 109−147.
- Жанр. Стиль. Метод: сб. науч. тр. / науч. ред. К. Ш. Кереева-Канафиева. Алма-Ата: Изд-во Каз. гос. ун-та, 1990. — 113 с.
- Жанрово-композиционное своеобразие реалистического повествования / под ред. В. В. Гура. Вологда, 1982.- 173 с.
- Затонский Д. Искусство романа и XX век / Д. Затонский. М.: Совет, писатель, 1973. — 423 с.
- Затонский Д. Художественные ориентиры XX века / Д. Затонский. -М.: Совет, писатель, 1988.-416 с.
- История эстетической мысли. В 6 т. T. I: Древний мир. Средние века в Европе / Ин-т философии АН СССР- Сектор эстетики. М.: Искусство, 1982. — 464 с.
- История эстетической мысли. В 6 т. Т.2: Средневековый Восток. Европа XY XYIII веков / Ин-т философии АН СССР- Сектор эстетики. -М.: Искусство, 1985. — 456 с.
- Кривцун О. А. Эстетика: учеб. для вузов / О. А. Кривцун. М.: Аспект Пресс, 2003. — 447 с.
- Крутоус В. П. Категория прекрасного и эстетический идеал / В. П. Крутоус. М.: Изд-во МГУ, 1985. — 168 с.
- Лармин О. В. Художественный метод и стиль / О. В. Лармин. -М.: Изд-во МГУ, 1964. 271 с.
- Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества / Д. С. Лихачев. СПб.: Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1999. — 191 с.
- Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении / А. Ф. Лосев. М.: Мысль, 1989. — 204 с.
- Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / А. Ф. Лосев. М.: Мысль, 1993. — 959 с.
- Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность / общ. ред. А.А. Тахо-Годи, И. И. Маханьклва. М.: Мысль, 1994. — 919 с.
- Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Самое само: соч. -М., 1999.-С. 207−404.
- Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чувашской веры: собр. в некоторых местностях Казанской губернии В. Магнитским. -Казань: Тип. Император, ун-та, 1881, — 268 с.
- Манн Ю. В. Диалектика художественного образа / Ю. В. Манн. -М.: Совет, писатель, 1987. 320 с.
- Нигматуллина Ю. Г. Национальное своеобразие эстетического идеала / Ю. Г. Нигматуллина. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1970. — 212 с.
- Никольский Н.В. Христианство среди чуваш среднего Поволжья в XVI—XVIII вв.еках: ист. очерк / Н. В. Никольский. Казань: Типо-литогр. Императ. ун-та, 1912. — 416 с.
- Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш / Н. В. Никольский. Казань: 3-я Тип. Губ. Совета, 1919. — 104 с.
- Никольский Н.В. Собрание сочинений. В 4 т. Т.1. Труды по этнографии и фольклору чувашского народа. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2004. — 527 с.
- Османова З.Г. Встречи и преображения: поэтика повествоват. жанров в контексте взаимосвязей нац. лит. / отв. ред. Н. К Гей. М.: Наследие, 1993. -232 с.
- Петелин В. В. Метод. Направление. Стиль / В. В. Петелин. -М.: Искусство, 1963. 88 с.
- Пинский JI. Е. Магистральный сюжет: сб. / JI. Е. Пинский М.: Совет, писатель, 1989. — 410 с.
- Розин В. М. Культурология: учеб. для вузов / В. М. Розин. М.: Инфра-М- Форум, 2002. — 342 с.
- Соколов А.Н. Теория стиля / А. Н. Соколов. М.: Искусство, 1968.-223 с.
- Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: очерки по истории философии икультуры /Э.Ю.Соловьев.-М.:Изд-вополит.лит., 1991.-432с.
- Столович J1.H. Эстетическая и художественная ценность: сущность, специфика, соотношение / JI. Н. Столович. М.: Знание, 1983. — 64 с.
- Столович JI.H. Жизнь творчество — человек: функции художественной деятельности / JI. Н. Столович.-М.: Политиздат, 1985.-415 с.
- Утехин Н. П. Жанры эпической прозы / Н. П. Утехин. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. — 185 с.
- Федоров Г. И. Художественный мир чувашской прозы 19 501 990-х годов: моногр. / Г. И. Федоров. Чебоксары: Чуваш, гос. ин-т гуманитар, наук, 1996. — 304 с.
- Федоров Г. И. Санарла самах шыравё / Г. И. Федоров. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1996. — 224 с. — Пер. загл.: Поиск изящной словесности.
- Хмара В. Н. Эстетический идеал и творчество: моногр. / В. Н. Хмара. М.: Совет, писатель, 1983. — 271 с.
- Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек / М. Б. Храпченко. М.: Совет, писатель, 1976. — 368 с.
- Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа / М. Б. Храпченко. М.: Худож. лит., 1986. — 439 с.
- Чернухина И. Я. Элементы организации художественного прозаического текста / И. Я. Чернухина. Воронеж: Изд-во Воронеж, унта, 1984.-115 с.
- Эстетика и пути творчества: сб. ст. / под ред. В. В. Ванслова и М. Т. Кузьминой -М.: Изобразительное искусство, 1977. 288 с.
- Эстетика: учеб. пособие для вузов / под ред. А. А. Радугина. -М.: Центр, 1998.-237 с.
- Эстетические взгляды писателя и художественное творчество / отв. ред. В. А. Михельсон. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1979. -175 с.
- Эстетический идеал и проблема художественного многообразия / отв. ред. В. В. Новиков. М.: Мысль, 1968. — 359 с.
- Абрамов В.А. «Ай, мантаран хир мулкачи» повесть-эскиз пирки пуда килнё шухашсене даварни / В. А. Абрамов // Таван Атал. 2002. — № 2. — С. 2−4. — Пер. загл.: Некоторые размышления о повести-эскизе «У нас колесница одна.».
- Акматалиев А. Айтматовское слово / А. Акматалиев // Айтматов Ч. Т. И дольше века длится день (Белое облако Чингисхана) — Лицом к лицу: роман, повесть. Ф.: Гл. ред. КСЭ, 1991. — С. 446−478.
- Ш. Акундов М. Д. Пространство и время: от мифа к науке / М. Д. Акундов // Природа. 1987. — № 12. — С. 58−70.
- Александров С.А. Поэтика Константина Иванова. Вопросы метода, жанра, стиля / С. А. Александров. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1990.- 192 с.
- Аникст А. А. Трагедия Шекспира «Гамлет». Лит. коммент.: кн. для учителя / А. А. Аникст. М.: Просвещение, 1986. — 124 с.
- Артемьев Ю. М. Этем тивёдё: критикалла статьясен пуххи/ Ю. М. Артемьев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1980. — 112 с. — Пер. загл.: Долг человека.
- Артемьев Ю. М. Парнад чанлахёпе санарсен илемёшён: критика статйисемпе рецензисем / Ю. М. Артемьев. Ш.: Чавашкён. изд-ви, 1984.- 128 с.-Пер. загл.: За жизненную правду и красоту героев.
- Артемьев Ю. М. Ытарайми пурна: статьясемпе тёрленчёксем/Ю.М. Артемьев.-Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1988.-127 с.-Пер. загл.: Чарующие краски жизни.
- Артемьев Ю. М. Ирёк шухашсем: критика статйисем / Ю. М. Артемьев Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1991. — 265 с. — Пер. загл.: Вольные мысли.
- Артемьев Ю. М. Страсть к полемике: статьи, рецензии / Ю. М. Артемьев. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2003. — 194 с.
- Аспект 1989: исслед. по Мордов. лит. Вып. 96 / сост. и отв. ред. А.В. Алешкин- Тр. НИИ яз., лит., истории, экономики при Сов. Мин. Морд. АССР. — Саранск, 1989. — 192 с.
- Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. -М.: Совет. Россия, 1988. 508 с.
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: справ.-библиогр. материалы / А. Н. Афанасьев. М.: Индрик, 2000. — 574 с.
- Ахметшин Б. Г. Несказочная проза горнозаводского Башкортостана и Южного Урала / науч. ред. Р. Г. Кузеев. Уфа: Башк. гос. ун-т, 1996.- 189 с.
- Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 1−2 / под ред. А. А. Егорова. Чебоксары: Руссика, 1994. — 584 с.
- Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 9−10 / сост. Н. А. Резюков. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1999. — 616 с.
- Ашмарин Н. И. Чувашская народная словесность: исслед. Автобиогр., воспоминания. Письма / сост. и примеч. В. Г. Родионова. -Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2003. 429 с.
- Баимов Р. Н. Судьба жанра: взаимодействие и развитие жанровых форм башкирской прозы / Р. Н. Баимов. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1984.-320 с.
- Балла О. А. Религия, магия, миф: современные философские исследования / О. А. Балла // Вопросы философии. -1994. № 4. — С. 153−157.
- Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 9 т. Т.6. / редкол. Н. К. Гей и др. М.: Совет, писатель, 1981. — 658 с.
- Булыко А. Н. Большой словарь иноязычных слов: 35 тысяч слов / А. Н. Булыко. М.: Мартин, 2004. — 704 с.
- Ванеев И. И. Мустай Карим: воин, поэт, гражданин / И. И. Ванеев. -М.: Герои Отечества, 2004. 581 с.
- Владимирова Н. В. «Ардури» балладари чаваш санарё: курс ёдё. 1968./Н.В.Владимирова- НА ЧГИГН, отд. V, ед. хр. 2070, инв. № 10 877. Пер. загл.: Образ чуваша в балладе «Леший».
- Воронов В. И. Художественная концепция: из опыта советской прозы 60−80-х годов / В. И. Воронов. М.: Совет, писатель, 1984. — 384 с.
- Гачев Г. Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке / Г. Д. Гачев. М.: Педагогика, 1991. — 272 с.
- Гей Н. К. Мир, человек, искусство / Н. К. Гей, В. Пискунов. -М.: Совет, писатель, 1965. 293 с.
- Гей Н. К. Проза Пушкина: поэтика повествования / Н. К. Гей. -М.: Наука, 1989.-269 с.
- Гинзбург Л. Я. О старом и новом: ст. и очерки / Л. Я. Гинзбург. -Л.: Совет. Писатель, Ленингр. отд-ние, 1982.-423 с.
- Достоевский Ф.М. Письма. В 4 т. Т.4 / изд. подгот. С. В. Белов, В. А. Туниманов. М.: Гослитиздат, 1959. — 606 с.
- Достоевский Ф.М. Возвращение человека: сб. / сост. и примеч. М. М. Стахановой. -М.: Совет. Россия, 1989. 558 с.
- Достоевский Ф.М. Дневник писателя: избр. страницы / сост., авт. вступ. ст. и коммент. Б. Н. Тарасов. М.: Современник, 1989. — 555 с.
- Единство: сб. ст. о многонац. совет, лит. / сост. Л. А. Теракопян. М.: Худож. лит., 1972. — 432 с.
- Захемски Л. Роль фольклора в эпических произведениях К. Иванова-Прта / Л. Захемски // Вопросы поэтики К. Иванова: материалы конф., посвящ. 100-летию со дня рождения поэта. Чебоксары: НИИ языка, лит., истории и экономики, 1991. -С.32−38.
- Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве / пер. с нем. Н. М. Берновской.-М.: Искусство, 1978.-431 с.
- Ибрагимов М. А. Голоса жизни: классики и современники / М. А. Ибрагимов.-М.: Совет, писатель, 1985. 318 с.
- Иванов В. П. Этническая история чувашей: происхождение и формирование чувашского народа / В. П. Иванов. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1992. — 67 с.
- Иванов Ип. Кам вал паянхи чаваш / Ип. Иванов // Таван Атал. — 1983. — № 4. — С. 59−63. — Пер. загл.: Кто он — современный чуваш.
- Иванова Н. Б. Точка зрения: о прозе последних лет / Н. Б. Иванова. -М.: Совет, писатель, 1988.-442 с.
- Ипполитова Н.Б. Изобразительно-выразительные средства в публицистике: учеб. пособие / Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. -Саранск: МГУ, 1988.-79 с.
- Ислам: крат. Справ. / С. М. Алиев и др. М.: Наука, 1986.139 с.
- Ишентей Н. Вилёмсёрлёх философийён вёрентёвё / Н. Ишентей // Халах шкулё. 1997. — № 4. — С. 76−81. — Пер. загл.: Учение философии бессмертия.
- Камю А. Бунтующий человек / пер. с фр. О. И. Скуратович. -М.: Изд-во полит, лит., 1993.-416 с.
- Камю А. Счастливая смерть / сост. В. А. Луков- пер. с фр. И. И. Кузнецовой и др. М.: Фабр, 1993. — 574 с.
- Каррыев Б. А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов / Б. А. Каррыев. М.: Наука, 1968. — 259 с.
- Кириллов К. К тайнам народной стихии / К. Кириллов // Павлов Ф. П. Собрание сочинений: поэзия, драматургия, проза, очерки, статьи, письма. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1992. — С. 22 — 34.
- Ковтун Е. Поэтика необычайного: художественные миры, фантастики, волшебные сказки, утопии, притчи, мифы: на материале европ. лит. первой половины XX в. / Е. Ковтун. М.: Изд-во МГУ, 1999. — 306 с.
- Комиссаров Г. И. Чаваш халахён историйё / пичете В. Г. Родионов хатёрленё. Ш.: КПСС Чаваш обкомён изд-ви, 1990. -63 с. — Пер. загл.: История чувашского народа.
- Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание / И. С. Кон. М.: Политиздат. — 1984. — 335 с.
- Кондрашова И. И. Поиски художественного синтеза / И. И. Кондрашова. Майкоп: Адыг. гос. ун-т, 2003. — 55 с.
- Кордуэлл М. Психология. А-Я: Слов.-справ. / пер. с англ. К. С. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. — 448 с.
- Курляндская Г. Б. Нравственный идеал героев Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского / Г. Б. Курляндская. М.: Просвещение, 1988. — 256 с.
- Левченко В. Г. Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля / В. Г. Левченко. М.: Совет, писатель, 1983. — 230 с.
- Лейдерман Н. Герой из жизни / Н. Лейдерман // Урал.- 1986.-№ 7.-С. 174−183.
- Лисовская Г. К. Типология национального сознания: (поэма «Нарспи» К. Иванова-Прта и творчество К.Ф. Жакова) / Г. К. Лисовская // Вопросы поэтики К. Иванова: материалы конф., посвящ. 100-летию со дня рождения поэта. Чебоксары, 1991. — С. 56−62.
- Лихачев Д. С. Прошлое будущему: ст. и очерки / Д. С. Лихачев. -Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. — 575 с.
- Лихачев Д. С. Раздумья о России / Д. С. Лихачев. СПб.: Logos, 1999.-667 с.
- Ломунова М. Н. Мустай Карим: очерк творчества / М. Н. Ломунова. -М.: Худож. лит., 1988.-206 с.
- Манн Т. Художник и общество: статьи и письма: пер. с нем. / сост. С. Апта. М.: Радуга, 1986. — 438 с.
- Манн Ю. В. Поэтика Гоголя / Ю. В. Манн. 2-е изд., доп. — М.: Худож. лит., 1988.- 413 с.
- Мейлах Б. С. Талант писателя и процессы творчества / Б. С. Мейлах. -Л.: Совет, писатель, 1969.-446 с.
- Мелетинский Е. М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов / Е. М. Мелетинский // Вопросы философии. 1991. — № 10. — С. 41 -47.
- Мифологический словарь / А. А. Аншба и др. М.: Совет, энциклопедия, 1990. — 672 с.
- Мифология: энцикл. / гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Большая Рос. энцикл., 2003. — 736 с.
- Молодые о молодых: сб. лит.-крит. ст. молодых критиков / редкол.: В. Дементьев, В. Горбачев и др. М.: Молодая гвардия, 1988. — 316 с.
- Мусин Ф. М. По координатам жизни: размышления о современной татарской прозе / Ф. М. Мусин. М.: Современник, 1976. — 206 с.
- Нарышкина Н. А. Художественная критика пушкинской поры / Н. А. Нарышкина. Л.: Худож. РСФСР, 1987. — 88 с.
- Никифорова В. В. Постмодернизм в современной чувашской прозе / В. В. Никифорова // Диалекты и история тюркских языков во взаимодействии с другими языками: сб. науч. ст. Чебоксары, 2004. — С. 206−209.
- Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 1 / В. С. Степин и др. М.: Мысль, 2001. — 722 с.
- Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2 / В. С. Степин и др. М.: Мысль, 2001. — 634 с.
- Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 3 / В. С. Степин и др. М.: Мысль, 2001. — 694 с.
- Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 4 / В. С. Степин и др.-М.: Мысль, 2001.-605 с.
- Нуйкин А. А. Искусство и нравственность / А. А. Нуйкин. -М.: Знание, 1981.-56 с.
- О писательском труде: сб. ст. и выступлений совет, писателей / ред. Н. Ждановский. М.: Совет, писатель, 1955. — 380 с.
- Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии / под ред. Н. Е. Егорова. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1985. — 303 с.
- Рамазанов Г. 3. Многоцветье / Г. 3. Рамазанов. М.: Современник, 1980. — 240 с.
- Родионов В.Г. Паянхи лирикалла герой идеале / В. Г. Родионов // Ялав. 1976. — № 10. — С. 27−28. — Пер. загл.: Идеал лирического героя нашего времени.
- Родионов В. Г. Фольклор у чувашей / В. Г. Родионов // Чуваши: современные этнокультурные процессы. М., 1988. — С. 140−154.
- Родионов В. Г. Энергия, воплощенная в слове / В. Г. Родионов // Сеспель М. К. Собрание сочинений: поэзия, проза, драматургия, письма. -Чебоксары, 1989. С. 8 — 45.
- Родионов В. Г. О системе чувашских обрядов / В. Г. Родионов // Чувашская народная поэзия. Чебоксары, 1990. — С. 3−64.
- Родионов В. Г. К тайнам народной стихии / В. Г. Родионов // Павлов Ф. П. Собрание сочинений: поэзия, драматургия, проза, очерки, статьи, письма. Чебоксары, 1992. — С. 8 — 22.
- Родионов В.Г. Хвети хевти: Хвети хайлавёсем пичетленнёренпе 165 дул дитнё май / В. Г. Родионов // Хыпар. 1998. — Юпа, 13, 14. — С. 3. — Пер. загл.: Энергия Хведи: к 165-летию первой публикации произведений Хведи.
- Родионов В. Г. Михаил Федоров: «Ардури» анлантаравё / В. Г. Родионов. Ш.: ЧПУ, 1999. — 75 с. — Пер. загл.: Михаил Федоров: комментирование поэмы «Леший».
- Савельева В. В. Поэтика и философия сновидений в романе JI. Толстого «Война и мир» / В. В. Савельева // Русская словесность. -2004.-№ 5.-С. 17−26.
- Сараева Е. J1. В. Г. Белинский о роли христианства в формировании европейской цивилизации / E.JI. Сараева // Вопросы отечественной и зарубежной истории. Ярославль, 2003. — С. 20−24.
- Сбоев В. Заметки о чувашах. Исследования об инородцах Казанской губернии / под ред. Р. К. Игнатьевой. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2004.- 142 с.
- Селезнев Ю. И. Избранное / сост. М. Кузнецовой-Селезневой. -М.: Современник, 1987. 508 с.
- Слово о слове. Статьи новых русских критиков / ред.-сост. Н. И. Дорошенко. М.: Союз-Принт, 2003. — 258 с.
- Современная книга по эстетике / отв. ред. М. Марков. М.: Политиздат, 1957. — 112 с.
- Сучков Б. Л. Предисловие / Б. Л. Сучков // Пруст М. По направлению к Свану, пер. с фр. М., 1973. — С. 5−30.
- Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: (юбилей, издание). Т.48: Дневники и записные книжки. 1857−1867 / под общ. ред. В. Г. Черткова. -М.-Л.: Худож. лит., 1947. 618 с.
- Толстой JI. Н. Поли. собр. соч.: (юбилей, издание). Т.53: Дневники и записные книжки. 1895−1899 / под общ. ред. В. Г. Черткова. -М- JL: Худож. лит., 1956. 561 с.
- Топоров В. Н. Миф. Ритуал, Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического / В. Н. Топоров. М.: Прогресс, 1995. — 624 с.
- Угринович Д. Сущность первобытной мифологии и тенденции ее эволюции / Д. Угринович // Вопросы философии. 1980. — № 9. — С. 135−147.
- Федоров Г. И. Чаваш прозин пысак асти / Г. И. Федоров // Скворцов Ю. И. Уках хуранё: поведсемпе калавсем. Ш., 1993. — С. 5 -22. — Пер. загл.: Мастер чувашской прозы.
- Федоров Г. И. Чаваш поведё 1967−1990 дулсенче (историпе теории ыйтавёсем) / Г. И. Федоров // Санар. Тёпчевсем. -Ш, 2000. С. 10−63. — Пер. загл.: Чувашская повесть в 1967—1990-х годах (вопросы истории и теории).
- Фортунатов Н. Творческая лаборатория Л. Толстого / Н.Фортунатов. М.: Современник, 1983.- 319 с.
- Фрезер Д. Золотая ветвь / Д. Фрезер. М.: Политиздат, 1983.-246 с.
- Хатипов Ф. М. Духовный мир героя: психологизм в современной татарской прозе / Ф. М. Хатипов. Казань: Татар, кн. изд-во, 1981.-296 с.
- Хлебников Г. Я. Меслетпе асталах: статьясен пуххи. LLL: Чаваш кён. изд-ви, 1984. — 270 с. — Пер. загл.: Метод и творчество: Сб. ст.
- Чанышев А. Н. Философия как «филология», как мудрость и как мировоззрение / А. Н. Чанышев // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1995. — № 5. — С. 55.
- Эзенкин В. С. Вкус черного хлеба / В. С. Эзенкин // Молодые о молодых: Сб. лит.-крит. ст. молодых критиков. М., 1974. — С. 202 — 216.
- Юмарт Г. Некоторые черты фольклорных традиций в современной поэзии народов Поволжья и Приуралья / Г. Юмарт //
- Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий / К. Г. Юнг.-М.: Медиум, 1993.-255 с.
- Яковлев Ю. В. Скворцов мистик / Ю. В. Яковлев // Юрий Скворцов. — Ш., 1992. — С. 30 — 47.
- Яковлев Ю. В. Русская православная церковь и старая чувашская вера: характер взаимоотношений / Ю. В. Яковлев // Проблема письменности и культуры: сб. статей. Чебоксары, 1992. — С. 31 -34.
- Яковлев Ю. В. Прозари кёдён жанран философилле суламё-сумё / Ю. В. Яковлев // Санар. Тёпчевсем. Ш., 2000. — С. 65 115. — Пер. загл.: Философская тенденция малого жанра прозы.
- I. Авторефераты диссертаций
- Андрюшкина М. В. Проблема нравственного выбора в фольклоре и современной теории нравственности (филос.-психол. анализ чуваш, нар. сказок): автореф. дис.. канд. филос. наук / Андрюшкина Марина Владимировна. Чебоксары, 1999. — 23 с.
- Борова А. Р. Художественная концепция человека и истории в прозе Алима Кешокова: автореф. дис.. канд. филол. наук / Борова Асият Руслановна. Нальчик, 1999. — 23 с.
- Ведерникова О. В. Фольклорные традиции в современной коми прозе: автореф. дис.. канд. филол. наук / Ведерникова Ольга Васильевна. Чебоксары, 1995. — 20 с.
- Демченко С. Г. Эволюция художественно-эстетического исследования жизни в адыгской философской лирике: автореф. дис.. канд. филол. наук / Демченко Седа Григорьевна. Майкоп, 1998. — 20 с.
- Ермакова Г. А. Философские мотивы творчества Г. Айги и восприятие их читателем: автореф. дис.. канд. филол. наук / Ермакова Галина Алексеевна. Чебоксары, 1996. — 16.
- Ермакова Г. А. Эстетические основы художественного мира Г.Н. Айги: автореф. дис.. доктора филол. наук / Ермакова Галина Алексеевна. Чебоксары, 2004. — 38 с.
- Козлова Д. В. Художественно-философские истоки и формы гротеска в новеллистике Э.А. По: автореф. дис.. канд. филол. наук / Козлова Диана Викторовна. Ниж. Новгород, 1998. — 18 с.
- Малышева 3. А. Художественное осмысление нравственно-философских проблем в лирике Исхака Мамбаша: автореф. дис.. канд. филол. наук / Малышева Зурет Асланчериевна. Майкоп, 1999. — 21 с.
- Никифорова В. В. Особенности художественной прозы Юрия Скворцова: автореферат дис.. канд. фил. наук / Никифорова Вера Витальевна. Чебоксары, 2002. — 26 с.
- Федоров Г. И. Проблемы поэтики чувашской психологической прозы 1950−1980-х годов: автореф. дис.. канд. филол. наук / Федоров Георгий Иосифович. Уфа, 1990. — 22 с.
- Федоров Г. И. Своеобразие художественного мира чувашской прозы 1950−1990-х годов: автореф. дис.. доктора филол. наук / Федоров Георгий Иосифович. Казань, 1997. — 46 с. 1. Художественные тексты
- Агивер Ф. Г. Юрату самсахё: повесть, калавсем / Ф. Г. Агивер. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1977. — 160 с. — Пер. загл.: Мыс любви.
- Агивер Ф. Г. Сар ачапа сара хёр: повесть / Ф. Г. Агивер. -III.: Чаваш кён. изд-ви, 1980. 255 с. — пер. загл.: Жених и невеста.
- Агивер Ф.Г. Цвет черемуховый: повести и рассказы: пер. с чуваш. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1982. — 240 с.
- Агивер Ф. Г. Утро журавлиное: повести: пер. с чуваш. -Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1985. 208 с.
- Айтматов Ч. Т. Собрание сочинений. В 3 т. Т1: повести / Ч. Т. Айтматов. М.: Молодая гвардия, 1982. — 607 с.
- Айтматов Ч. Т. Собрание сочинений. В 3 т. Т2: роман. Повести / Ч. Т. Айтматов. -М.: Молодая гвардия, 1983. 495 с.
- Айтматов Ч.Т. Собрание сочинений. В 3 т. Т 3: расскзы. Очерки, публицистика / Ч. Т. Айтматов. М.: Молодая гвардия, 1984. -575 с.
- Айтматов Ч. Т. И дольше века длится день (Белое облако Чингисхана) — Лицом к лицу: роман, повесть / Ч. Т. Айтматов. Ф.: Гл. ред. КСЭ, 1991.-480 с.
- Алендей В. С. Вёлле хурчё ылтан хурт: роман / В. С. Алендей. — Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1964. — 351 с. — Пер. загл.: Пчелка золотая.
- Алендей В. С. Хирте вёршёнсем вёдеддё: поведсем / В. С. Алендей. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1979. — 448 с. — Пер. загл.: Стрижи летают над полем.
- Алендей В. С. Сар дуделлё сара тутар: поведсем / В. С. Алендей. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1986. — 335 с. — Пер. загл.: Желтый платок с золотистой бахромой.
- Алендей В. С. Видё ывалпа виде хёр: поведсем / В. С. Алендей. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1988. — 384 с. — Пер. загл.: Три сына, три невесты.
- Алендей В. С. Хветудда: поведсемпе калавсем / В. С. Алендей. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1991. — 320 с. — Пер. загл.: Федосия.
- Артамонов Ю.М. Звездное озеро: повести и рассказы / пер. с мар. Ю. Артамонова. М.: Современник, 1975. — 240 с.
- Артамонов Ю.М. Вкус земляники: рассказы / пер. с мар. А. Шавкуты. М.: Современник, 1979. — 204 с.
- Артамонов Ю.М. Малиновые облака: повести и рассказы / пер. с мар. Ю. Артамонова. Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1991. — 382 с.
- Баширов Г. Б. Родимый край зеленая моя колыбель: повесть / пер. с тат. Р. Фаизовой. — М.: Совет. Россия, 1983. — 299 с.
- Баширов Г. Б. Семь родников: роман / пер. с тат. J1. Лебедевой. -М.: Современник, 1986.-398 с.
- Баширов Г. Б. Честь: роман / пер. с тат. Р. Фаизовой. М.: Совет. Россия, 1988. — 527 с.
- Баширов Г. Б. Суровое испытание: повести, рассказы, эссе / пер. с тат. Н. Алембековой и др. М.: Современник, 1991. — 269 с.
- Быков В. В. Карьер: повесть / В. В. Быков. М.: Совет, писатель, 1988.-304 с.
- Гилязов A.M. Девичьи письма: повести / пер. с тат. М. Ганиной. М.: Современник, 1973. — 222 с.
- Гилязов А. М. Диляра: роман / пер. с тат. А. Гилязова. М.: Молодая гвардия, 1973. — 191 с.
- Гилязов А. М. Любовь и ненависть: повести / пер. с тат. А. Гилязова. М.: Современник, 1979. — 448 с.
- Гилязов A.M. В пятницу вечером: роман, повесть / пер. с тат. Э.Сафонова. М.: Современник, 1985. — С. 383.
- Гилязов А. М. Весенние караваны: повести / пер. с тат. А. Гилязова. М.: Совет. Россия, 1987. — 239 с.
- Гилязов А. М. Три аршина земли: повести / пер. с тат. А. Гилязова. М.: Совет, писатель, 1987. — 447 с.
- Гилязов А. М. При свете зарниц: повести / пер. с тат. М. А. Ганиной и др. -М.: Совет. Россия, 1990. 496 с.
- Гордеев Д.В. (^еденхир дилё: поведсемпе калавсем / Д. В. Гордеев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1976. — 160 с. — Пер. загл.: Степной ветер.
- Гордеев Д.В. Тёрёленё кёпе: поведсем, калавсем / Д. В. Гордеев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1983. — 200 с. — Пер. загл.: Вышитая рубашка.
- Гордеев Д.В. Чи варам кун: калавсем, поведсем / Д. В. Гордеев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1985. — 205 с. — Пер. загл.: Самый длинный день.
- Гордеев Д.В. Карак туйё: поведсем / Д. В. Гордеев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1986. — 173 с. — Пер. загл.: Глухариный ток.
- Гордеев Д.В. Куккукла сехет: калавсемпе поведсем / Д. В. Гордеев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1988. — 352 с. — Пер. загл.: Часы с кукушкой.
- Гордеев Д.В. Акман ыраш: поведсемпе калавсем / Д. В. Гордеев. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1991. 256 е.- Пер. загл.: Несеяная рожь.
- Гордеев Д.В. £урта кунё: калавсемпе поведсем / Д. В. Гордеев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 2000. — 334 с. — Пер. загл.: День поминок.
- Гордеев Д.В. Qm дунатла курак: поведсем / Д. В. Гордеев. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 2002.-270 с.-Пер. загл.: Семикрылый грач.
- Гордеев Д.В. Аххаяс-маххаяс: повесть / Д. В. Гордеев // Ялав. -2003. № 7. — С. 5−56. — Пер. загл.: Ахаяс-махаяс.
- Гордеев Д.В. Хуп хушшинчи дылах: поведпе роман / Д. В. Гордеев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 2004. — 367 с. — Пер. загл.: Тайный грех.
- Григорьева Н. Тётреллё думар витёр: калав / Н. Григорьева // Таван Атал. 2003. — № 9. — С. 52 — 58. — Пер. загл.: Через моросящий дождь.
- Думбадзе Н. Закон вечности: романы. Повесть. Рассказы / пер. с груз. 3. Ахвледиани. М.: Худож. лит, 1988. — 589 с.
- Емельянов А.В. Катална уйах: калавсем / А. В. Емельянов. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1968. 112 с. — Пер. загл.: Луна на ущербе.
- Емельянов А.В. Чапшан пуранмастпар: поведсем / А. В. Емельянов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1971. — 208 с. — Пер. загл.: Живем не ради славы.
- Емельянов А .В. £ака дулди даврака: калавсем / А. В. Емельянов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1976. -192 с. — Пер. загл.: Узоры на листьях.
- Емельянов А.В. Шыв типнё дул: поведсем / А. В. Емельянов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1977. — 288 с. — Пер. загл.: Засушливый год.
- Емельянов А.В. Хура карад: поведсем / А. В. Емельянов. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1981. 423 с. — Пер. загл.: Черные грузди.
- Емельянов А.В. Кёмёл дил: роман / А. В. Емельянов. LLL: Чаваш кён. изд-ви, 1985. — 463 с. — Пер. загл.: Серебряный ветер.
- Емельянов А.В. Шанкарав куракё: поведсем, калавсем / А. В. Емельянов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1987. — 414 с. — Пер. загл.: Колокольчики.
- Емельянов А.В. Ят: роман, поведсем, калав / А. В. Емельянов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1992.-477с.-Пер. загл.: Имя.
- Ибрагимов Г. Г. Избранное. Романы и рассказы / пер. с тат. Р. Фаизовой. М.: Худож. лит., 1976. — 395 с.
- Ибрагимов Г. Г. Глубокие корни: романы / пер. с тат. Р. Фаизовой. М.: Совет. Россия, 1982. — 320 с.
- Иванов К. В. Сочинения / редкол.: А. В. Васильев, Н. Г. Краснов,
- B. П. Никитин и др. Изд. 2-е, доп. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1990.-448 с.
- Игнатьев В. Г. Канадсарсем: калавсем / В. Г. Игнатьев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1968. — 146 с. — Пер. загл.: Беспокойные.
- Игнатьев В. Г. Адта-ши эсё, манан юрату?: поведсемпе калавсем / В. Г. Игнатьев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1990. — 255 с. — Пер. загл.: Где же ты, моя любовь?
- Ильбек Н.Ф. Суйласа илнисем: 2 пайла. 2 пай: Тимёр: роман, варда калавёсем / Н. Ф. Ильбек. ILL: Чаваш кён. изд-ви, 1996. — 463 с. — Пер. загл.: Избранные.
- Ильбек Н. Ф. Черный хлеб: роман / пер. с чуваш. 3. Романовой. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2004. — 480 с.
- Ильина Н. Даниил: калав / Н. Ильина // Ялав. 2003. — № 10.
- C. 3 15.-Пер. загл.: Даниил.
- Ильина Н. Юлашки кёр- Шаранса та пётми.- Пахна иккён кантакран.- Хер Кёлетки: калавсем / Н. Ильина // Шура туй кёпи: поведсемпе калавсем. Ш., 2004. — С. 116−140. — Пер. загл.: Последняя осень- Не тлеющая.- Смотрели двое из окна- Статуя девушки
- Карим М. Собрание сочинений. В 3 т. / пер. с башк. М. Карима- вступ. ст. Д. Павлычко. -М.: Худож. лит., 1983.
- Карим М. Притча о трех братьях: воспоминания. Раздумья. Беседы / М. Карим. М.: Современник, 1988. — 366 с.
- Карим М. Деревенские адвокаты: повести / пер. с башк. И. Каримова. М.: Современник, 1989. — 528 с.
- Карим М. Долгое-долгое детство: повесть / пер. с башк. И. Каримова. -М.: Дет. лит., 1989.-238 с.
- Карим М. Помилование: повести / пер. с башк. И. Каримова. -М.: Известия, 1989.-298 с.
- Лисаев И. И. Тивед: роман / И. И. Лисаев. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1987. — 303 с. — Пер. загл.: Долг.
- Лисаев И. И. Пилешём, пилеш.: роман / И. И. Лисаев. ILL: Чаваш кён. изд-ви, 1991. -432 с.-Пер. загл.: Рябина, рябинушка.
- Максимов Н. Н. ?ил-думар витёр: поведсемпе калавсем / Н. Н. Максимов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1982. — 224 с. — Пер. загл.: И в дождь, и в ветер.
- Максимов Н. Н. Пар айён те шыв юхать: повесть / Н. Н. Максимов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1983. — 191 с. — Пер. загл.: Подледное течение.
- Максимов Н. Н. Тапа: роман / Н. Н. Максимов. Ш.: Чаваш кен. изд-ви, 1991. — 349 с.-Пер. загл.: Напряжение.
- Максимов Н. Н. Пурнадри выран: роман / Н. Н. Максимов. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1992. 400 с. — Пер. загл.: Место в жизни.
- Максимов Н. Н. Место в жизни. Сон шизофреника: романы / пер. с чуваш. Н. Н. Максимова. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1994. -574 с.
- Мартынов Н. А. £ёнё пурт: калавсем / Н. А. Мартынов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1985. — 159 с. — Пер. загл.: Новый дом.
- Мартынов Н. А. Хёллехи аша: поведсемпе калавсем / Н. А. Мартынов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1990. — 206 с. — Пер. загл.: Зимнее тепло.
- Мартынов Н.А. Икё дулевёд вилёмё: поведсемпе калавсем / Н. А. Мартынов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1993. — 398 с. -Пер. загл.: Гибель двух рысей.
- Павлов Ф. П. Сутра. Ялта: пьесасем / Ф. П. Павлов. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1982. — 64 с.-Пер. загл.: На суде. В деревне.
- Павлов Ф. П. Собрание сочинений: Поэзия, драматургия, проза, очерки, статьи, письма / сост. Ю. А. Илюхин, А. И. Кузьмин, К. Д. Кириллов. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1992. — 574 с.
- Петровская Н. А. (^ил-таманла кад: повесть / Н. А. Петровская. Ш.: Чаваш издат., 1969. — 166 с. — Пер. загл.: Вьюжная ночь.
- Петровская Н. А. Чыс: повесть / Н. А. Петровская. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1973. — 191 с. — Пер. загл.: Честь.
- Петровская Н. А. Шура лили: повесть / Н. А. Петровская. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1987. 127 с. — Пер. загл.: Белая лилия.
- Петровская Н. А. Ахрам: поведсемпе легенда / Н. А. Петровская.-Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1993.-368 с.-Пер. загл.: Эхо.
- Петровская Н. А. Хура ангел: роман / Н. А. Петровская. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1999. — 271 с. — Пер. загл.: Черный Ангел.
- Рзай В. Е. £ырнисен пуххи / пухса хатёрлекенё В. П. Станьяла. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 2004. — 446 с. — Пер. загл.: Собрание сочинений.
- Силэм Ю. А. Пылпа дакар: повесть, калавсем / Ю. А. Силэм. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1989. 160 с. — Пер. загл.: Хлеб с медом.
- Силэм Ю. А. Хёрёхри хёр: повесть, калавсем / Ю. А. Силэм. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1993. 223 с. — Пер. загл.: Старая дева.
- Силэм Ю. А. £ылахла хёрарам: роман, поведсем / Ю. А. Силэм. -111.: Чаваш кён. изд-ви, 1999. 399 с. — Пер. загл.: Грешница.
- Силэм Ю. А. Иккён: калавсем / Ю. А. Силэм. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 2001. — 223 с. -Пер. загл.: Двое в купе.
- Скворцов Ю. И. £ын ашши: повесть / Ю. И. Скворцов. 111.: Чаваш кён. изд-ви, 1978. — 192 с. — Пер. загл.: Тепло людское.
- Скворцов Ю. И. Савапла вут: поведсем / Ю. И. Скворцов. -111.: Чаваш кён. изд-ви, 1982.-272 с. Пер. загл.: Священный огонь.
- Скворцов Ю. И. Уках хуранё: поведсемпе калавсем / Ю. И. Скворцов. 111.: Чаваш кён. изд-ви, 1993. — 51 1 с. — Пер. загл.: Березка Угах.
- Скворцов Ю. И. Хёрлё мак: поведсемпе калавсем / Ю. И. Скворцов. -111.: Чаваш кён. изд-ви, 2003.-415е.-Пер. загл.: Красныймак.
- Степанов В. Анталу, е дёр тытканё: фантастикалла повесть / В. Степанов // Ялав. 1998. — № 7. — С. 4 — 33. — Пер. загл.: Влечение, или плен земли.
- Талл еров Л. В. Архип манукё Архип: поведсем, калавсем / Л. В. Таллеров. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1992. — 319 с. — Пер. загл.: Архип — внук Архипа.
- Тхти И. Е. Поэзи, проза тата публицистика / пухса хатёрлекенсем Г. Ф. Юмарт, В. П. Илтер. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1979. — 374 с. — Пер. загл.: Поэзия, проза и публицистика.
- Федоров Г. И. Ай, мантаран хир мулкачи: повесть / Г. И. Федоров//Таван Атал. 2002.- №.2.-С. 1−23- №.З.-С.32−53- №.4.-С. 12−38- № 5. — С. 35−49- №. 6. — С. 20−44. — Пер. загл.: У нас колесница одна.
- Федоров М. Леший: поэма / пер. с чуваш. А. Смолина. -Чебоксары: Чуваш, гос. ин-т гум. наук, 2000. 36 с.
- Хакимов А. X. Байга: повести / пер. с башк. Р. Максютова, И. Каримова, Н. Алембековой. М.: Совет, писатель, 1981. — 368 с.
- Хакимов А. X. Мост: повести / пер. с башк. И. Каримова. М.: Совет. Россия, 1983.-288 с.
- Хакимов А. X. Плач домбры: романы. Повесть / Пер. с башк. И. Каримова. -М.: Известия, 1991. 608 с.
- Чиладзе О. И. И всякий, кто встретится со мной.: роман / авториз. пер. с груз. Б. Резникова. М.: Известия, 1982. — 444 с.
- Чиладзе О. И. Железный театр: роман / пер. с груз. Э. Ананиашвили. М.: Совет, писатель, 1984. — 382 с.
- Чиндыков Б. Б. Чук уйахё: калавсем / Б. Б. Чиндыков. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1987.- 95 с. — Пер. загл.: Месяц ноябрь.
- Чиндыков Б. Б. Hotel Chuvashia: калавсем / Б. Б. Чиндыков. -Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1989. 94 с. — Пер. загл.: Hotel Chuvashia.
- Чиндыков Б. Б. Qypgep хыдданхи апатлану: калавсем, повесть / Б. Б. Чиндыков. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1992. — 103 с. -Пер. загл.: Ужин после полуночи.
- Чиндыков Б. Б. £атан карта динчи хура хамла дырли: пьесасем / Б. Б. Чиндыков. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1995. — 200 с. -Пер. загл.: Ежевика вдоль плетня.
- Юман М. Суйласа илнисем / В. П. Никитин (Станьял) хатёрленё. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1997. — 543 с. — Пер. загл.: Избранные произведения.
- Юхма М. Н. Кавак дёмрен: роман / М. Н. Юхма. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1971. — 208 с. — Пер. загл.: Голубая стрела.
- Юхма М. Н. Мускав дулё: роман-легенда / М. Н. Юхма. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1983.-328 с.-Пер. загл.: Дорога на Москву.
- Юхма М. Н. Еткер: роман / М. Н. Юхма. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1986. — 446 с. — Пер. загл.: Еткер.
- Юхма М. Н. Термен: роман / М. Н. Юхма. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1990. — 464 с. — Пер. загл.: Термен.
- Юхма М. Н. Анне дакарё: роман / М. Н. Юхма. ILL: Чаваш кён. изд-ви, 1991.-447 с. — Пер. загл.: Материнский хлеб.
- Юхма М. Н. Авалхи чаваш туррисемпе паттарёсем / М. Н. Юхма. III.: И.д., 2000. — 344 с. — Пер. загл.: Легенды и мифы древней Чувашии.
- Ялавин С. В. Селмен: драма / С. В. Ялавин. Ш.: Чаваш гос. издат., 1959. — 76 с. — Пер. загл.: Сельмень.