Отражение в слове народно-эстетических воззрений
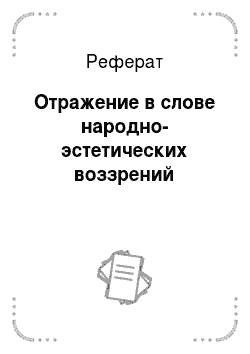
Вспомним, что в пушкинском Петербурге его невесту Наталью Гончарову называли блестящей красавицей, что, изображая светскую львицу Элен Курагину, Лев Толстой подчеркивал ее блистательную (хоть и холодную) красоту. В этих речевых проявлениях наблюдается то же эстетическое осмысление реальности, что и в семантической истории такого северно-русского гнезда слов, как баса «краса», басый, баский… Читать ещё >
Отражение в слове народно-эстетических воззрений (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Как нерукотворный памятник творческой мысли и художественного обобщения, наш словарь выражает в целостном восприятии вселенной эстетические представления этноса не меньше, чем, например, народное искусство живописи.
Вспомним, что эстетические идеалы русского народа нашли свое воплощение, например, в живописных росписях Хохломы по дереву с особой технологией наложения сияющих золотом растительных орнаментов на разного рода домашней утвари, в расписных жестяных подносах из Жостово, покрытых блестящими красками чистых ярких тонов с преобладанием красно-желтой гаммы цветов, в Дымковской глиняной игрушке с празднично расцвеченными барынями, петухами, лихими тройками и задорными человеческими фигурками, в яркоцветье знаменитых расписных платков из Павловского Посада… Снежно-белый, а иногда и темный фон во всех этих произведениях народного искусства как будто призван подчеркнуть ослепительную яркость и чистоту тонов радужного спектра, причем прежде всего — доминирующего красного цвета.
Известно, что русская красавица, чтобы слыть «на свете всех милее», непременно должна быть «всех румяней и белее», то есть соответствовать образу кровъ с молоком. Пушкинское сказочное зеркальце, подобно народным живописцам, отмечает только самое существенное в народном сознании: румянец и белизну лица. Праздничное буйство красок, живописность — вот первый признак народного эстетического идеала, который отражен в оценочном фразеологизме писаная красавица, буквально «красавица, нарисованная красками», поскольку старшее значение современного глагола писать — это «рисовать в цвете», сохранившееся, например, в выражении писать картину, в южнорусском и украинском названии писанка — «раскрашенное пасхальное яйцо», в этимологической связи с прилагательным пестрый (Фаем., III, с. 266). Само наше слово живопись, исторически представляющее название действия по глаголу живописать, имеет внутренний, мотивирующий образ «писать вживе», то есть рисовать красками такими, как в жизни, передавая их естественную гармонию.
Рассматриваемый признак эстетического народного идеала еще более рельефно выступает при сопоставлении со словами того же семантического поля, имеющими отрицательную коннотацию, а значит, выделяющими какие-то антиэстетические признаки.
Так, слово аляповатый у нас обозначает «безвкусный, грубый, некрасивый»: Аляповатые лубки (Короленко «История моего современника»). Аляповатое лицо (Чехов. Кошмар). Аляповатое нагромождение красок (Д. Гранин «Картина»). Начальное а в русском слове обычно возникает в результате аканья, и этимологи возводят прилагательное оляповатый к корню ляп — звукоподражательному образу действия «шлепать, хлопать, бухать, бросить что-нибудь вязкое, мокрое, мягкое» (Фаем., 1, с. 75). Таким образом, аляповатая внешность — это не писаная красота, соблюдающая живую гармонию красок; изначально здесь имеются в виду краски, положенные размашисто, небрежно, как попало.
В русском разговорном слове смазливый признание внешней миловидности, привлекательности сопровождается иронически-пренебрежительным оттенком. По данным этимологии (связь с глаголом смазать), эта отрицательная коннотация отражает существенный для народного сознания эстетический изъян: смазанность, расплывчатость красок, нарушающая чистоту тона, хотя красочность образа — главный признак — обеспечивает положительное содержание этого оценочного понятия. Напротив, общая негативная оценка, то есть понятие «некрасивый», у нас может выражаться словами бесцветный, серый. Хотя основное значение слова серый — «цвет пепла, ахроматический тон, возникающий от смешения черного с белым», в переносном употреблении оно приобретает значение «невыразительный, малопривлекательный, некрасивый»: Серый городишко. Серая мазня (пренебрежительно о непонравившейся картине). Так себе музыка, серенькая (из выступления Аллы Пугачевой по ТВ). Сравним также: Бесцветная внешность. Эти бесцветные скульптуры смешно именовать произведениями искусства («Комсомольская правда»).
Разговорное шутливое определение серо-буро-малиновый (неодобрительное) отражает все то же неприятие смешения тонов и их невыразительности. Характерен в связи с этим тот факт, что в русском языке с положительной оценкой связывается удвоение (редупликация) цветового прилагательного: небо синее-синее, снег белый-белый, волосы рыжие-рыжие и т. п. Такое экспрессивное удвоение передает не только интенсивность проявления признака, но и особую чистоту тона, которая обычно выступает как эстетически значимая.
В противоположность неказистой серости и бесцветности наша этническая речемысль особо выделяет в цветовой картине мира цвет крови (алый цвет) как самый выразительный, бросающийся в глаза, как особо «казистый», а значит, украшающий. Доминанта красно-алого, как жар, цвета в русской народной живописи и в русском фольклоре (см. хотя бы аленький цветочек и жар-птицу как символы сказочной красоты живого мира) имеет полное соответствие в русском языке, где название красный, выделяющее один из цветов радуги, содержит в себе эстетическую оценку «красивый» (Сравним исторически однокоренные краса, красота, прекрасный, украшать, красоваться идр.).
Балто-славянские параллели слова краса в значении «то, что доставляет эстетическое наслаждение» свидетельствуют, что высшее чувство прекрасного возбуждалось у наших пращуров-язычников жертвенным пламенем крады (однокоренное слово старославянского языка со значением «огонь», «жертвенник», которое имеет соответствия с латышским krasns «печь» и литовским krosnis «печь» — об этом см. Черн., 1, с. 440).
Таким образом, сакральный характер оказывается исконно присущим славянской мировоззренческой категории прекрасного.
В связи с этим невозможно не вспомнить счастливо найденный художественный образ в известном стихотворении замечательного поэта Николая Заболоцкого, который задавался вопросом:
Так что ж такое красота, И почему ее обожествляют люди:
Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?
«Некрасивая девочка».
В этих лирических размышлениях он интуитивно выразил изначальную эстетическую философию родного слова, в полной мере сумев проникнуться духом национального языка, что и определило безусловное совершенство этого поэтического шедевра Н. Заболоцкого.
Что же касается новейшей, уже собственно русской истории производного от краса слова красный, то его архаическое значение «красивого» до сих пор сохраняется во многих фразеологизмах: красна девица, красно солнышко, Красная площадь, с красной строки, красный угол (в избе), красное крыльцо (переднее) и др.; в народной афористике: Красную жену не в стену врезать (Д., с. 757); Красна пава перьем, а жена — мужем (Д., с. 369). По всей России текут речки и речушки с названием Красная («красивая, живописная»), множество топонимов навсегда запечатлели изначальную природную красоту ландшафта, поразившую первопоселенцев: Красная Горка, Красный Холм, Красная Поляна, Красное Село, Красная Яруга (овраг, лощина), Красная Слобода, Красноборск, Краснокамск, Красноярск, Краснолесье, Красноград, Краснокутск и т. д.
Свое цветовое значение общеславянское слово красьныи «красивый» приобрело в нашем языке сравнительно недавно, после обособления восточнославянских языков (украинский и белорусский, как и другие славянские языки, такого значения не знают). Новое цветовое значение впервые засвидетельствовано Хронографом Пахомия Логофета (1442): красенъ яко киноварь (Черн., с. 440). Колоритивное прилагательное красный вытеснило из употребления древнее общеславянское цветообозначение, которое в древнерусском звучало как червленый (варианты: черленыи, червоныи, чермныи, червчатый) и по происхождению является относительным прилагательным от червь: из сухих толченых личинок определенного вида добывали краску. Отсюда древнерусские слова чървъ, чървенъ «красная краска», чървити «румянить, красить красной краской», чървъцъ «драгоценный камень красного цвета (видимо, рубин)» и др. (Срезн., III, с. 1555—1558).
Для обозначения излюбленной части радужного спектра обособившаяся северно-восточная Русь с XIV в. стала активно пользоваться новым словом алый, заимствованным из тюрского. Сначала это цветообозначение, видимо, использовалось применительно к реалиям русско-татарских отношений: Феогноста митрополита царь пожаловалъ, со алою тамгою ярлыкъ далъ (то есть дал жалованную грамоту с алой печатью) — Срезн. 1, с. 20. В русский разговорно-бытовой язык это слово вошло очень быстро и широко распространилось в народнопоэтической речи как любимое лексическое средство идеализации фольклорных образов, притом нередко с эмоционально-оценочным суффиксом -енък-. Как тонко замечает В. И. Даль, «этим словом говорят более о предмете и цвете приятном, почему и милого друга зовут аленьким дружком». Падок мотылек на аленький цветок — пословица из записей В. И. Даля. См. также: Люди живут как ал-цвет цветут, а наша голова вянет что трава. Алый цвет мил на весь свет (Д., 1, с. 12). Сказочная красавица не только выбирала живую красоту аленького цветочка, но и сама была, как поется в песнях, «краше цвета алого, белее снега белого». Та «эстетика праздничности», которая, по заключению фольклористов, определяет мир народной поэзии, во многом создается выделением излюбленной народным сознанием части радужного спектра. Так, в идеализированном портрете «красной девицы» из лирических песен предметом описания выступают «коса русая», «шея лебединая», «брови соболиные», «щеки алые», которые «словно жар горят» (вариант: «словно маков цвет»), в волосы героини вплетена «лента алая», к тому же «на ней шубка аленька, опушка бобровая»[1].
Говоря об эстетической философии русского слова, нельзя упустить из виду еще один идеальный признак эстетических народных воззрений. Его, в частности, прекрасно выразил А. С. Пушкин, интуитивно угадывавший народный взгляд на мир, благодаря чему о пушкинской художественной вселенной хочется сказать его же словами: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Так, рисуя в другой своей известной сказке образ русской красавицы-царевны, он замечает: «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит».
Вспомним, что в пушкинском Петербурге его невесту Наталью Гончарову называли блестящей красавицей, что, изображая светскую львицу Элен Курагину, Лев Толстой подчеркивал ее блистательную (хоть и холодную) красоту. В этих речевых проявлениях наблюдается то же эстетическое осмысление реальности, что и в семантической истории такого северно-русского гнезда слов, как баса «краса», басый, баский, баской «красивый», баско «красиво», прибаситъся «принарядиться, прикраситься», пробаситъся «протратиться из щегольства», басенок «пригожий, милый», бась (олонецкое) «украшение». Большинство слов этого корня отмечены в широком ареале — в новгородском, олонецком, архангельском, череповецком, ярославском регионах и зафиксированы областными словарями, см. также их бытование в малых жанрах фольклора: То и баса, что руса коса; Баса приглядится, а ум пригодится; На басу и глядеть баско (Д., с. 52). Исследователи (Фаем., 1, с. 129; Трубач., 1, с. 163) связывают этот корень в его дальней этимологии с санскритским bhas «блеск, сияние», bhasas «свет», и, исходя из этого, мотивирующим образом индоевропейского характера выступает «свет, блеск, сияние». Древнейшая ассоциация устойчива и по сию пору: слово блеск в значении «красота» хорошо известно жаргону современных Эллочек-людоедок.
В русской устнопоэтической фразеологии доброго молодца часто уподобляют ясну соколу, то есть «светлому, блестящему», а, значит, «прекрасному» соколу. Слово ясный в значении «красивый, прекрасный» известно и пословичным речениям: Покажется сатана краше ясного сокола (Д., с. 740); Сверху-то ясно, а исподнизу-то некрасно (там же). В последнем случае наречия ясно — некрасно выступают как явные антонимы, передающие антитезу «красиво — некрасиво».
Народная эстетика, основанная на антитезе света — тьмы, на внутренней светимости и сиянии красок, пронизывает поэтику и стилистику «Слова о полку Игореве» — золотого пролога нашей литературы с ее народностью, масштабностью, патриотизмом. В духе былинной эстетики изображены герои «Слова». Так, князь Игорь — «свет светлый» — получает сочувственное освещение параллелью с солнцем (светлым и даже тресветлым):
Сълньце светить на небеси —.
Игорь — князь въ русской земли.
Напротив, вражеское войско — это «черная туча»: Черные тучи с моря идутъ, желая прикрыть четырех князей — солнц, а поганый половчин вызывает у автора ассоциации с черным вороном. В тревожном, «мутном» сне Святослава его одевали черной паполомой (погребальным покрывалом).
Затмение солнца, которое омрачило выход Игорева войска в путь, живописуется словесными красками как зловещее предзнаменование, понятное живой и неживой природе, как символ грядущего несчастья. С другой стороны, поражение русского войска и гибель двух князей — русичей изображаются как картина солнечного затмения: «На рЬцЬ на КаялЬ тьма свЬть покрыла… Темно бо 6Ь въ тъи дьнь: два солнца померкоста, оба багряная стълпа погасоста и с нима молодая месяца Ольгъ и Святославъ тьмою поволокоста…».
Особенно показательна для понимания эстетической философии русского слова цветовая палитра этого глубоко народного по мироощущению произведения, как бы пронизанного тайной своего поэтического языка. Цветовая гамма, определяющая художественное пространство «Слова», отражает как народную идеализацию красной части спектра, так и идеализацию внутренней светимости красок, своеобразную игру светотени как эстетический принцип цветового живописания[2].
Так, из 12 прилагательных со значением цвета (45 словоупотреблений) большая часть (ровно две трети) передает ахроматические тона (черно-серо-белые), противопоставленные друг другу по наличию-отсутствию признака яркости, блеска, внутренней светимости, или, другими словами, как матовые и блестящие, сверкающие тона[3]. В отношениях семантической оппозиции находятся слова бьлыи и свЬтълый, сЬрыи и сребреныи, чърныи и синии. Так, прилагательное бьлый «светлый, но не светящийся» (бьла хорюговъ — то есть знамя, бьлымъ назван гоголь — птица семейства утиных, быстроте которой уподоблен бегущий из плена Игорь) противостоит прилагательному свЬтълый «излучающий свет, лучезарный» в словоупотреблениях свЬтъ свЬтълый, сълнце свтлое и трЬсвЬтлое; наименование сЬрыи «матовый, несветящийся цвет пепла» аналогично соотносится со словом сребреныи: так, волк в «Слове о полку Игореве» традиционно определен как серый, но струи реки Сулы названы сребреными — «цвет пепла с блеском отсвечивания» — как и сребреная сьдина Святослава. То же соотношение матового и сверкающего прослеживается в словоупотреблениях прилагательных чърныи и синии. Черными выступают тучи, земля, паполома, ворон (о них мы уже говорили), определение синии в «Слове» получают четыре существительных: синии молнии, сине вино, сине море, синя мгла.
0 синих молниях «Слова» существует немало различных суждений исследователей. Например, Г. Н. Имедашвили видит в этом эпитете точное воспроизведение атмосферного явления паремии и гало, а Л. В. Соколова считает синий цвет символическим для автора «Слова» способом изображения «чужого» мира в противопоставлении «своему» (его символизирует чърленый цвет), поэтому «синии молнии — это сверкающие половецкие сабли»[4]. Вслед за В. В. Колесовым наиболее достоверным мы считаем то объяснение, которое подсказывает нам этимология слова синии. Синии — от глагола сияти, внутренняя мотивировка этого цветового прилагательного «сияющий, сверкающий» (Фаем., III, с. 624). Во всех словоупотреблениях автора «Слова о полку Игореве» актуализируется именно этимологическое значение слова.
синии: синии молнии — зловеще сияющие огнем молнии; сине вино — темное вино, наполненное светом, и это особенно видно, когда его, как сказано в «Слове», «льют» на свету; сине море (фольклорный образ) — темное с отблеском, светящееся на солнце море; синя мгла, сквозь которую в полночь мчится князь-оборотень Всеслав, — это ночная мгла, пронизанная лунным сиянием.
В этой связи очень характерен пример архаичного значения слова синии в северно-русских говорах, который приводит В. В. Колесов: старушка, говоря о матовых кирзовых сапогах темного цвета, называет их черными, а блестящие черные резиновые сапожки — синими[5].
В древнерусских письменных памятниках, например, в Житии Андрея Юродивого (XII в.) и Сказании об Акире Премудром (список XV в.), неоднократно упоминаются синъци —люди «черные образом», «сини яко сажа», то есть эфиопы (мавры) с черной блестящей кожей. Словом синъцъ иногда называли и дьявола (Срезн., III, с. 358), которого в лицевых рукописях обычно изображали черной или синей краской.
Заметим только, в отличие от рассуждений В. В. Колесова, что в общенародном языке XII в. — времени написания «Слова о полку Игореве» — слово синии уже пережило деэтимологизацию и обозначало определенный сегмент радужного спектра между зеленым и фиолетовым, что вытекает из употребления этого слова в следующем контексте: В дузЪ (радуге) свойства суть чрьвеное и сине и зелено и багърлно (Изборник Святослава 1073 г., л. 247). Однако автор «Слова» в духе единого эстетического принципа цветообозначения оживляет этимологический образ слова синий.
Возвращаясь к общей характеристике цветового мировидения автора «Слова о полку Игореве», отметим в нем характерную для русского этноса доминанту в восприятии тонов радужного спектра. Эстетизация пространства достигается настойчивым подчеркиванием излюбленного красного цвета: так, из четырех колоритивных обозначений три (кровавый, багряный, черленый) передают именно его оттенки. Кровавые зори накануне битвы, багряные столпы в изображении солнечного затмения, черленые щиты и хоругви русичей в батальных картинах — это своего рода знаки-символы народного эстетического идеала на «черно-белой глянцевой фотографии» художественного мира «Слова».
Вместе с тем багряные столпы как природные параллели роковым несчастиям Олега и Святослава и особенно кровавые зори как предвестники беды воплощают в себе и цветовую символику христианской книжности.
Что касается четвертого прилагательного — зеленый, то в контексте «Слова» оно еще не приобрело абстрактного колоротивного значения. Зелена паполома, которую жажда славы «постлала» Борису Вячеславичу, — это погребальное травяное покрывало на поле брани «за обиду Ольгову, храбра и млада князя». Как и в сочетаниях зелена трава, зелено дерево, наименование зеленый здесь еще явственно сохраняет исходное значение относительного прилагательного, обозначающего признак как отношение к предмету «зелень, зелье», качество зелени, зелья. Поэтому оно еще не участвует в цветовой палитре «Слова».
Таким образом, в словесной живописи великого памятника русской речевой культуры индивидуально-авторская техника наложения цвета и светотени своими корнями уходит в народную эстетику, по-своему отражая ведущие черты народного цветового мировосприятия.
Из современной лексики, тематически связанной с эстетическими представлениями русского этноса, останавливает на себе внимание народно-поэтическое слово пригожий в значении «привлекательный, красивый» и его производные пригожество, пригожесть, называющие соответствующее отвлеченное качество и обычно имеющие в нормативных словарях помету устаревшее. Внутренний образ этого слова, казалось бы, воплощает в себе прагматизм и основательность крестьянского миропонимания: пригожий от гожий (годный, пригодный), то есть «полезный». Однако такому толкованию внутренней мотивировки слова явно противоречат все приводимые В. И. Далем случаи его употребления: Не пригожа, да пригодна; Иное для вида пригоже, иное для крепости; Не родись умен, не родись пригож, родись счастлив. Видимо, мотивирующим признаком здесь послужило не значение «полезный», а близкое, смежное значение «угодный, годный своим видом» (подобно внутренней форме слова миловидный).
В языке нашей художественной классики XIX в., органически слившем две речевые стихии русского литературного языка, это народно-поэтическое слово могло соседствовать с книжно-славянским наименованием эстетически значимого признака: Насколько он был неблагообразен, настолько же пригожа была его жена (Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»). Утвердившееся в современном литературном языке оценочное прилагательное благообразный выдержало многовековую конкуренцию с многочисленными греко-славянскими кальками, которые широко употреблялись в книжных текстах: благокрасный, благоличный, доброкрасный, доброличный, доброликий, доброзрачный, добролепый, красноличный, красносияющий и многие др. Сравним, например, портрет героя Троянской войны красавца Менелая в переводной Хронике Иоанна Малалы XIII в. (список XV в.): Менелаос… низокъ, крТпокъ, румянъ, доброносъ, доброликъ, густобрадъ. Нетрудно заметить, что словосложение благообразный среди всех синонимических вариантов по своей внутренней мотивировке наиболее отвечало этическим канонам православного сознания, что и предопределило его судьбу.
Вообще же слова благообразный, благообразие замечательно передают эстетическую философию православного восприятия человеческой внешности: важна не земная миловидность, а просвечивающий идеальный замысел. В иконописных изображениях прославляемых ликов русский художник, как известно, «борется с соблазном», и только в победе над ним достигает своей религиозно-художественной цели. Как и в византийском искусстве, в русской иконописи «господствуют типы старческие или, по крайней мере, типы мужские, и притом бородатые, — пишет по этому поводу замечательный русский филолог и знаток древнего искусства Ф. И. Буслаев. — Борода древнерусской иконописи уступает искусству западному в природе, зато выигрывает своим подобием… сообразно учению теологическому»[6]. Иконописная традиция, подчеркивающая духовную зрелость изображаемых ликов, всецело подчинена этической идее примата духа над плотью. Другими словами, основная тема русской иконописи — это красота духа в человеческих образах. Поэтому в полной мере оценить коннотативные значения слов благообразный, благообразие нельзя без широкого культурного контекста. В приведенной выше фразе Салтыкова-Щедрина, где соседствуют два слова с близким значением, невозможно поменять их местами, так как благообразие — явно не женская черта, причем прежде всего в отличие от женской прелести.
Однако другое современное обозначение понятия «прекрасного, красивого, миловидного, привлекательного», восходящее к церковнославянскому источнику, в истории русского литературного языка резко изменило свой этико-оценочный смысл. Слова прелесть и прелестный изначально содержали в себе негативную оценку, поскольку в христианском мировосприятии прелесть, то есть «обман, заблуждение, соблазн», мыслилась исходящей от дьявола. Отсюда и древнее словоупотребление: бьсовская прелесть, прелестная тьма, прелестный змий, прелестная власть дьявола, прелестная ересь и, конечно же, прелестная жена, посланная в мир «на прельщение окаянымъ (то есть жалким) человекамъ». «Что есть женл? О’йть утворенд и пр’клыцдющи человекы» — утверждается в Изборнике Святослава 1073 г. (л. 174). Женское злонравие, женские «лукавства и прелести» служили постоянным предметом обличений и предостережений в религиозно-учительной литературе.
Однако в ходе обмирщения многих традиционных представлений Петровской и послепетровской Руси и по мере европеизации русского семейного быта антифеминистический пафос письменной литературы явно ослабевает[7] (в этом отношении особенно показателен переводной текст рубежа XVII—XVIII вв. «Златое иго супружества», пародирующий тему «злых жен»).
Понятие «дьявольской прелести» (еще в XVII в. московские власти называли «прелестными грамотами» подстрекающие к бунту обращения Стеньки Разина) оттесняется в узкоцерковную сферу, и в европеизированном литературном языке карамзинской эпохи старый негативно-оценочный смысл слова прелесть трансформируется в светское значение «очарование, обаяние, вызывающее восхищение». Полное освобождение этого русского литературного слова от церковно-славянской коннотации, его совершенная «реабилитация» наиболее ярко выступают в одном из шедевров пушкинской лирики — стихотворении «Мадонна» (1830):
Исполнились мои желания. Творец Тебя мне ниспослал, моя Мадонна,.
Чистейшей прелести чистейший образец.
При этом нельзя не заметить, что в контексте художественного целого слово прелесть по-новому сакрализуется: выразитель национального сознания, Пушкин не может не связывать идею прекрасного с самым высоким нравственным идеалом. Очень показательно, что интуиция гения слова не позволила ему ввести мотив прелести земной женщины в образ православной Богородицы (не случайно русской иконописной традиции было чуждо изображение Virgo Lactans — «Девы Кормящей») и подсказала ему западноевропейскую, католическую традицию высокоразвитого культа Мадонны. Пушкинский образ получил особую убедительность и в связи с твердой стихотворной формой сонета (Сравним едва ли не накануне написанные строки: «Суровый Дант не презирал сонета; В нем жар любви Петрарка изливал…»).
Размышляя об эстетической философии русского слова, которая представляет одну из существенных черт исторического лица этноса, хотелось бы обратить внимание на два ее общих принципа: во-первых, это жизненная сила, проявляющаяся как в естественной гармонии красок, порождающей эстетическое чувство, так и в самом выразительном цвете радужного спектра, и, во-вторых, изначальная, еще языческая связь идеи прекрасного с идеей светлого, доброго, этического начала, многократно усиленная православным сознанием.
Именно на этих двух принципах зиждется эстетика художественных типов и народной поэзии, и всей русской классической литературы.
- [1] Об этом Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967. С. 280.
- [2] На этом же эстетическом принципе основано использование автором и другихязыковых средств. См. нашу статью «Светотень утверждения — отрицания в поэтике"Слова о полку Игореве»" // Труды ОДРЛ. Т. 43. Л., 1989.
- [3] Об этом писала в дипломном сочинении «Стилистика «Слова о полку Игореве""Т. Е. Провкина (КГПИ, 1983, науч. рук. —Л. В. Савельева).
- [4] Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 5. С. 197 и след.
- [5] Колесов В. В. История русского языка в рассказах. М., 1980. С. 80.
- [6] Буслаев Ф. И. Древнерусская народная литература и искусство. СПб, 1861. С. 219.
- [7] Панченко А. М. «Златое иго супружества» и его источник. // Древнерусские литературные памятники. Труды ОДРЛ. Т. XXXIII. Л., 1979. С. 310.