Общение реального субъекта с субъективированным объектом как иллюзорным партнером
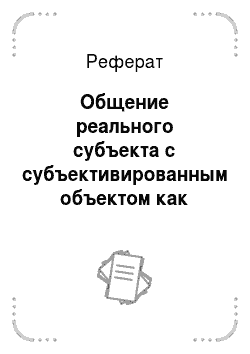
По сути дела, все искусство, создаваемое для детей, — сказки, фантастические повествования типа «Мойдодыра», мультипликационные фильмы, в которых вещи участвуют как полноправные партнеры людей, воплощает примечательную черту детского сознания, повторяющую особенности сознания человечества, когда оно находилось в состоянии детства, — отношение к вещи как к живому существу, способному и к тебе… Читать ещё >
Общение реального субъекта с субъективированным объектом как иллюзорным партнером (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Поскольку наделение объекта свойствами субъекта является ценностью, постольку с носителем ценности человек способен завязывать отношения, подобные его отношениям с подлинными субъектами (хотя инициатором общения носитель ценности, как уже отмечалось, быть не может).
Наиболее ясно это видно во взаимоотношениях людей с животными. Такого рода отношения двояки: в одних случаях мы видим в животном простой объект нашей преобразовательной или познавательной деятельности, подобный неживым объектам, и, соответственно, считаем себя вправе не только его дрессировать, гибридизировать, но и убивать, и съедать; в других случаях мы относимся к животному как к самим себе, приписываем ему человеческие свойства и способности, то есть одухотворяем его, субъективируем и тем самым делаем возможным общение с ним. Стремление к приручению, одомашниванию животных и совместной жизни с ними, первоначально обусловленное чисто утилитарными потребностями охотничьего, скотоводческого, земледельческого хозяйства, войны и путешествий, стало затем бескорыстным, основанным — особенно у одиноких людей — на желании иметь рядом преданного друга, с которым можно поделиться своими переживаниями, который всегда тебя поймет, посочувствует, защитит… «Дай, Джим, на счастье лапу мне…» — такова поэтическая модель общения человека с животным как своего рода «предсубъектом».
Этот вид общения обеспечивается психологически тем, что животное обладает рядом качеств, сходных с человеческими, — эмоциональностью, способностью выражать свои переживания определенными действиями, звуками, мимикой, реагируя на коммуникативные инициативы человека, и последний чувствует, что его собака отвечает на его любовь привязанностью, преданностью, собственной любовью; мы и говорим о «дружбе» человека с собакой или лошадью, о способности животного понимать своего хозяина, сочувствовать ему, сострадать, а подчас и об особой надежности, верности, преданности животного человеку, едва ли не более прочной, чем в отношении людей (в шутке Станислава Ежи Леца «Если хочешь иметь друга — заведи собаку» есть большая доля истины!). Разумеется, современный человек знает, что антропоморфизация животного есть иллюзия, что его сходство с человеком имеет свои границы, первобытное же мифологическое сознание не ощущало этих границ и приравнивало животного к человеку до такой степени, что создавало божества, соединяющие черты того и другого, верило в их взаимные превращения, наделяло животного способностью не только чувствовать и думать, но и говорить по-человечески; антропоморфизация животного, хотя и лишенная религиозного к нему отношения, свойственна в наше время ребенку.
Художественное мышление сохраняет такое отождествление человека и животного, воплощая его в структуре образа — в басне, сказке, притче, мультипликационном фильме, идя в этих жанрах на буквальное его очеловечение, в других жанрах, скажем, в повестях А. П. Чехова, Дж. Лондона, Г. Н. Троепольского, искусство, сохраняя различие поведения животного и человека, очеловечивает лишь психологию Каштанки, Белого Клыка или Бима Черное Ухо; аналогичные психологические портреты животного создаются живописцами и скульпторами — вспомним произведения П. Потттера или В. Л. Ватагина.
Таким образом, хотя животное обладает субъектностью лишь в эмбриональной форме, оно может стать партнером человека в процессе общения. Более удивительно, однако, то, что в такой же роли выступает подчас и растение, море, горы, облака и даже вещи, окружающие человека в его повседневной жизни. Это происходит тогда, когда на любой предмет неживой природы или вещь люди переносят собственные свои духовные качества, очеловечивают их тем или иным образом.
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна, —.
писал Е. А. Баратынский в стихотворении «На смерть Гёте», выражая известное каждому человеку, любящему природу, ее восприятие как инобытия человека. Отсюда стремление к уединению на лоне природы, при котором она начинает заменять партнера общения, позволяя вести молчаливый диалог с речкой и с океаном, с лугом и с небом. Вряд ли кто лучше Ф. И. Тютчева сформулировал такое отношение к природе, делающее ее партнером, пусть иллюзорным, человеческого общения:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Именно тогда, когда человеку кажется, что воспринимаемое им явление природы обладает «душой» и «свободой», то есть основными чертами субъекта, что оно поэтому способно отвечать «любовью» на его любовь, что оно владеет «языком», на котором с ним можно общаться, — тогда это явление природы и становится иллюзорным партнером общения.
И тут искусство предлагает нам разнообразные модели такого общения — в пейзажных жанрах поэзии и живописи, в которых природа оказывается носительницей человеческих, душевных состояний — волнений, грусти, ликования: вспомним стихи А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, так называемый «пейзаж с настроением» И. И. Левитана или В. Ван Гога; но точно так же и в натюрморте глиняные кувшины, бутыли, башмаки, клещи могут казаться живыми существами, имеющими свой характер, свою психологию — одну в натюрмортах Р. Гуттузо, другую — в картинах А. Акопяна; неудивительно, что К. С. Петров-Водкин мог назвать натюрморт «острой беседой живописца с натурой», ибо с подобными образами вещей, как и с образами природы, художник, а вслед за ним и зритель вступают в мысленный диалог, аналогичный тому, который он ведет с образами людей.
По сути дела, все искусство, создаваемое для детей, — сказки, фантастические повествования типа «Мойдодыра», мультипликационные фильмы, в которых вещи участвуют как полноправные партнеры людей, воплощает примечательную черту детского сознания, повторяющую особенности сознания человечества, когда оно находилось в состоянии детства, — отношение к вещи как к живому существу, способному и к тебе относиться дружественно или враждебно, как к существу активному и самодеятельному, с которым можно вступать в прямое общение. Разумеется, взрослый человек, так же как и повзрослевшее человечество, отчетливо сознает, что вещи — объекты, а не субъекты, что они мертвые, а не живые, пассивные, а не активные, что с ними нельзя общаться как с людьми и даже как с животными; и все же это трезвое научное сознание неспособно полностью парализовать ценностно-эстетическое отношение к вещам, способность их любить или ненавидеть, радоваться им или страшиться их, одухотворять их, олицетворять, очеловечивать, субъективировать.
Соотношение указанных двух позиций есть не столько проблема индивидуальной психологии личности, сколько проблема социальнопсихологическая: сравнивая отношение к вещам в типичном «романе отчуждения» Ж. Перека «Вещи» и в «романах солидарности» А. де Сент-Экзюпери, В. Д. Днепров прекрасно показал социальную обусловленность этих позиций — той, которая порождается товарнокапиталистическим отчуждением вещи от человека, превращающейся во «враждебную человеку и уничтожающую его силу», и той, которая порождена демократическим сознанием людей труда, создающих вещи и потому накладывающих на них печать своего духа, делающих их «причастными» к своей жизни, «окруженными своего рода эмоциональным нимбом». Критик цитирует «лирическую формулу вещи» французского писателя-демократа: «Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены — наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности…» Точно так же и хлеб становится «средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой» и он становится для них «символом величия труда, потому что добывается он в поте лица», становится «непременным спутником сострадания, потому что его раздают в годину бедствий»[1].
Но искусство, повторим, лишь моделирует тут реальные, обыденные, общечеловеческие формы сознания и поведения, ибо такого рода общение с иллюзорными субъектами повседневно осуществляется каждым из нас, выражая потребность человека в максимальном расширении сферы его общения, в «очеловечении» всей окружающей его предметной среды. Это «очеловечение» есть не что иное, как наделение предметной среды ценностными значениями, в результате чего она, по словам К. Маркса, «по-человечески относится к человеку»[2]. Вот почему нельзя согласиться с точкой зрения, будто К. С. Станиславский был неправ, говоря о способности человека общаться «не только с людьми, но и с предметами»[3]. При определенных условиях вещи, как видим, втягиваются в сферу общения, а К. С. Станиславский, будучи художником, это тонко чувствовал. Речь должна идти лишь о том, что вещь вступает в общение не в своем собственном, чисто вещном объектном бытии, а субъективированная, ставшая носительницей ценности и именно этим завоевавшая право быть включенной в систему человеческого общения.
Проблема общения с природой и с вещами оказывается в наши дни бесконечно более острой, жизненно важной, чем во времена Тютчева или Экзюпери. Такую остроту придает ей неумолимая поступь научнотехнического прогресса, имеющего два опасных для судеб человечества последствия: развитие конфликта между культурой и природой, основанного на презрительном к ней отношении как к безгласной рабыне человека, — такова психологическая основа экологического кризиса, угрожающего самому существованию жизни на Земле; развитие вещистско-техницистского поклонения человека плодам собственного труда, отливающегося в новой форме религиозного сознания, которое ставит на место божества технически совершенную или престижную вещь. Этим прямо противоположным и равно чуждым социалистическому обществу позициям воспитание коммунистического сознания должно противопоставлять нравственно-эстетическое отношение к явлениям «первой» и «второй» природы, которое субъективирует их, не мистифицируя, и делает возможным общение с ними, а не узко прагматическое и рационально-сциентистское к ним отношение. Конечно, и для удовлетворения наших практических нужд, и для целей естественно-научного познания природа остается — и всегда будет — объектом деятельности человека. Этот объект здравый смысл заставляет отличать от наделенного духовным содержанием человеческого бытия, и потому наивным было бы стремление вытеснить нравственно-эстетическим отношением к природе ее научное изучение и техническое преобразование. Очевидно, речь должна идти о необходимости дополнения — именно по законам «принципа дополнительности» Н. Бора — объектного восприятия природы ее субъективированием и общением с нею в тех жизненных обстоятельствах которые позволяют это делать, то есть за пределами науки и материального производства.