Отношение язычества к христианству, веры к знанию
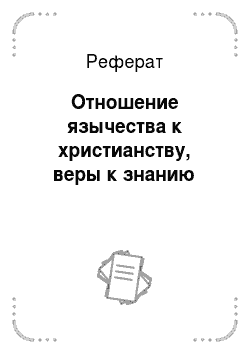
Таким образом, живое существо водит по небу эти светила. Падает громовой удар: конечно, он пущен человеческой рукою, потому что бросать может на земле только человеческая рука. Всякий земной предмет сделанный, начало коего может быть указано, стало быть, всякий предмет, мыслимый для дикаря по отношению к своему началу, в решительном большинстве случаев сделан человеком. Поэтому в решительном… Читать ещё >
Отношение язычества к христианству, веры к знанию (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Теперь, по истечении (почти) 900 лет после официального принятия христианства, в памяти народа сохранились безо всякого участия письменности (или, лучше сказать, благодаря незнакомству с письменностью) столько остатков язычества, что по ним можно довольно полно воссоздать образ этого язычества.
В разной степени то же встречается и во всех христианских странах.
Старинная письменность передала нам лишь скудные известия о языческих богах и игрищах, между тем как богатство изустных языческих преданий до сих пор еще не исчерпано.
Какие же причины этой долговечности язычества?
Сама церковь во многом волею-неволею содействовала этому сохранению язычества. «Самим духовным,—говорит Гримм,—не всегда удавалось найти границу между языческим и христианским: под их собственный вкус могло подходить* многое языческое, коренившееся в толпе.
В языке рядом со множеством греческих и латинских слов, вновь введенных для церковного употребления, осталась и часть немецких, связанных с язычеством, например, имен богов — в названиях дней недели. К этим словам незаметно примкнули и языческие обычаи, языческие празднества, так сросшиеся с жизнью народа и такие тягучие, что принимали в себя постороннюю, христианскую примесь, лишь бы сохранить хоть отчасти любимую испытанную старину. Христианские праздники, по-видимому, не без умысла со стороны церкви совпадают с языческими. Церкви воздвигались на местах именно низверженных идолов или священных деревьев, и народ продолжал привычные посещения этих мест.
Нередко самые стены языческого храма превращались в церковь. Языческие горы и источники принимали имена христианских святых, и на этих последних переходило уважение, которым некогда пользовались первые. Священные леса становились собственностью вновь основанного монастыря или короля; но и в частных руках они отчасти продолжают чествоваться. Юридические обычаи, особенно суды Божьи и клятвы (присяги), обходы границ, благословения, обносы изображений богов, сохраняя свою языческую сущность, соединялись с церковными обрядами. Некоторые обычаи языческие и христианские сходились. Так, например, языческое окропление водою новорожденного напоминает крещение, форма молотка (оружие Тора) —крест и т. п.
При столь многообразном смешении языческой и христианской внешности не могло не произойти и смешение взглядов простодушного народа. Еврейское и христианское учение стали сближаться с языческим, и языческие заблуждения и предрассудки стали заполнять места, не занятие новою верою. (То на христианское содержание повлияли языческие формы, то наоборот)" [146, с. XXXII—XXXIII]. Какие же места не могли быть заняты новою верою? В чем христианство не могло удовлетворить потребностям новообращенных? «Христианство, — отвечает Шварц, — принесло только веру во единого Бога и Христа, пострадавшего за грехи человечества, и затем — немногосложное богослужение. Но оно, вообще исключающее природу, не дало объяснения многим чудесным явлениям природы, которые язычник объяснил, связавши со своею верою. Только немногие главные явления природы, например, гроза, течение звезд, да и то поверхностно, приведены в связь с христианским Божеством. Поэтому христианство могло лишь несколько ограничить, но не могло вполне устранить той части язычества, которая обращена к природе. Далее, христианство оставляло много незаполненного пространства вокруг событий семейной жизни, рождения, брака, смерти, вокруг занятий, например, охоты, земледелия, скотоводства, пряденья» [200, с. 5].
Единобожие, оторванное от своих корней и перенесенное на чуждую почву, не заключает в себе знания природы. Преимущество его перед язычеством относительно знания природы заключается в том, что оно ставит Божество как конечную причину вне мира и дает возможность объяснять явления природы механическими взаимодействиями частей. Между тем языческий пантеизм помещает богов внутри природы, ближе к человеку и тем самым принужден чаще искать объяснения явлений в конечных причинах, в решениях Божества. Для еврейско-христианского единобожия мир за исключением души человека — это материя, приводимая в порядок Божеством. Для языческого многобытия мир — это само Божество или совокупность божеств. Но такое преимущество единобожия обнаруживается не сразу. Оно только облегчает познание природы, но не заключает его в себе. Язычество берет верх до тех пор, пока единобожие принуждено отвечать на всякий научный вопрос: «Так Богу угодно». Это не ответ. И язычники признают, что без воли Божества, управляющего явлением, не происходит самое явление. Гораздо удовлетворительнее языческие объяснения, например, грозы: гром —это, положим, стук колесницы, катящейся по небесному помосту, громовой удар — это стрела, пущенная тем, кто едет в той колеснице. Движение колесницы, стук колес, полет стрелы — все это происходит по тем законам, как и на земле; чудесное состоит лишь в том, что это небесная колесница, а не земная.
Таким образом, победу над язычеством христианство могло одержать только при пособии науки. Так как науки не было или так как она была и отчасти есть достояние немногих, то низшие слои и продолжают быть язычниками во всем, не исключая отношения явлений к конечной причине, Богу. При этом следует помнить, что, как видно из опыта, мысль множества людей может обойтись без того, что мы называем знанием конечной причины.
Как же определить ближайшие отношения науки, которая пособляет христианству в борьбе с язычеством, но может стать и во враждебные отношения к самому христианству, каковы же отношения науки к христианству и язычеству? Ставя вопрос шире, можем выразить его так: что такое вера и что знание?
«Различие, делаемое философами между верою и знанием, основано на ошиоочном понимании миросозерцания. Вера есть эстетическое дополнение знания в искусстве (посредством искусства). Она становится ложью и бессмыслицею, когда силится сохранить господство в таких областях, где возможны уже ответы знания. Мы знаем те явления, взаимные отношения коих познаны до такой степени, что не изменяются в наших глазах и при дальнейших открытиях». Пределы между знанием и верою зависят от степени образованности, то есть от того, как далеко может зайти наша мысль, не теряясь в неопределенном горизонте. Подобным образом, дитя лишь исподволь приобретает уменье правильно пользоваться своим зрением. Дикарь, для коего прошедшее и будущее ограничено вчерашним и завтрашним днем, вполне удовлетворен мыслью, что небо есть твердь, свод, изгибающийся над его головою. Немалых напряжений стоило его мысли зайти так высоко. Дошедши туда, она успокаивается и нелегко может быть подвинута к дальнейшему исследованию, к вопросу: а что же там дальше, за этою твердью?
Естественно, что дикарь населяет свой небесный Олимп существами, образ коих сложен из наблюдений над земными предметами. При этом процессе он следует тем самым законам мысли, как и при познании ближайшей действительности. Неизвестное объясняется известным. Он видит, например, движение солнца, месяца; он видит, что всякое земное объяснимое движение, то есть взятое таким, в котором начало, конец и причина того, а не другого направления вполне ясны, исходит от живых существ. Он обобщает это и принимает живое существо за причину всякого движения.
Таким образом, живое существо водит по небу эти светила. Падает громовой удар: конечно, он пущен человеческой рукою, потому что бросать может на земле только человеческая рука. Всякий земной предмет сделанный, начало коего может быть указано, стало быть, всякий предмет, мыслимый для дикаря по отношению к своему началу, в решительном большинстве случаев сделан человеком. Поэтому в решительном большинстве случаев на небо ставится человекообразный создатель. (Впрочем, будет ли это человекообразное существо или животное'— это зависит от степени развития. Известно, что зооморфизм предшествует антропоморфизму.) Какие бы религиозные представления ни образовал себе дикарь, во всяком случае в них нет ничего такого, что бы специфически отличало эти представления от остального его знания. Бежит ли в его глазах солнце от преследующего врага, ездят ли по небу в колеснице, разрубливают ли месяц пополам или пожирает его чудовище, во всяком случае это случайная ассоциация человеческих действий с небесными явлениями. Эта ассоциация становится временным объяснением явления, и ее верность или неверность так же не может быть непосредственно доказана, как невозможно нашим астрономам взять в руку месяц и пальцем показать на нем горы и долины. Астрономическое объяснение линий, описываемых месяцем, законы движения планет — ведь это тоже случайные ассоциации наблюдений, которые отличаются от первобытных ассоциаций в голове дикаря лишь большею художественностью сопоставления частей. В сущности, сведения наши о звездах так же невелики теперь, как и тогда, когда их считали за вбитые в небо золотые гвозди. Мы сделали множество наблюдений над их быстротою, величиною, формою и составили из этих наблюдений систему, которая до тех пор будет оставаться истиною, пока из нее будут без натяжки объясняться все наблюдения, но которая каждую минуту может быть разрушена новыми открытиями, как Птоломеева была разрушена системой Коперника. Добытое нами преимущество состоит в том, что падение системы может совершиться без вреда для раз навсегда добытых фактов; в том, что обобщения служат для нас лишь временным объединением и завершением отдельных явлений.
Прогресс нашего времени состоит в преимуществе естественно-исторической методы исследования, которая, будучи способна к органическому развитию из себя, сделала впредь невозможным возвращение от знания к вере. Такие отпадения постоянно встречались в древности, потому что мысли недоставало той поддержки со стороны накопления массы наблюдений, которая для нас служит широким основанием для дальнейших [132, т. 1, с. 16−18].
Все содержание нашей мысли исчерпывается тем, что мы знаем, и тем, во что мы верим. Решение вопроса об отношении знания и веры зависит от решения другого: имеет ли мысль какие-нибудь особенные средства для усвоения предметов веры, действуют ли на нас эти предметы не тем путем, которым действует познаваемое? Нам известен только один путь: чувственные восприятия. Все, что не дано непосредственно чувствами, есть лишь сообразная со свойствами души переработка чувственных восприятии. Наитие свыше, зрение помимо глаз, слух помимо ушей принадлежат к числу патологических явлений. Люди, уверенные в своем непосредственном сообщении с неземным миром, как ни высоко они стояли над человеческим уровнем по своим способностям, не объявляли людям ничего такого, что бы не могло быть выведено из современного им запаса знаний. Если же у мысли верующей и мысли познающей одни средства, если знание и вера строятся из того же материала, то различие между ними может состоять только в степени. Стихии знания не трудно показать в язычестве (примеры см. [132]) и в христианстве. В чем могут состоять побуждения верить в самостоятельность и бессмертие души, в существование личного Бога? В том, что при данном состоянии знания эти верования требуются знанием. Человек не может себе иначе объяснить своих духовных явлений, как присутствием в себе нетелесного начала, не подверженного разрушению, видоизменяющему материю; он не может иначе понять существование мира, как допустивши существование Творца. Везде исходная точка —знание и цель —знание. Вера нужна для понимания и сама есть известного рода понимание. Этим исчерпывается ее функция. Практическое значение веры, ее значение для чувства — эти значения производные. Так, например, человек в скорбях ищет успокоения в мысли, что эта кратковременная жизнь есть время испытания, страдание — следствие греха, за покаянием следует лучшая бесконечная жизнь. Здесь вера успокаивает чувство. Но то же самое делает знание. Например, у меня болит голова, я успокаиваюсь тем, что это от угара и что если устранить угар, то головная боль пройдет. В простейших формах веры особенно легко заметить, как положения веры возникают из ассоциаций между наблюдениями. Так же возникают научные положения. (Примеры.).
Однако есть существенная разница между знанием и верою. То познано нами, что не изменяется в наших глазах при дальнейших открытиях, и, наоборот, все изменчивое в нашей мысли есть вера. Так, в любом языческом объяснении солнечного течения сознанная круговидная форма видимого солнца, изменчивость точек, занимаемых им на небе, свойство согревать, вызывать растительность— это знание, все остальное вера. Это знание, как бы оно ни казалось малым, есть уже значительный шаг вперед. Животное и ребенок не только не имеют понятия о круге, но и не знают, что солнце светит. Они только чувствуют это. Граница между знанием и верою отодвигается и становится яснее по мере накопления в науке непоколебимых фактов. В первобытном человеке стихии знания и веры перемешаны. Отношения ближайших к нему предметов составляют предмет веры. Горизонт мысли узок. (Примеры из Бастиана.) Средневековые верования в участие Бога в делах человеческих.— В Ипатьевской летописи, под 1111 г.: «Вложи Богъ Володимеру въ сердце и нача глаголати брату своему Святополку, понужая его на поганыя…» [48, с. 1]. Этого нельзя считать за благочестивую фразу. Действительно, знание душевной жизни так мало, зарождение мысли в глазах века так таинственно, что причиною его люди могут считать только первую причину — Бога, или, как на другой странице [48, с. 192], ангела, или же, если мысль злая, научение дьявола. Бегство половцев перед немногочисленным полком Володимеровым есть дело сверхъестественное: «…падаху половци передъ полкомъ Володимеровымъ, невидимо стинаемы на землю. И побита я въ понеделникъ страстный… избьени быша иноплеменницъ многое множество на рЪцЪ СалницЪ, и спасе Богъ люди своя… И въспросиша кол од — никъ, глаголюще: „Како васъ толика сила и многое множество, не могосте ся противити, но въскорЪ побЪгосте?“ Си же отвЪщеваху, глаголюще: „Како можемъ битися съ вами? А друз1 и Ъздяху верху васъ въ оружьи свЪтлЪ и страшни, иже помогаху вамъ“. Токмо се суть ангели, от Бога послани помогать хрестьяномъ» [48, с. 2].
В наше время уже ни один образованный человек не ищет объяснения отдельным решениям человеческой воли, отдельным историческим событиям в непосредственном влиянии Божества. Однако многие верят еще в свободу воли как далее неразложимую причину душевных движений, однако до сих пор возможно видеть в Боге первого двигателя истории.
Таким образом, прошедшее представляет нам постоянное стремление заменять первые причины вторичными, которые, в свою очередь, разложимы и объяснимы другими причинами. Стремление это сдерживается притязаниями веры решать по-своему вопросы, уже решенные наукой, но последняя рано или поздно берет верх. Человеку мало заманчиво «духовное самоубийство»; ум лишь немногих может отречься от себя и помириться с противоречием предания и живой науки. Можно ли из этого заключать, что настанет время, когда вера вполне заменится наукой? Научные предположения, еще не составляющие веры, но ближайшим образом сродные с нею, конечно, будут всегда иметь место;'конца сущему мы не видим и не можем представить себе времени, которое бы обеднело задачами, которому нечего было бы делать. Из этого следует, что тем менее можем представить себе время, когда бы самые верхи здания науки были построены раз навсегда. Если первостепенное неясно и не решено, то и о второстепенном могут существовать только предположения. Если вера в личного и человекообразного Бога перестанет удовлетворять мысль, это верховное начало заменится другим, таким же временным. Одно несомненно: человек с каждым шагом вперед научается более и более различать степени вероятности и оценивать средства своего ума. Уже и теперь ясно, что, занимая незначительную частицу мира, нельзя обнять мыслью всего мира. Оценить это убеждение можно, лишь сравнивши его с тою ограниченною цельностью взгляда первобытного человека, примеры коей были приведены выше.
Возвращаюсь к поставленным выше вопросам.
Язычество есть такое миросозерцание, в котором конечные причины в большем или меньшем количестве размещены в самом мире.