Вместо заключения.
Нобелевская лекция бродского: манифест или эпитафия?
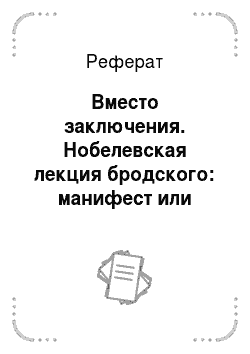
Парадокс четвертый — этический эстетизм Бродского, провозглашающего: «Эстетика — мать этики». Настаивая на первичности выбора эстетического перед выбором нравственным, он говорит: «В этике не „все позволено“ именно потому, что в эстетике не „все позволено“, потому что количество цветов в спектре ограничено». Преимущество эстетического выбора Бродский видит в том, что такой выбор «всегда… Читать ещё >
Вместо заключения. Нобелевская лекция бродского: манифест или эпитафия? (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Речь пойдет об отношении речи последнего корифея русской поэзии к неотрадиционализму. Словом «неотрадиционализм» автору настоящих очерков привычно обозначать одну из трех ведущих линий размежевания поэтической культуры, наступившего после символизма. Иосиф Бродский отрефлектировал парадигму этого размежевания следующим образом: «Один певец подготовляет рапорт (явный соцреалист — В.Г.). / Другой рождает … ропот (авангардист, конечно — В.Т.). / А третий знает, что он сам — лишь рупор, / и он срывает все цветы родства».
Певцом третьего типа был и сам Бродский, самоопределившийся как поэт, который «отдал предпочтение классицизму». К этой же — по сути дела акмеистической — линии следует причислить и тех, кого честь быть услышанными с нобелевской кафедры, по мнению Бродского, незаслуженно миновала: Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Анна Ахматова, а также Роберт Фрост и Уистен Оден; отнюдь не случайно впоследствии упоминается и Рильке[1]. Что касается имени Цветаевой в этом ряду, то Олег Клинг убедительно показал в ней носительницу «московского акмеизма»[2]. Конечно, в этом созвездии имен не хватает позднего — именно позднего — Пастернака, но, вероятно, лишь по той простой причине, что Пастернак не был обойден нобелевским вниманием, хотя почетную лекцию ему произносить и не довелось. Всех названных объединяет присущая классицизму и нетерпимая для авангардистов «строгость» музы, которая, по слову Николая Гумилева, «богиня, а не танцовщица».
Акмеистическая линия в литературе XX века — это такая любовная приверженность традициям «мировой культуры» (всемирность художественной традиции Бродский акцентирует, опираясь на Мандельштама), которая, по выражению Бродского, «всегда бежит повторения». Подобное творческое поведение парадоксально, как и само словечко «неотрадиционализм», первая и вторая половинки которого явно противоречат друг другу. Но парадоксальность — неотъемлемая черта самого неотрадиционалисткого мышления, что нобелевская лекция Бродского продемонстрировала в полной мере.
Рассмотрим явленные здесь парадоксы, памятуя о том, что парадоксальность мысли состоит не столько в диалектическом противоречии составных частей целого, сколько в диалогическом противоречии этого целого — доксе (общепринятому мнению) о несовместимости того, что парадокс совмещает.
Парадокс первый. Бродский настаивает одновременно на «частности человеческого существования», что предполагает «ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности», и на его при-частности. Например: «не будь их (пятерых названных и многих не названных — В.Т.), как человек и как писатель я бы стоил немногого: во всяком случае я не стоял бы сегодня здесь».
Этот парадокс синонимичен бахтинской формуле «причастной вненаходимости». Из причастности частного человека к общей жизни вытекает идея ответственности, пронизывающая всю лекцию: от ощущения в себе ищущего выхода молчания не оцененных по достоинству великих предшественников в начале — до завершающей мысли об ответственности поэта перед языком.
Пафос причастности и одновременно самоценности личностного «я» — своего рода эстетическая доминанта неотрадиционализма:
На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло.
Эти слова молодого Мандельштама могли бы служить эпиграфом ко всей художественной культуре интересующего нас типа. Элегической парафразой идиллического манделыитамовского образа звучит просьба, обращаемая лирическим героем Бродского к стене: «Сохрани мою тень, сохрани», — поскольку «нужно что-то иметь позади». Нужна причастность к объективной стороне жизни, к мировой целокупности, ибо — в противоположность субъекту уединенного сознания — «воображать себя центром даже невзрачного мирозданья» герою Бродского «невыносимо». Напротив, причастность к объективному содержанию жизни обращает личность к себе самой и акцентирует ее самоценность: «И взгляд подняв свой к небесам, / ты вдруг почувствуешь, что сам — / чистосердечный дар».
Парадокс второй. Бродский настаивает на «профессиональном достоинстве» поэта, что отсылает нас прямо к гумилевскому «Цеху поэтов», а косвенно — к аристотелевскому техне античной культуры. Но одновременно он отвергает «повторение чужого опыта», без чего говорить о профессионализме крайне затруднительно, и что было краеугольным камнем действительного, исторического классицизма.
Этот парадокс разрешается неприятием «тавтологии» в искусстве, но легитимностью всякого рода перифразов чужого опыта. Так, например, перифразом пастернаковского «вечности заложника у времени в плену» звучит рассуждение самого Бродского об отношении литературы к государству как о «реакции постоянного, лучше сказать — бесконечного, по отношению к временному, к ограниченному».
Парадокс третий. Утвердив мысль о том, что не литературе следует «говорить на языке народа», но «народу следует говорить на языке литературы», Бродский затем резко осуждает само подразделение людей на народ и интеллигенцию. Однако в основе этих размышлений не социополитическая проблематика, а проблема соотношения читателя (частицы «народа») и автора (принадлежащего, как правило, к интеллигенции).
Начиная со статьи Мандельштама «О собеседнике» (1913) и вплоть до нобелевской лекции Бродского неотрадиционализм исходит из того, что «роман или стихотворение — не монолог, но разговор писателя с читателем» в ситуации равноправия взаимодействующих сознаний. Это конвергентное сопряжение неслиянных и нераздельных индивидуальностей, самобытных «я». Поскольку позиция читателя — активная позиция сотворческого «исполнительства», Бродский исходит из равнодостойности автора и читателя в коммуникативном событии произведения. Поэтому положение, при котором литература оказывается «достоянием (прерогативой) меньшинства», представляется ему «нездоровым и угрожающим». Ведь, если именно членораздельная речь отличает человека от животного, то «литература … будучи высшей формой словесности, — представляет собой … видовую цель» человечества. Отсюда соблазн утопической идеи «замены государства библиотекой».
Парадокс четвертый — этический эстетизм Бродского, провозглашающего: «Эстетика — мать этики». Настаивая на первичности выбора эстетического перед выбором нравственным, он говорит: «В этике не „все позволено“ именно потому, что в эстетике не „все позволено“, потому что количество цветов в спектре ограничено». Преимущество эстетического выбора Бродский видит в том, что такой выбор «всегда индивидуален, эстетическое переживание — всегда переживание частное». Поскольку «зло, особенно политическое, всегда плохой стилист», человек со вкусом менее восприимчив к политической демагогии. Отсюда убеждение: «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор».
За этой формулой — несколько, быть может, утопической — кроется глубинное размежевание неотрадиционалиста как с контр-эстетизмом этатистского, ангажированного письма соцреалистов, так и с анравственным, самовитым эстетизмом авангардистского письма.
Парадокс пятый. Ссылаясь на «великого Баратынского» (знаменательная аллюзия манделыдтамовской статьи «О собеседнике»), Бродский провозглашает приобретение «лица необщего выраженья» — «смыслом человеческого существования» и, в особенности, художественного творчества: «отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии». Но при этом он, как ранее Т. С. Элиот и почитаемые нобелевским лауреатом выходцы из русского акмеизма, утверждает, что развитие искусства «определяется не индивидуальностью художника». Можно составить своего рода антологию рассуждений на эту тему Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Ходасевича, Даниила Андреева.
Парадоксальность этой не новой для неотрадиционалистов XX века мысли состоит, прежде всего, в ее расхождении с общепринятым пониманием роли человеческого субъекта: «Конечно же, — говорит Бродский, — человеку естественней рассуждать о себе не как об орудии культуры, но наоборот, как о ее творце и хранителе. Но … я сегодня утверждаю противоположное». В этом утверждении — глубокое и принципиальное противостояние Бродского любым проявлениям художественного авангардизма, который характеризуется в лекции как альтернативный «путь дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекшегося дыхания».
Авангардист исходит из своей индивидуальности как данности и заявляет о ней деформацией сложившихся форм художественного письма. Тогда как Бродский фактически от имени всех неотрадиционалистов XX века говорит: «Мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым … современным содержанием».
Если поэт авангардистской ориентации, по мысли Мандельштама, ограничивается самоутверждением своей данности на фоне и за счет всех других, то для неотрадиционалиста его личностная и творческая уникальность не данность, а — заданность. К ней следует стремиться, ее следует обрести, реализовать как возможность стать самим собой, «не зная, / Зачем я стал собой, / Как стая / Летит неведомо куда / В порыве вещего труда» (Давид Самойлов). Такую возможность, по убеждению Бродского, перед поэтом открывает язык, который «обладает колоссальной центробежной энергией» и «подсказывает или просто диктует следующую строчку».
Отсюда вытекает, быть может, главенствующий парадокс: «Не язык является его (поэта — В.Т.) инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования». Бродский характеризует переживание поэтического творчества как «ощущение немедленного впадания в зависимость от оного (языка — В.Т.), от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено». Однако — в противоположность Ролану Барту, обзывавшего язык «фашистом» и видевшего в литературе «перманентную революцию слова», направленную против диктатуры языка[3], — Бродский не страшится этой «абсолютной, деспотической» зависимости, ибо она парадоксальным образом «раскрепощает» писателя, открывая перед ним нереализованные доселе возможности. Творец актуализирует потенции языка, «он — тот, кем язык жив» (здесь Бродский цитирует Одена).
Сформулированная Андреем Белым символистская установка «чеканить себя» в творчестве, поскольку художник-символист «есть сам своя собственная форма»[4], ведет к дезонтологизации искусства. Единый вектор неотрадиционализма при всем богатстве индивидуальных его модификаций — реонтологизация искусства путем возлагания на себя ответственности перед онтологическим самодвижением жизни: в ипостаси языка, в ипостаси равнодостойного автору читателя и, наконец, в ипостаси культурной традиции. Последняя, по Элиоту, является чем-то не метафорически — онтологически живым, поскольку с появлением каждого нового значительного произведения вся чутко перестраивается.
Ессе Элиота, опубликованное в 1918 году, и нобелевская лекция Бродского, прочитанная в 1987 году, предстают своего рода опорными скрепами того внешне не очевидного единства ярких творческих индивидуальностей, которое в этой книге именовалось «неотрадиционализмом».
Но читатель этого заключения может заметить: что-то не видно XXI веке поэта, способного встать в этот ряд и занять по отношению к Бродскому позицию столь же значительного творца-продолжателя, какую он сам занимал по отношению к Мандельштаму или Элиоту. Уж не эпитафию ли неотрадиционализму — этому последнему взлету высокой художественности — произнес в Шведской академии бывший советский зэк?
Может быть, и так. Обрыв традиции нельзя исключить. Впрочем, смерть искусства уже не раз, начиная с Гегеля, предрекалась авторитетнейшими умами, но пророчества эти пока что не сбывались. Пусть каждый предполагает сам — в меру своего оптимизма и ответственности, — ибо судьба литературы, как и других родов интеллектуальной деятельности, решается в недрах нашей ментальности. Что же касается пишущего эти строки, то он вслед за Брехтом готов повторять:
«Плохой конец заранее отброшен — он должен, должен, должен быть хорошим».
- [1] См.: Бродский И. Нобелевская лекция // Сочинения Иосифа Бродского.Т. 1. М., 1992. С. 5—16. Цитаты из лекции приводятся далее по этому изданию.
- [2] Клинг О. А. Поэтический мир Марины Цветаевой. М., 2001.
- [3] Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 550.
- [4] Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. М., 1994. Т. 1. С. 40.