Импрессионистические тенденции.
История русской литературной критики хх века
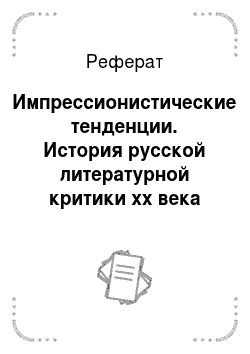
Закономерность появления в литературе 20-х годов ярко выраженных модернистских эстетических систем осознавалась современниками как вполне естественная и связывалась с предшествующим этапом литературного развития. На это указывал, в частности, Виктор Гофман в статье «Место Пильняка»: «Следующая, уже революционная, эпоха была поставлена перед необходимостью считаться так или иначе с переворотом… Читать ещё >
Импрессионистические тенденции. История русской литературной критики хх века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Закономерность появления в литературе 20-х годов ярко выраженных модернистских эстетических систем осознавалась современниками как вполне естественная и связывалась с предшествующим этапом литературного развития. На это указывал, в частности, Виктор Гофман в статье «Место Пильняка»: «Следующая, уже революционная, эпоха была поставлена перед необходимостью считаться так или иначе с переворотом в прозе, произведенным книгами и журналами символистов. Кое-кто из прозаиков пошел в обход прозы символистов (Зощенко, Слонимский, Каверин, Эренбург). Другие же — их большинство — пошли по линии использования различных элементов предыдущей культуры. Синтаксис, ритмика, диалектизмы, стилизация, физиологический натурализм и снижающие подробности в описаниях, „высокая“ декламация, негибкий депсихологизированный герой, цитация, даже графические приемы, — все это, в том или ином соотношении, легло в основу современной прозы. Влияние Белого и Ремизова оказалось для современной прозы решающим. Это было влияние не их системы, а отдельных элементов системы, по-разному вошедших в современную прозу и по-разному гипертрофированных»[1].
Думается, что модернистская эстетика, способная включить в себя и органически преобразовать обломки прежних культурных пластов, соответствовала творческим задачам художников, которые стремились воссоздать картину, выражающую атмосферу переходной эпохи, ее ауру, воплотить общее состояние мира. Импрессионизм, совершенно пренебрегающий деталями формы, чтобы добиться наибольшей силы выражения, «изображает форму только светом и тенью, в то время как глаз рисовальщика ищет контура предметов»[2]. В этом противопоставлении контура свету и тени, мазку, на котором настаивает немецкий историк и теоретик искусства Э. Кон-Винер, скрывается конструктивная основа поэтики импрессионизма, стремящегося «выразить форму не абстрактным рисунком, а передачей красочного мироощущения», предлагающего «технику широко наложенных красок, в совершенстве передающей жизнь»[3].
В 1930 году издательство «Akademia» выпустило книгу Г. Вельфлина «Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве», в которой значительное место отводилось анализу импрессионистической поэтики. Сам факт выхода на рубеже 20—30-х годов этой книги не является, вероятно, случайностью и не служит всего лишь доказательством интереса советского общества той эпохи к работам немецких искусствоведов. Думается, в этом факте есть определенная закономерность: Вельфлин, трактующий средневековую живопись и искусство Возрождения, оказался созвучен некоторым современным тенденциям.
Г. Вельфлин не связывал возникновение модернизма лишь с искусством XX века, но рассматривал его элементы как универсальные.
Картина оживленной улицы, как она написана хотя бы Моне, картина, в рисунке которой ничто, решительно ничто, не соответствует тому, что мы привыкли считать формой, известной нам из природы, — картина с таким явным несоответствием знака и вещи, конечно, еще невозможна во времена Рембрандта, однако в своей основе импрессинизм существовал уже тогда. Знаки изображения совершенно отделились от реальной формы. Видимость торжествует над бытием[4].
Пафос слов немецкого исследователя состоял в утверждении универсальности импрессионистического стиля, его творческих потенций, перспективности и возможности проявления в искусстве любой эпохи:
Где контур покоящегося шара перестал быть геометрически чистой формой круга и изображается посредством ломаной линии, где моделировка шаровой поверхности распалась на отдельные комья света и тени вместо того, чтобы равномерно изменяться посредством незаметных оттенков, — всюду в таких случаях мы стоим уже на импрессионистической почве[5].
В 1927 году И. Иоффе писал о проявлении импрессионистической поэтики в литературе:
«В прозе импрессионизм раздробляет толстый реалистический роман на мелкие эпизоды — новеллы вместо события — впечатления от события незаинтересованного зрителя: общая линия и пара деталей, без подробного описания, без мотивировки сцеплений. Импрессионистические новеллы этюдны, эскизны, не договорены. Здесь нет ни ясности однолинейного реалистического рассказа, ни энергического схематизма экспрессионистической новеллы. Характер, поступки отступают перед их сочетанием, перед стечением обстоятельств происшедшего. Колорит события преобладает над фабулой события. Личность интересна в пределах данного мгновенного события, и не более. Импрессионизм дает человека не единой, спаянной воли, но текучих, изменчивых настроений, безвольного, разорванного на тысячи ощущений[6].
Далее И. Иоффе предлагает основные черты импрессионистической техники в литературе: во-первых, фиксация впечатления через всплывшую, часто случайную деталь; во-вторых, принципиальная неразделенность на важное и второстепенное; в-третьих, наличие словесных мазков, сочетание словесных рядов, внутренне не связанных между собой, но окрашивающих друг друга; в-четвертых, употребление коротких фраз, не требующих логического членения; в-пятых, разработка эпитета сложных и утонченных оттенков, свободного от привычных и логических признаков вещи.
Объясняя исторические и эстетические закономерности организации прозаического текста по законам импрессионистической эстетики, О. Мандельштам писал: «Чего же нам особенно удивляться, если Пильняк или серапионовцы вводят в свое повествование записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописей и еще бог знает что. Проза ничья. В сущности, она безымянна. Это — организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия прозы — накопление. Она вся — ткань, морфология»[7]. В этой статье, опубликованной в 1922 году, Мандельштам иронизирует над такими складывающимися чертами импрессионистической прозы, как эклектизм, отсутствие сюжетной организации текста, а главное — непроявленность авторской поэзии: «Проза ничья. В сущности, она безымянна». В поэтике романа Пильняка, которая осознавалась как наиболее характерная для новой русской прозы, претендующая на господство, Мандельштам не принимает прежде всего особого, чисто «пильняковского» типа взаимоотношений автора и действительности: «редукцию» образа автора, затушевывание повествователя, лишение его активной роли в сюжете, права на вторжение в текст, прямого, а то и косвенного выражения авторской позиции. Мандельштама не устраивает в первую очередь то, что Пильняк отказывается от введения в повествование единого идеологического центра — четко выраженной в образе повествователя авторской позиции (в импрессионистическом романе дистанцированность позиции автора от позиции повествователя маловероятна). «Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, т. е. собирателями. Всякий настоящий прозаик — именно эклектик, собиратель, — размышляет поэт-акмеист. —Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе. Почему именно революция оказалась благоприятной возрождению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип безымянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой настоящих пирамид»[8].
Роль скромного фараонова надсмотрщика за возведением гигантских социальных пирамид никак не устраивала Мандельштама. В романе «Египетская марка» он создает такой вариант импрессионистической эстетики, когда сознание повествователя становится не только способом организации повествования, единственным стержнем которого оказываются причудливые ассоциативные связи, но и идеологическим центром, в котором активно выражена этическая и нравственная позиция художника.
Начиная с 1930;х годов модернистские тенденции в литературе угасают, а из критики уходят вообще — по очевидным причинам социально-политического свойства. Судьба группы ОБЭРИУ, отстаивающей эстетику авангарда: аресты (1929) и высылки (1930) ее участников Д. Хармса, К. Ваганова, А. Введенского, Н. Заболоцкого, которые пытались идти в своем творчестве по пути деформации реальности, обращения к формам абсурда и фантастического гротеска, лишний раз подтверждает невозможность бытования модернизма в литературной ситуации 1930—1950;х годов.
- [1] Гофман В. Место Пильняка. // Борис Пильняк. Л., 1928. С. 30—31.
- [2] Кон-Винер Э. История стилей изящных искусств. М., 1916. С. 20—21.
- [3] Там же. С. 63—64.
- [4] Велъфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиляв новом искусстве. М.; Л., 1930. С. 25—26.
- [5] Там же.
- [6] Иоффе И. Культура и стиль. Система и принципы социологии искусств. Л., 1927.С. 260—261.
- [7] Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фабулы //Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 199.
- [8] Мандельштам О. Литературная Москва… С. 199—200.