Формы романтизации.
История русской литературы первой трети xix века
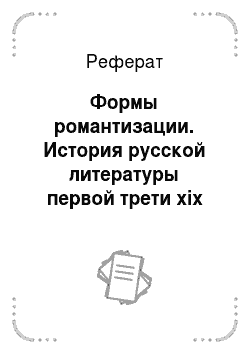
Интересна также сцена первой встречи Аммалата и Селтанеты. Раненому и обессиленному юноше вдруг предстает красавица-девушка, его избавительница; с этого момента в его сердце пробуждается любовь. Идущая от восточных поэм Байрона сцена ночного посещения красавицы была излюбленным сюжетным ходом русской романтической поэмы. Применительно к «Аммалат-беку» можно отметить и более близкий источник… Читать ещё >
Формы романтизации. История русской литературы первой трети xix века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Рассмотрим несколько форм романтизации исторического и народного материала, обратившись к явлениям, уже достаточно определившимся, а именно к трем повестям А. А. Бестужева-Марлинского 1830-х гг.
Одна форма представлена повестью «Мулла-Нур» (1836). Ес суть заключается в том, что местный национальный материал (здесь — Дербент, Кавказ, Восток) становится полноправной ареной развития романтической коллизии. В свою очередь, это связано с тем, что центральный персонаж (взятый из данной национальной сферы) повышается до принятого в русском романтизме уровня идеологической и эстетической значимости. Белинский недаром называл (иронически) главного героя повести «татарским Карлом Моором»[1].
Витиеватая реплика Мулла-Нура: «Я положу свое сердце на ладонь твою и расскажу тебе все» — предваряет его исповедь. Затем слово берет повествователь:
«И он рассказал главные случаи своей жизни; но только сначала обращался он ко мне; потом, разгораясь на бегу подобно колеснице, рассказ его превратился в какую-то жалобу, в какую-то прерывчатую исповедь, в чудный разговор с самим собою!.. Казалось, он вовсе забыл, что тут есть слушатель».
Перед нами формула самодостаточности исповеди в чистом виде, когда исповедь есть средство самовыражения, а не информации; а слушающий выступает лишь как повод или точка приложения исповеди, но не ее адресат. Главное, к чему стремится исповедь, корректируя или оттесняя авторскую речь, — наиболее полно выразить мир центрального персонажа. Все это нам хорошо знакомо как признак романтического развития коллизии.
Однако в «Мулла-Ну ре» есть исповедь, но нет исповедуемого содержания: после нескольких самых общих фраз повесть оборвана рядом многоточий. Недоговоренность доведена до предела, но именно это обстоятельство открывает широкий доступ ходовым романтическим ассоциациям и представлениям. Дана самая общая схема предыстории: «Он убил своего дядю и бежал в горы». Иными словами, обозначено самое главное: люди поступили с Мулла-Нуром несправедливо; тот отомстил и бежал от людей. Все остальное можно было достроить и дополнить подробностями в соответствии с типичным каноном романтической судьбы[2]. Этот канон Мулла-Нуру вполне по плечу.
В разбойничестве Мулла-Нура оттенена известная честность и порядочность. Это благородный разбойник, помогающий бедным, устраивающий судьбу Искандер-бека и, подобно Карлу Моору, удерживающий своих товарищей от кровавых дел («…мои товарищи, если б не висела над ними моя рука, грабили и резали бы встречного и поперечного бессовестно, беспощадно»). Ассоциации с Карлом Моором вновь обнаруживают влияние движения Бури и натиска на поэтику русского романтизма. Причем характерно, что подходящей основой, в которую внедрялись элементы штюрмерства, служит здесь местный, национальный материал.
Говоря точнее, автор — европеец на Востоке — постоянно держит в сознании свой, родной мир, сравнивает с ним нравы и обычаи «народа младенчествующего», т. е. выдерживает дистанцию. Однако там, где имеется в виду фон центрального персонажа, сопоставление с Петербургом не приобретает характера предромантической оппозиции, когда, с одной стороны, европейское, а с другой — естественное, нецивилизованное. Это естественное становится вместилищем той же косности, несправедливости, алчности, которые обычно отличают окружение героя, только в иной форме (в связи с этим в изображении кавказского фона переплетаются два мотива: с одной стороны, «люди везде люди!», а с другой — «в жарком климате» все выражено еще острее, резче). Там же, где повествование обращается к заглавному герою, указанное противопоставление вообще теряет силу, поскольку Мулла-Нур полноправно представляет уровень центрального романтического персонажа. К этому надо добавить, что авторская линия (которая обычно демонстрирует разновидность романтической судьбы) в «Мулла-Нуре» недостаточно выявлена. Лишь однажды глухо звучит в речи повествователя мотив «прежних радостей» и перенесенной «бури».
Другую форму романтизации народного материала (здесь это жизнь северорусских поморов и мореходов) представляет «быль» «Мореход Никитин» (1834). Начнем с того, что наряду с рассказом о персонажах из народа, четырех архангельских мореходах, вновь вступает в свои права история авторской судьбы. История эта вкраплена в повествование отдельными отступлениями, эпизодами, намеками, обрывками фраз, но в них-то как раз все дело. В беседе с читателем автор отказывается полностью уйти со сцены и уступить ее всецело своим персонажам. В то же время он отказывается рассказать о себе более или менее подробно и связно:
«…Милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня в стружках, в насечке, в сплавке. 11е мешайте ж мне разводить собою рассказы о других: право, не останетесь внакладе».
Мы уже знаем, что узнавание «кусочками», сохранение атмосферы тайны — характерная черта романтического стиля. Вот, скажем, один из персонажей произносит слово «однако», и повествователь рад закрутить по этому поводу автобиографическую «стружку»:
«Ох, уж мне это „однако“ вот тут сидит, с тех пор как учитель хотел было, по его сказам, простить меня за шалость, однако высек для примера; с тех пор как мой искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мне в привязанности и за словом, однако, надули меня…».
«Кусочками» мы узнаем и об измене друзей, и об измене возлюбленной — словом, весь обычный горестный опыт романтика. Этим опытом пропитаны и сравнения, ассоциации: «Вот потянул ветерочек слева; но он был неверен, как светская женщина, колебался туда и сюда, как нынешняя литература…».
Опыт повествователя соотнесен с переживаниями его народных героев. Увы, для автора уже невозможно превратиться «в чистое, безмятежное святое чувство самозабвения и мироневедения». Никитину же и его товарищам была бы непонятна и чужда современная сложность повествователя. Именно «в сплавке» с авторской судьбой видна необычная острота и свежесть народного мировосприятия; получают привлекательность новизны и немудрящая народная песня, и простые мечтания, вроде пробудившегося в Алексее «пивного воспоминания», и натурфилософские рассуждения вроде следующего:
«А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, ростом-дородством будет с царский корабль?
— Кит киту рознь, — преважно отвечал дядя Яков. — Есть сажен в десять, есть сажен в двадцать; да это на нашем веку так они измельчились. В старину то ли было! Лет два сорока тому назад, в страшную бурю, прошел мимо Соловецкого кит, конца не видать…".
В «Мореходе Никитине» романтическое отчуждение не проецируется на народную, национальную, нецивилизованную почву (как в «МуллаНуре»), но оставлено в своей собственной, европейской сфере (конкретно — в сфере повествователя). Оба мира оттеняют друг друга и морально контрастируют. Цивилизованное лишено естественности и цельности народного мировосприятия; так же как последнему далеки и непонятны сложность психического строя и в конечном счете весь путь отчуждения образованного рассказчика. Контраст соответствует излюбленной романтиками антитезе европейца и естественного человека (знакомой нам по пушкинским «Цыганам», «Наложнице» Баратынского и т. д.). В сравнении с предромангической оппозицией «народное — цивилизованное» эта антитеза лишена моральной однозначности. Первое противостоит второму не только как нравственно более ценное и в национальном смысле более специфичное, но и как еще не изжитое, не утраченное и, соответственно, менее развитое. Представление об оппозиции сменяется представлением об уровнях, или стадиях, включающих в себя момент развития; все эго получило более полное выражение уже в иной, логической сфере сознания (в русской общественной мысли — в сфере философской эстетики, устанавливающей поступательный ход художественной эволюции: от символического искусства к классическому, затем к романтическому и далее к новому, «реальному»).
Третья форма романтизации национального (или исторического) материала представлена «кавказской былыо» «Аммалаг-бек» (1832), где в лице ее главного героя мы встречаем характерного романтического персонажа (к тому же расцвеченного всеми излюбленными у Бестужева-Марлинского красотами риторики). Так о свидании Аммалата с Селтанетой читаем: «Оба любовника не могли вымолвить слова, но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца». По стилистической окраске фразы никак не скажешь, что речь идет о горянке и горце.
Интересна также сцена первой встречи Аммалата и Селтанеты. Раненому и обессиленному юноше вдруг предстает красавица-девушка, его избавительница; с этого момента в его сердце пробуждается любовь. Идущая от восточных поэм Байрона сцена ночного посещения красавицы была излюбленным сюжетным ходом русской романтической поэмы[3]. Применительно к «Аммалат-беку» можно отметить и более близкий источник — сцену ночного появления Черкешенки в «Кавказском пленнике» (хотя действие у Марлинского происходит утром, «на заре»). Первым словом Аммалата, когда он очнулся, было: «Это сон!» (ср. у Пушкина: «И мыслит: это лживый сон…»). «Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?» — звучит реплика Селтанеты (ср.: «Но голос нежный говорит: / Живи! и пленник оживает»).
Пробужденный Верховским к умственной деятельности, Аммалат-бек заносит в свой дневник:
«…Спал ли я до сих пор или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется мыслию!.. Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь…».
Автор снабжает выдержки из дневника Аммалата пометой: «перевод с татарского». Для местного колорита повести важно оговорить, что рассуждения писаны не по-русски, но совершенно необязательно приводить их стиль в соответствие с национальным типажом (точнее, Бестужев-Марлинский понимает это соответствие по-своему: национальное, кавказское — как максимальная экспрессивность романтического чувства).
Пожираемый ревностью, ставший жертвой интриги Ахмет-хана, Аммалат следующим образом изливает свои чувства против Верховского: «Верховский! что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы?» (т.е. арестовать и сослать в Сибирь). Подстрекая себя на месть, на жестокое дело, Аммалат говорит: «Чувства человеческие!.. Зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества?».
Уже из этих цитат видно, что Аммалат проделывает путь отчуждения, мало чем сличающийся от соответствующего пути многих известных нам персонажей. Это все тот же путь, с излишествами мести, с ее высоким идеологическим обоснованием — все вплоть до гибели, которой он искупает и свои преступления, и свое превосходство. Многократно возникает и обыгрывается в применении к Аммалату, убийце Верховского, мифологическая и, как мы знаем, излюбленная романтическая параллель — Каин.
Среди инвектив Аммалата особенно интересна инвектива против русских:
«Право, ничем не лучше наших татар. Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего».
Инвектива эта интересна тем, что совсем не вытекает из сюжета и материала повести (столкновение Аммалата происходит с одним оклеветанным Верховским, но не с русскими вообще). Она словно дана поверх материала, отражая ситуацию всеобщего романтического разочарования.
Можно подумать, что в «Аммалат-беке» (как и в «Мулла-Нуре») романтический конфликт на национальном (кавказском, восточном) материале предстает самодостаточным и завершенным. Однако повесть заметным образом ограничивает такой конфликт. С этой точки зрения в «Аммалатбеке» важны две фигуры — Ермолова и Верховского. Оба они создают необходимый русский (т.е. в данном случае европейский) фон. Ермолов — царственно величественный генерал, носитель государственной мудрости, не без вольнолюбивой, декабристской (и несколько идеализированной) ее окраски. Верховский — один из верных офицеров Ермолова, превращающий общий план европеизации и просвещения в конкретное дело: в воспитание Аммалата. Казалось бы, выполняя свой план, служа с таким начальником («…ну, право, дай Бог век жить и служить с таким начальником!»), Верховский не должен знать никаких темных дум. Тем не менее мы слышим от него:
«Мое бытие — след цепи па бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая меня, пособляет коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли…».
В другом месте: «Мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что приказывал делать… но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное».
Эти инвективы никак не обеспечены материалом (ведь мешал планам Верховского в отношении Аммалата местный царек — деспот Ахмет-хан, но не сослуживцы, «недружные товарищи»), как не обеспечены были материалом и некоторые инвективы Аммалата. В жалобах Верховского — своя надличная обязательность (и в связи с этим трафаретность); похожее мы уже слышали и от капитана Правина, и от десятка других романтических персонажей. Эти инвективы и излияния — безошибочные знаки процесса романтического отчуждения, которым Верховский, оказывается, затронут, несмотря на его просветительскую устремленность и прагматизм. Но тем самым устанавливается соотношение двух романтических судеб — Аммалата и Верховского. И даже двух типов любовных отношений: Верховский — Мария и Аммалат — Селтанета. Верховский в любви подчинился судьбе, хотя не заглушил (и не мог заглушить) в себе чувства; он не посягнул на законные узы (Мария была замужем), умел довольствоваться платонической любовью. Аммалат тоже должен был подчиниться судьбе, так как его любимая — дочь заклятого врага его друга и России, но не смог и не захотел подчиниться.
Мы видим, что автор повести словно переадресовывает момент примирения, отречения: в пушкинских «Цыганах» этот момент характеризовал Старика, но не Алеко; представителя среды естественной, но не цивилизованной. У Бестужева-Марлинского все наоборот. При этом, разумеется, принципиального сближения европейца с таким характером, как старикцыган, сближения с примирившимся естественным человеком не происходит. Верховского, как и всех персонажей его склада, характеризуют драматично напряженные отношения с окружением, он в разладе с косной средой, или, иначе говоря, переживает процесс отчуждения. И в этом процессе момент самоотречения занимает свое место как знак особого, утонченного, высокого уровня развития в сравнении с более примитивной эволюцией Аммалата. Экспрессивность, необузданность, импульсивная капризность страсти горца были отмечены и в «Мулла-Нуре», но в «Аммалат-беке» все это создает видовое отличие одного романтического конфликта от другого:
Азия — «колыбель рода человеческого, — говорит Верховский, — в которой ум доселе остался в пеленках… Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту».
Создаются, фигурально говоря, «европейский» и «азиатский» уровни коллизии, и соприкосновение их столь же драматично, как всякое столкновение европейца с сыном природы: «В жизни все оказалось значительно сложнее, нежели думал русский просветитель Верховский»[4].
Однако неудача Верховского не только не отменяет, но, наоборот, подчеркивает иерархичность обоих уровней, чье соотношение (в смысле развития, прогресса) примерно такое же, как соотношение авторской судьбы и народной жизни в «Мореходе Никитине». Только в последнем случае романтический конфликт был дан в спайке с инородным ему, не знающим подобных судеб национальным материалом, тогда как в «Аммалатбеке» одна романтическая судьба дается на фоне другой. В «Аммалат-беке» предромантическая однозначная оппозиция также уступает место сложному представлению об уровнях, но в качестве масштаба последних взяты романтические эволюции во всей их протяженности, романтические конфликты во всем их объеме.
* * *.
Таким образом, мы выявили три формы романтизации:
- 1) национальное как полноправная сфера романтической коллизии;
- 2) романтическая коллизия в развитой европейской сфере (конкретно в сфере автора) в соотношении с цельной, лишенной конфликтных симптомов национальной почвой;
- 3) романтические коллизии как в развитой, так и в естественной сфере, в их сложном иерархическом соотношении.
Первая форма превосходит последующие в смысле монолитности, всеобъемлемости романтического мышления (единый романтический конфликт независимо от материала и жизненной сферы). Вторая и особенно третья форма обнаруживают стремление к дифференциации романтического мышления, фиксированию видов и их детерминизму — тенденция, которой в сфере теоретической мысли (главным образом, повторим, уже в сфере философской эстетики) аналогичны явления историзма[5].
- [1] Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 4. С. 50.
- [2] В. Г. Базанов опубликовал записанный Бестужевым-Марлинским автобиографическийрассказ Мулла-Нура (см.: Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Публицистика.Проза. Критика. М., 1953. С. 491). Этот документ, по мысли исследователя, «значительноуточняет биографию легендарного героя», «в частности, выясняется история загадочногоубийства» дяди. Однако запись Бестужсва-Марлинского нельзя мыслить как бы принадлежащей к тексту повести, биографию персонажа нельзя дополнять внетекстовым материалом. Лаконизм и недоговоренность повести не вяжутся с прямой текстовой расшифровкой и распространением. Иное дело — содержащиеся в самом тексте ассоциации и сближения.
- [3] Это отмечено Жирмунским (см.: Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. С. 163).
- [4] Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. С. 473.
- [5] Более подробно см.: Манн 10. В. Русская философская эстетика. 2-е изд. М., 1998.