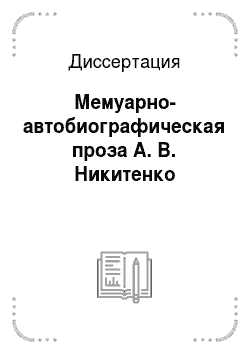Мемуарная и документальная литература — дневники, письма, автобиографии — давно и обоснованно признаны в литературоведении как литературные факты, содержащие важные и существенные для развития собственно литературы черты, грани, аспекты, принципы. Изучение мемуаристки, эпистолярий, дневников автобиографических записок, расширяя границы «литературного ряда», помогает увидеть многоликий и разнообразный процесс взаимного влияния и взаимного обогащения «промежуточной литературы» (Л.Я.Гинзбург) и литературы художественной. В литературоведении эта тенденция обоюдной «зависимости» разработана достаточно полно. Так, Ю. Б. Виппер прослеживает на примере литературы эпох Ренессанса и Просвещения взаимопроникновение истинной автобиографии и художественного произведения: «Многие романисты XVIII века или широко используют в своих произведениях жизненный материал, почерпнутый ими в воспоминаниях реально существовавших лиц (например, Дефо в „Робинзоне Крузо“, Лессаж в „Приключениях капитана Бошена“) или же стремятся создать впечатление, что так поступают (например, Прево в „Записках знатного человека“, тот же Дефо и т. д.) В то же самое время сам жанр подлинной, а не вымышленной автобиографии все более проникается эстетическим началом, „беллетризуется“, становится органической частью художественной литературы».1 Далее исследователь особо подчёркивает выдающееся, исключительное, значение «Исповеди» Жан Жака Руссо в процессе взаимного влияния и обогащения документальной и художественной литератур.
П.М.Бицилли рассматривает тот же аспект проблемы взаимных связей художественного творчества и документальных жанров на материале русской литературы, особо оговаривая принципиально важный для его мысли момент: развитие русской литературы не воспроизводит слепо этапы западноевропейского развития, не совпадает с ним полностью, а преломляет достигнутое инонациональным художественным опытом в соответствии со своими культурно-самобытными началами. Отмечая «приверженность» русской литературы автобиографическому роману и близкому ему роману в письмах, исследователь констатирует, что к концу XVIII века этот роман в Европе «выходит из моды», тогда как в русской классической литературе, по преимуществу «деревенской», «домашней», «интимной», он продолжает жить и развиваться. «Собственно говоря, — продолжает свою мысль ученый, -в России этот роман генетически связуется едва ли не в большей степени, чем с западноевропейскими прототипами, широко распространенной русской мемуаристикой ХУШ-Х1Х веков, в свою очередь сильно зависевшей от автобиографического романа (целый ряд русских мемуаров ХУШ-начала XIX века — „романизированные“ автобиографии, восходящие к „Жиль Блазу“,"Кавалеру Фобласу», «Вертеру», «Новой Элоизе», но также, конечно, и к «Исповеди» Руссо) и другими, столь же распространенными видами домашней письменности: дневником и перепискойединственно возможным в русских условиях заместителем разговора".2.
Рассуждения исследователей, построенные на различном историко-литературном материале, во-первых, близки признанием родственности мемуарно-автобиографических произведений и произведений художественных, во-вторых, отсылают к произведению, предлежащему одновременно мемуаристике и сфере художественного творчества -«Исповеди"Ж. Ж. Руссо. Нас в равной степени будут интересовать обе эти мысли, относящие мемуарную прозу к литературному ряду, акцентирующие процесс взаимного влияния, взаимного проникновения художественной и документальной литератур.
В работе Л. Я. Гинзбург «О литературном герое» эта мысль конкретизируется: «Мемуарная литература в выдающихся своих образцахявляется полноценным материалом для изучения разных принципов изображения человека. Мемуары высшего уровня, сохраняя свою специфику, в то же время пользуется методами (нередко они обновляют их и заостряют), выработанными современной и предшествующей литературой».3 Высказанная исследователем мысль о мемуарной прозе как полноценном материале для «исследования разных принципов изображения человека» содержит ограничение, ставит некие пределы, в которые допускаются «мемуары высшего уровня», «выдающиеся образцы» мемуаристки. К таким произведениям самой историей литературы отнесены уже не раз упоминаемая «Исповедь» Руссо, к ним, без сомнения, принадлежат произведения Гете «Поэзия и правда», Герцена «Былое и думы» Но на ряду с вершинными произведениями любого жанра существуют «второстепенная» и «третьестепенная» литературы, создающие не только фон, «оттеняющий бессмертные шедевры», но и передающие атмосферу и среду, в которой эти шедевры создавались.4 Без этой литературы, по справедливому замечанию современного исследователя, «вообще невозможно развитие литературы», в том числе, добавим, и развитие мемуаристки осуществляется только при участии в этом процессе произведений разных уровней.
Уже первая половина XIX столетия поставила перед литературами, критиками, публицистами вопросы, связанные с необходимостью осознания и оценки происходящего на их глазах процесса проникновения фактического, достоверного, «действительно бывшего» в литературу. В. Г. Белинский констатировал «вхождение» мемуаристики в современное ему словеснохудожественное творчество: на его глазах происходили трансформации, сопровождаемые «сменой жанров», направлений, индивидуально-творческих стилей. Общеизвестно замечание критика о романе и повести, пределы которых раздвинулись, дав место «так называемым физиологиям и характеристическим очеркам», но нас особенно интересует следующее умозаключение критика: «Наконец самые мемуары, совершенно чуждые всякого вымысла, ценимые только по мере верной д точной передачи ими действительных событий, — самые мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собой».5.
Ценность мемуаров обозначена Белинским двумя положениями: достоверностью и мастерством их написания. Не подлежит сомнению критерий достоверности в отношении мемуаристики, но думается, он нуждается в некотором уточнении, поскольку речь идет о мемуарной прозе в любых ее жанровых проявлениях и разновидностях, включая собственно воспоминания, автобиографии, дневники, письма. Все произведения мемуаристики6 несут на себе печать личности автора, и достоверный факт приобретает под пером данного автора своеобразную, свойственную индивидуально-авторскому миропониманию окраску, особое глубоко личное освещениеи события, действительно бывшие, подаются в «человеческих документах» неизменно «под углом зрения автора» (В. Виноградов), сообщившего о нем или описавшего его.
Критерий мастерства, пожалуй, категория условная, скорее субъективная, оценочная, чем поддающаяся строгим и точным дефинициям, когда речь идет о произведениях так называемой «домашней письменности». Правомерным и справедливым видится утверждение А. Франса, на первый взгляд, и вовсе снимающее проблему авторского мастерства по отношению к исследуемой литературе открытого самовыражения: «Нет такого дневника, таких мемуаров, таких исповедей, таких автобиографических романов, которые посмертно не снискали бы автору симпатий публики».7.
Причины этого явления, считает А. Франс, кроются в независимости воспоминаний всякого рода от моды и в неистребимой читательской потребности в истине. В то же время ему видится необходимым, обязательным для мемуарной литературы осуществление одного лишь условия: «.мы любим читать письма и записки не только великих людей, но и людей заурядных, если они любили, верили, надеялись и если на кончике их пера есть хотя бы частичка их души».8 Иными словами, непременной составляющей интереса к «человеческим документам» он считает наличие в них индивидуальной авторской неповторимости, выраженной искренно и непосредственно. Суждения Анатоля Франса о мемуаристке близки утверждению, А .И. Герцена в «Былом и думах», коротко и емко ответившего на вопрос: «Кто имеет право писать свои воспоминанья?» — «Всякий».9.
В предисловии к английскому изданию «Былого и дум» 1855 года он обстоятельно и пространно поясняет свою позицию: «Для того, чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком или видевшем виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать».10.
К этому можно добавить: простому человеку, чтобы взяться за перо с целью описать свою жизнь, рассказать о событиях и явлениях, которые ему довелось пережить или наблюдать, нужно осознание ценности своей собственной жизни, своего внутреннего мира, ему необходимо ощущение глубины и серьезности передуманногонадо испытывать непреодолимое стремление зафиксировать в слове то, что прошло перед глазами, что стало его собственной судьбой и судьбой его поколения.
В свою очередь осознание ценности пережитого оказывается непосредственно связанным с пониманием автором своего места в истории, в обществе, что невозможно без ощущения себя личностью, наделенной собственным достоинством и, следовательно, правом своего голоса. Рассуждая о роли мемуаров XVIII века в формировании русской прозы того же и последующего периодов, О. Чайковская так формулирует в «Заметках о документальной литературе XVIII века» важнейшую и обширную тему необходимых литературоведческих исследований: «Записки, жизнеописания, воспоминания являются свидетельством духовной работы своего века». И далее указывает, что в процессе этой работы происходит «рождение и становление чувства собственного достоинства — чувства, без которого подлинная духовная деятельность невозможна».11 Эти процессы в России XVIII-нaчaлa XIX века вполне закономерно связываются с бурными проявлениями перемен в обществе, историческими потрясениями, истоками своими уходящими в царствование Петра Великого. «Ломка традиций во всех областях жизни, — пишет Г. Г. Елизаветина, — формирование дворянства, многочисленные дворцовые перевороты, новые культурные горизонты, заграничные впечатления — все это вызвало широкий поток мемуарных 12 произведений». Обширная и разнообразная литература мемуарно-автобиографического характера, которая повествует о непридуманном, действительно бывшем, о «былом» и «думах» целых прошлых поколений, о «поэзии» и «правде» целых исторических эпох впрямую указывает на рост самосознания личности, на приобретение ею «права говорить о себе».13.
Мемуарно-автобиографическая проза Александра Васильевича Никитенко (1804 — 1877) включает «Записки» (1804 — 1824) и «Дневник» (1826 — 1877). Эти произведения написаны человеком, прошедшим сложный жизненный путь от крепостного до академика, и представляют для историков литературы несомненную ценность историографического и фактографического источника. Одновременно «Записки» и «Дневник» дают богатый материал для собственно литературоведческого исследования, поскольку ведут «прямой разговор о человеке», 14 сумевшем прийти к познанию «своих внутренних возможностей», 15 изменить свой социальный статус, осознать ценность собственной биографии.
Литературный критик, цензор, редактор нескольких периодических изданий, профессор русской словесности, академик Александр Васильевич Никитенко сегодня прежде всего известен как автор трехтомного дневника. Почти каждодневные записи человека, близкого министерству просвещения, Управлению по делам цензуры, Российской академии наук, редакциям журналов «Современник», «Отечественные записки», «Сын отечества», газеты «Северная почта» идругих изданий дают представление о полувековой истории отечественного просвещения, русской науки, журналистики и цензуры, то есть освещают интеллектуальную жизнь России с середины 20-х до конца 70-х годов прошлого столетия. В то же время дневник не только источник фактов историко-литературного и общественно-политического значения. Как всякий дневник, этот «человеческий документ» включает свидетельства, относящиеся к личности автора, отражает его внутренний мир, его пристрастия и склонности, интересы, его жизненную позицию. Написанный человеком, не чуждым русской словесности и «владеющим пером», дневник содержит данные, позволяющие обратиться к изучению его структурной организации, принципов изображения человека и создания «образа автора».
Опубликованные впервые в журнале «Русская старина» в 1889 году, «Записки» и в особенности «Дневник» А. В. Никитенко вошли в научный обиход историков отечественной литературы и журналистики, цензуры и общественной атмосферы 1820-х — 1870-х годов. К свидетельствам.
A.В.Никитенко как к достоверному источнику фактов и сведений обращались в своих трудах литературоведы прошлого времени: М. И. Сухомлинов,.
B.Богучарский, М. К. Лемке, барон Н. В. Дризен, В.Е.Евгеньев-Максимов16 и другие. После переиздания «Дневника» А. В. Никитенко, осуществленного Я. И. Айзенштоком в 1955;1956 годах, не обходится без ссылки на него практически ни одно современное исследование по истории русской.
17 литературы XIX столетия.
Активное цитирование, ссылки на «Дневник» и «Записки» уже в конце XIX столетия сопровождались попытками рассмотреть сами произведения. Одна из них принадлежит литератору и критику В. Р. Зотову, по следам выхода в свет в 1893 году первого отдельного издания «Моей повести о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был.» написавшему статью «Либеральный цензор и профессор-пессимист». Задача Зотова — привлечь внимание к этим произведениям, которые он рассматривает так, как это предложено автором, последовательно: «Записки», а затем «Дневник».
В соответствии с задачей В. Р. Зотов определил жанр своих заметок как «биографический очерк», однако предметом его интереса в статье являются все же произведения «профессора-пессимиста» и «либерального цензора».
А.В.Никитенко и «образ автора», возникающий на их страницах, а не биография реального автора. В основе статьи Зотова — пересказ «Записок» и «Дневника», но ценных наблюдений аналитического характера в первом исследовании мемуаристики А. В. Никитенко тоже достаточно. «Записки» названы В. Р. Зотовым «литературно обработанным вступлением к «Дневнику», которое «представляет верную и любопытную картину сельской и.
1 о провинциальной жизни в царствование Александра 1″.
На наш взгляд, достаточно обоснованно Зотов считает «Записки» неотъемлемой составляющей «Моей повести о самом себе .» и видит в них необходимый пролог к «Дневнику», охватившему пять десятилетий интеллектуально-нравственной жизни автора, его выдающихся современников, эпохи в целом.
Значительными и интересными видятся первому исследователю мемуарной прозы А. В. Никитенко созданные им портреты современниковобращает он внимание на афористичность стиля, на свойственную автору ироничность и точность оценок, искренность в самоосвещении. Не со всеми замечаниями В. Р. Зотова можно согласиться, но ценность проделанной им работы велика, поскольку представляет собой первую попытку рассмотреть мемуарно-автобиографические произведения А. В. Никитенко не только с точки зрения источника сведений об эпохе, но и с точки зрения их литературной значимости.
К двадцатой годовщине со дня смерти А. В. Никитенко написана статья А. И. Богдановича «Никитенко как представитель обывательской философии приспособляемости».19 В центре внимания автора статьи находится «Дневник», названный «удивительной книгой». Анализируя «Дневник» А. В. Никитенко, Богданович видит в нем кладезь фактов, убедительно и ярко представляющих эпоху, и считает, что «личность автора в конце концов стушевывается за фактами и лицами, которые бесконечной вереницей проходят перед нами, ничем не прикрашенные, во всем ореоле правды».20 Тем не менее именно личность автора «удивительной книги» прежде всего интересует Богдановича, становится предметом изучения, материал для которого представляет.
Дневник". Высоко оценивая фактографическую насыщенность «Дневника», Богданович находит достоинства в «самом слоге», который в записях критического характера «делается метким, афористически резким, смелым и острым».21 В данной статье нам кажется примечательным и указание на возникающий у читателя «Дневника» эмоциональный отклик, как известно, ведущий к переживанию эстетического свойства.
Факт переиздания «Дневника» А. В. Никитенко в середине 1950;х годоводно из свидетельств признания его непреходящего историографического и фактографического значения. Следствием публикации стал новый виток интереса к этому человеческому документу и документу эпохи со стороны читателей и историков русской литературы 1820−1870-х гг.
Статья И. Я. Айзенштока и обширный справочный аппарат издания (подробные примечания, основательный указатель имен и периодических изданий) заслуживают самой высокой оценки. Но так сложилось, что публикация «Дневника» впервые без «Записок» определила исследовательскую судьбу этого произведения, рассматриваемого как источник фактов и сведений.
На наш взгляд, концепция автора статьи И. Я. Айзенштока находится также в прямой зависимости от совершившегося разделения «Дневника» и «Записок». Исследователь убежден, что интерес к «Дневнику» «менее всего обусловлен личностью самого Никитенко», что «Дневник» — один из важных источников для ознакомления с литературно-общественной жизнью России 20−70-х годов XIX века, т.к. он насыщен фактами «первостепенного общественного интереса и значения» и в нем отчетливо ощутимо «живое дыхание эпохи».24 Но поскольку дневник .- специфический жанр документальной литературы, который в родовом отношении «тяготеет к лирике», 25 в своей статье И. Я. Айзеншток исследует позицию А. В. Никитенко, интерпретирует его высказывания и факты, зафиксированные им в «Дневнике». Не называя проблему, ученый рассматривает принципы проявления «образа автора» в дневниковом контексте. При этом следует учитывать, что исследовательская задача И. Я. Айзенштока была связана прежде всего с текстологическими.
12 вопросами. Архивные разыскания ученого позволили установить важнейшие для дальнейшего изучения мемуарно-автобиографического наследия А. В. Никитенко факты.
Во-первых, им установлено, что А. В. Никитенко вел дневник в продолжении всей жизни, начиная с четырнадцатилетнего возраста.26 Во-вторых, ученый подтвердил, что подлинные рукописи дневниковых записей Никитенко в основном уничтожены, за исключением нескольких случайных тетрадей. В третьих, наличие рукописных оригиналов дневников за 1859, 1863−1864 годы позволили И. Я. Айзейштоку судить о степени редакторской правки, методично проводимой Софьей Александровной Никитенко.27 Издание «Дневника» в трех томах, научный аппарат издания — результат многолетнего исследовательского труда, значимость которого переоценить невозможно. Именно эта кропотливая работа признанного ученого позволяет сегодня продолжить изучение мемуаристики А. В. Никитенко, привлекая достижения других исследователей истории и теории документально-художественной литературы.
В 70-е годы XX столетия отечественное литературоведение проявило повышенный, закономерный и вполне объяснимый интерес к литературе открытого самовыражения — мемуарам, автобиографиям, дневникам, письмам. Не осталось в стороне от этого интереса и мемуарно-автобиографическое наследие А. В. Никитенко. В частности, 3. Т. Прокопенко публикует в эти годы две работы, посвященные академику из крепостных, обращаясь прежде всего к анализу материалов, содержащихся в трехтомном «Дневнике»: «А. В. Никитенко и Н. Г. Чернышевский», «Академик из крепостных».28.
В последней 3. Т. Прокопенко обращается и к «Запискам» Никитенко, таким образом восстанавливая связь между этими мемуарно-автобиографическими произведениями. Указанные работы ученого стали значительной вехой на пути возобновления утрачиваемого интереса к личности автора трехтомного дневникового массива.
В конце 1980;х — начале 1990;х годов наблюдается новый всплеск интереса к наследию А. В. Никитенко, к его литературно-критической и общественной деятельности.
Одно из свидетельств тому — диссертация И. В. Разуменко «Литературноод критическая деятельность А.В.Никитенко». По мнению автора диссертации, литературно-критические позиции А. В. Никитенко «необходимо исследовать и оценивать в контексте того многообразного материала, который содержит его.
•2 Л.
Дневник". Сопоставляя публичные выступления критика и его дневниковые высказывания, И. В .Разуменко приходит к выводу о своеобразии А. В. Никитенко как критика и историка литературы, работы которого способствовали эволюции отечественной литературоведческой методологии, развивали принципы историзма и народности. о 1.
Статьи В. Г. Березиной указывают на все возрастающий интерес к А. В. Никитенко как автору «Дневника» и множества литературно-критических работ. В статье «Цензор О цензуре» исследователь тщательно прослеживает по «Дневнику» все нюансы и тонкости цензорской деятельности А. В. Никитенко и его отношения к ней, высказанные им в дневниковых записях. Многоаспектная «цензорская» тематика «Дневника», отражающая реальную деятельность его автора, позволяет ученому причислить А. В. Никитенко не просто к цензорам, а к теоретикам и историкам русской цензуры XIX века. Это замечание, на наш взгляд, основательно и справедливо, как верен и вывод этой серьезной работы, подтверждающий слова А. В. Никитенко о его принадлежности одной партиичеловечеству.
Перечисленные работы литературных критиков прошлого и современных ученых прямо указывают на несомненный и стойкий интерес к созданному А. В. Никитенко. Однако можно констатировать, что мемуарное наследие Александра Васильевича Никитенко изучено избирательно и отрывочноего «Дневник», как правило, интересует исследователей в качестве фактографического и историографического источника.
Актуальность предпринятого нами исследования заключена в том, что ранее «Записки» и «Дневник» А. В. Никитенко практически не изучались в литературоведческом аспекте. Впервые проводится изучение мемуарно-автобиографической прозы А. В. Никитенко в целом как литературного памятника эпохи создания. В связи с тем, что «Записки» давно не переиздавались и на сегодняшний день являются библиографической редкостью, не будет преувеличением утверждение, что данная диссертация вводит их в оборот историко-литературной науки.
Пограничное положение мемуаров, автобиографий, дневников, записных книжек, писем и других жанровых разновидностей домашней или бытовой письменности дает возможность современным литературоведам вести речь об их эстетической ценности.
Не подвергая сомнению, что фактографическая насыщенность, подлинность и достоверность, объективность позиции автора являются главными достоинствами человеческих документов, мы разделяем мнение ведущих.
32 ученых о художественности мемуарно-автобиографических произведений.
При этом мы отдаем себе отчет в том, что художественность мемуаристики во всех ее разновидностях носит другой характер, отличный от художественной ценности канонической литературы. Правомерность такой постановки вопроса основана на результатах исследований отечественных ученых33 и в двойственной природе материала, — мемуарно-автобиографической прозы А. В. Никитенко. «Записки» и «Дневник» не только источник сведений, фактов, информации о семи десятилетиях жизни русского общества XIX века, но и произведения словесного творчества, ибо нельзя не согласиться с замечанием: «Человек, незнакомый с литературой, не станет, не сумеет вести дневник. Уровень дневника — изобразительный, интеллектуальный, — находится в зависимости от степени знакомства. От нее же (пусть и менее непосредственно) зависит и степень его достоверности».34.
Исходя из вышеизложенного, цель данного исследования состоит в том, чтобы доказать, что мемуарно — автобиографическая проза А. В. Никитенко, включающая «Записки» и «Дневник», является одновременно историографическим документом эпохи и литературным памятником времени создания.
Путь к достижению поставленной цели-в решении следующих конкретных задач:
— описать историю публикаций «Записок» и «Дневника»;
— дать истолкование названия мемуарно-автобиографической прозы А. В. Никитенко;
— определить место «Записок» А. В. Никитенко в ряду других мемуарно-автобиографических произведений II половины XIX века;
— установить принципы структурной организации «Записок» и «Дневника»;
— рассмотреть «Записки» и «Дневник» А. В. Никитенко в проблемно-тематическом аспекте;
— выявить особенности литературного портрета мемуаристики А. В. Никитенко и различные приемы проявления «образа автора» в «Записках» и «Дневнике»;
— обосновать выдвигаемый тезис о жанровом симбиозе «Записок» и «Дневника», образующем дилогию.
Объект диссертационного исследования — мемуарно-автобиографическая проза А. В. Никитенко, а предметом изучения в работе стала проблема л с эстетической организации «Записок» и «Дневника», их поэтика.
Методологической основой исследования является принцип историзма, позволяющий опираться на положения, выработанные отечественным литературоведением. Так^-ш методологически значимыми, на наш взгляд, являются идеи Ю. М. Лотмана и М. М. Бахтина, допускающие возможность обнаружения в произведении словесного творчества в «изменяющихся контекстах» новые смыслы. Так, Ю. М. Лотман утверждает, что произведение, «вдвигаясь» во все усложняющиеся внетекстовые структуры, получает новую смысловую нагрузку".36 В том же направлении развивается и мысль М. М. Бахтина, и он образно и выразительно пишет о том, что «произведение как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создает новое звучание произведения) «.
Для решения конкретных исследовательских задач в диссертации используются различные подходы: биографический, генетический, сравнительно-исторический.
Структура диссертации. Работа содержит «Введение», три главы, «Заключение», «Примечания», «Библиографию», «Приложения».
Заключение
.
У Ю. М. Лотмана в статье «Художественный ансамбль как бытовое пространство» читаем: «Всякий литературовед знает, сколь меняется впечатление от литературного произведения в зависимости от того, читаем ли мы его в собрании сочинений или в журнале.». Мы же предлагаем прочитать «Записки» и «Дневник» А. В. Никитенко в том единстве и той последовательности, в которой они опубликованы в журнале «Русская старина» (1888−1892) и в изданиях 1893 и 1905 годов. Далее Ю. М. Лотман пишет: «.возможноенекоторая внешняя точка зрения. исследователя, чья собственная культура относится к другому времени. С этой позиции разница между составляющими ансамбль элементами отступит на второй план, и они легко будут вписываться как нечто единое и непротиворечивое». -Лотман Ю. М. Художественный ансамбль как бытовое пространство //Радуга.-1991.-№ 8.-С.50. Нам кажется, что авторитетные размышления Ю. М. Лотмана подтверждают возможность нашего взгляда на «Мою повесть.» как на дилогию.
Рассказ Делянова И. Д. Архив «Русской старины». -ИРЛИ (Пушкинский дом).-ф.265.-оп.2,.
1288. л.
А.И.Богданович пишет, что в «Дневнике» «изумленному обществу явился новый человек». Превращение из чиновника, цензора и профессора в автора «удивительной книги» ему видится так: «Сбросив вицмундир и отложив в сторону всякое мирское попечение, Никитенко перерождается и так основательно, как только может русский обыватель, который при исполнении обязанностей — одно, а затем, „вымыв руки“, становится прямою противоположностью именно этим обязанностям». — Богданович А. И. Указ. соч.-С.94. А. И. Богданович представляет широко распространенную версию «двойственности».
А.В.Никитенко. Мы процитировали эти строчки, чтобы актуализировать факт другого «перерождения» Никитенко: из цензора — в автора. 4Белинский В.Г. ПСС. в 13 тт.-М., 1956.-Т.10.-С.316.
5Янская И., Кардин В. Человеческий документ и документальная литература //Вопросы литературы.-1979.-№ 8.-С.6. 6Шайтанов И. О. Указ .соч. — С.69. п.
А.И.Богданович называет «Мою повесть о самом себе.» «глубокомысленной и остроумной характеристикой. времени и современников — и каких современников! — Богданович А. И. Указ. соч. — С.94.
8Аверинцев С. С. Автор. — КЛЭ в 9 тт. — М., 1978 Т.9.-Ст.ЗО. 9Янская И., Кардин В. Указ. соч. — СЛ.