Драмы Оскара Кокошки и проблема синтеза искусств в европейской драматургии 1900-1910-х годов
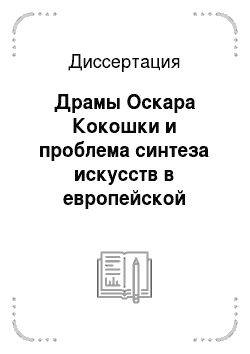
Диссертация
Семенова T.B. Экспрессионизм и современное искусство авангарда. М.: Знание, 1983. С. 4. 11 Там же. цитации, пародирования, аллюзии, заимствования сюжетных коллизий. Кокошка нередко прибегает к известным в литературе сюжетным ситуациям, в его пьесах присутствуют и прямые отсылки к его предшественникам в литературе: к Франку Ведекинду (1864−1918), Августу Стриндбергу (1849−1912), Шарлю Бодлеру… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Рубеж веков как источник мотивов, образов и конфликтов в драматургии Оскара Кокошки
- Глава 2. Язык и композиция драматических произведений Оскара Кокошки 1900−1910-х годов
- 2. 1. Язык драматургии Оскара Кокошки
- 2. 2. Композиция пьес Оскара Кокошки
- Глава 3. Синтез искусств и поэтика драмы Оскара Кокошки
- 3. 1. Преобразование сценического пространства
- 3. 2. Иллюстрации к пьесам
- 3. 3. Роль света и символика цвета
- 3. 4. Жест, мимика, пантомима
- 3. 5. Роль танца
Список литературы
- Kokoschka O. Briefe 1905 1919 // Kokoschka O. Briefe. Hg. v. Olda Kokoschka und Heinz Spielmann. 2 Bde., Bd. 1. Dusseldorf: claassen, 1984.-398 S.
- Kokoschka O. Mein Leben. Vorwort und dokumentarische Mitarbeitvon R. Netzer. Miinchen: Bruckmann, 1971. 339 S.5* Kokoschka O. Dramen und Bilder. Vorwort von Paul Steffen. Leipzig: Kurt Wolf Verlag, 1913. 86 S.
- Kokoschka O. Orpheus und Eurydike. Bildmappe zur osterreichischen Erstauffiihrung, Wien, 1960.7' «Alles OK». Der Maler und Schriftsteller Oskar Kokoschka. Zeichnungen, Druckgraphik, Bucher 1906−1976. Bad Urlach, 1994.
- Арто А. Театр и его двойник. Составление и вступ. статья В. Максимова. СПб., М.: Симпозиум, 2000. 440 с.
- Бодлер Ш. Цветы Зла. СПб.: Азбука классика, 2002. 448 с.
- Вагнер Р. Опера и драма // Вагнер Р. Избранное. М.: Искусство, 1978.-С. 262−494.
- Вейнингер О. Пол и характер. Принципиальное исследование. М.: Терра, 1999.-461 с.
- Ведекинд Ф. Собрание сочинений в двух томах. Т. 1. Пьесы. М., СПб.: Панъ, 1907.-270 с.
- Гофмансталь Г. ф. Избранное: Драмы. Проза. Стихотворения. Сост. Ю. Архипова. М.: Искусство, 1995. 846 с.
- Дидро Д. О пантомиме //Дидро Д. Избранные произведения. М., Л.: Гослитиздат, 1951. С. 219−224.
- Жарри А. Король Убю и другие произведения. М.: ВСГ-пресс, 2002. 602 с.
- Захер-Мазох Л.ф. Венера в мехах. М. .: Республика, 1993. 367 с.
- Ибсен Г. Собрание сочинений в четырех томах. Ред. и вступ. статья В. Г. Адмони. Т. 3. М.: Искусство, 1957. 427 с.
- Кайзер Г. Драмы. М., Петроград: Государственное издательство. 1923.-298 с.
- Кафка Ф. Сторож склепа // Кафка Ф. Малая проза. Драмы. Пер. с нем. Г. Б. Ноткина. СПб.: Амфора, 2001. С. 356 — 372.
- Клейст Г. Драмы. Предисловие А. Карельского. М.: «Искусство», 1962.-639 с.
- Клодель П. Полуденный раздел. М.: ГИТИС, 1998. 182 с.
- Кокто Ж. Орфей // Сочинения в трех томах с рисунками автора. Т.1. Поэзия. Проза. Сценарии. М.: Аграф, 2001. 444 с.
- Лессинг Г. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М.: Гослитиздат, 1957. 519 с.
- Метерлинк М. Собрание сочинений. М.: Панорама, 1996. 397 с.
- Метерлинк М. Сокровища смиренных. Томск: Водолей, 1994. -256 с.
- Ницше Ф. Собрание сочинений в двух томах. М.: Мысль, 1996. Стриндберг А. Игра снов: Избранное. М.: Старт, 1994. 541 с.
- Уайльд О. Избранные произведения в двух томах. T.l. М.: Республика, 1995. 557 с.
- Фрейд 3. Художник и фантазирование. Сост. и ред. Р. Ф. Додельцева. М.: Республика, 1995. 400 с.
- Шопенгауэр А. Избранные произведения. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 542 с.
- Юнг К. Г. Один современный миф. М.: Наука, 1994. 94 с.
- Юнг К. Г. Психология бессознательного. М.: ACT, 1996. 387 с.
- Юнг К. Г. Аналитическая психология. Пер. и ред. В. В. Зеленского. СПб.: Палантир, 1994. 112 с.
- В ас ho fen J. J. Das Mutterrecht. Eine Untersuchung uber die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiosen und rechtlichen Natur. Frankfiirt/M.: Suhrkamp, 1980. 461 S.
- Hofmannsthal H. v. Szenische Vorschriften zu «Elektra» // Hofmannsthal H. v. Elektra. Stuttgart: Reclam, 2001. S. 2−9.
- Hofmannsthal H. v. Reden und Aufsatze I. 1891−1913 // Hofmannsthal H. v. Gesammelte Werke. Frankfiirt/M.: Fischer, 1979. 688 S.
- Heym G. Gedichte. Leipzig: Reclam, 1968. 123 S.
- Mahler-Werfel A. Mein Leben. Mtinchen: Fischer, 1960. 375 S.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Сост. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. 615 с.
- Базилевский А. Деформация в эстетике сюрреализма и экспрессионизма // Сюрреализм и авангард. М.: ГИТИС, 1999. С. 33−46.
- Балашова Т. Многоликий авангард // Сюрреализм и авангард. М.: ГИТИС, 1999. С. 22−32.
- Батракова С. JL Язык живописи авангарда и миф // Западное искусство. XX век. Проблемы развития западного искусства XX века. СПб.: Наука, 2001. С. 5−21.
- Бачелис Т. И. Пространственное мышление в театре XX века // На грани тысячелетий. Мир и человек в искусстве XX века. М.: Наука, 1994. С. 90−140.
- Березкин В. Ахим Фрайер: от сценографа к театру художника // Искусствознание. 1999, № 2. С. 592−600.
- Бобринская Е. Слово и изображение у Е. Гуро и А. Крученых // Поэзия и живопись. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 309−321.
- Бранский В. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград: Янтарный сказ, 1999. 703 с.
- Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. Петербург: Academia, 1922.-94 с.
- Выготский JI. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 572 с.
- Галеев Б. М. Содружество чувств и синтез искусств. М.: Знание, 1982.-63 с.
- Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. JL, М.: Искусство. 1939. 378 с.
- Голик Н.В. Трагизм человеческого существования (Кьеркегор-Стриндберг) // Август Стриндберг и мировая культура. Материалы Межвуз. научн. конференции. СПб., 1999. С. 121−130.
- Гуревич П.С. Этика Артура Шопенгауэра. М.: Знание, 1991.-62 с.
- Гюбнер Ф. М. Экспрессионизм в Германии // Экспрессионизм. Сб. статей. Под ред. Е. М. Браудо, Н. Э. Радлова. М., Петроград: Государственное издательство, 1923. С. 49−68.
- Дадун Р. Фрейд. М.: Х.Г.С., 1994. 512 с.
- Делез Ж. Ницше. СПб.: Аксиома, 1997. 186 с.
- Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра. От возникновения до 1789 года. М., Д.: Искусство, 1941. -616с.
- Добротворская K.JT. Стиль модерн и пластические поиски конца XIX-начала XX веков // Проблемы театральности. Сб. научн. трудов. СПб.: СПГИТМиК. 1993. С. 54−65.
- Дорошевич А. Традиции экспрессионизма в «театре абсурда» и «театре жестокости» // Современный зарубежный театр. М.: Наука, 1969. С. 121−171.
- Жадова А.А. Поиски художественного синтеза на рубеже столетий // Декоративное искусство СССР, 1976, № 8. С. 45−52.
- Жеребин А. «Мадонна Ж, или „Углубленная неправда“ Отто Вайнингера» // Всемирное слово. 1999, № 12. С. 26−30.
- Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. М.: Наука, 1979. -392 с.
- Зоркая Н. М Зрелищные формы художественной культуры. М.: Знание, 1981. -47 с.
- Ивлева Н.Г. Постмодернистская драма А.П. Чехова (Или еще раз об авторском слове в драме.) // Драма и театр. Сб. Научных трудов. Тверь: Твер. Гос. университет, 1999. С. 3—9.
- Кандинский В. О духовном в искусстве. СПб.: Архимед, 1992. -109 С.
- Кандинский В.В. Синий всадник. М.: Изобразительное искусство, 1996. 143 с.
- Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта. М.: Наука, 1966.-181 с.
- Колесников А.С. Проблема субъекта в творчестве Августа Стриндберга // Август Стриндберг и мировая культура. Материалы Межвуз. научн. конференции. СПб., 1999. С. 100−107.
- Копелев Л. Драматургия немецкого экспрессионизма // Экспрессионизм. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство. М.: Наука, 1966. С. 36−84.
- Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М.: Гослитиздат, 1990. 395 с.
- Лозович Т. Идея синтеза искусств и поиски новой драматургической формы в немецком романтизме // Романтизм и его исторические судьбы. Тверь, 1992. С. 80−91
- Лосева О.В. Музыка и глаз. О роли зрительного фактора в музыке XX века // На грани тысячелетий. Мир и человек в искусстве XX века. М.: Наука, 1994. С. 140−157.
- Мартынова О.С. Август Стриндберг и драма немецкого экспрессионизма. Автореф. дисс. канд. филолг. наук, М., 1995. -21 с.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Языки русской культуры, 1995.-406 с.
- Мостепаненко Е. И. Свет в театре, архитектуре, живописи как носитель эстетической информации. М.: Искусство, 1987. 108 с.
- Мостепаненко Е.И. Свет как эстетический феномен // Философские науки. 1982, № 6, С. 95−98.
- Мукаржовский Я. Основные принципы авангарда // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С. 567−580.
- Мурина Е. Б. Проблема синтеза пространственных искусств. Очерки теории Gesamtkunstwerk. М.: Искусство, 1982. 192 с.
- Обломиевский Д. Д. Французский символизм. М.: Наука, 1973. -303 С.
- Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. 480 с.
- Пестова Н.В. Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести. Екатеринбург: Уральский государственный университет, 1999. 463 с.
- Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации. М.: Советский художник, 1973. 336 с.
- Психология цвета. М.: РЕФЛ бук, 1996. — 396 с.
- Раппопорт Н.А. Проблема театрального гротеска и драматургия Альфреда Жарри. Автореферат дисс. канд. филолог, наук. М., 1993.-22 с.
- Рождественская Н.В. Театральные идеи А. Арто и законы зрительского восприятия // Антонен Арто и современная культура. Материалы межвузовской конференции. СПб.: Санкт-Петербургская гос. академия театр, искусства, 1996. С. 41−44.
- Ришар Л. Экспрессионизм как художественное направление // Энциклопедия экспрессионизма. Под ред. Л. Ришара. М.: Республика, 2003. С. 5−25.
- Ришар Л. Словарь // Энциклопедия экспрессионизма. Под ред. Л. Ришара. М.: Республика, 2003. С. 385−389.
- Рымарь Н. Т., Скобелев В. П. Теория автора и проблема художественной деятельности. Воронеж: ЛОГОС-ТРАСТ, 1994. 266 с.
- Сахновский-Панкеев В. А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. Л.: Искусство, 1969. 231 с.
- Семенова Т. В. Экспрессионизм и современное искусство авангарда. М.: Знание, 1983. 63 с.
- Соколов Е. Г. Идентификация художественного проекта // Антонен Арто и современная культура. Материалы межвузовской конференции. СПб.: Санкт-Петербургская гос. Академия театр, искусства, 1996. С. 43−53.
- Степанов В.Г. Кандинский как научный психолог // Многогранный мир Кандинского. М.: Наука, 1998. С. 112−119.
- Стерноу С.А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи. Пер. с англ. Минск: Белфакс, 1997. 186 с.
- Таиров А. «Антигона» В. Хазенклевера в Москве. М., 1928. 16
- Французский символизм. Драматургия и театр. Пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма. Составление и вступительная статья В. Максимова. СПб.: Гиперион, 2000. 166 с.
- Allende J. Gesamtkunstwerk von Wagners Musikdramen zu Schreyers Buhnenrevolution // Gesamtkunstwerk. Zwischen Synasthesie und Mythos. Hg. v. Hans Gunther. Bielefeld, 1994. S.175−188.
- Altenberg P. Wiener Variete // Das Theater, Jg. 1, 1909/1910. S. 86−87.113, Anz Th. Literatur als Existenz: Literarische Psychopathografie und ihre soziale Bedeutung im Friihexpressionismus. Stuttgart: Metzler, 1977.-223 S.
- Arnold A. Die Literatur des Expressionismus. Sprachliche und thematische Quellen. Stuttgart, Berlin: Kohlhammer, 1966. 200 S.
- Asmuth В. Einfuhrung in die Dramenanalyse. Stuttgart u.a.: Metzler, 1997.-226 S.116, Aubin D. Das Problem der Doppelbegabung. Studien zur wechselseitigen Beeinflussung von Dichtung und bildender Kunst. Diss., Wien, 1950. 186 S. /Maschinschr./
- Bab J. Kritik der Biihne. Versuch zur systematischen Dramaturgie. Berlin: Osterheld, 1908. 186 S.118, Bablet D. Der Anteil des Malers // Die Maler und das Theater im 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Metzler, 1986. S. 13−19.
- Baum M. Hans und Gretel: Zum Herrschaftsverhaltnis der Geschlechter // Frank Wedekind. Text und Kritik. Hg. v. A. L. Arnold. Munchen, 1980. S. 63−69.
- Blasberg С. Jugendstil-Literatur. Schwierigkeiten mit einem Bindestrich // Deutsche Vierteljahresschrift fur Germanistik. Jg. 72, 1998. S. 683−711.
- Blei F. Oskar Kokoschka // Die Rettung. Jg. 2, 1919. S. 15−16.
- Bockmann P. Wandlungen der Dramenform im Expressionismus // Untersuchungen zur Literatur als Geschichte. Festschrift fur Benno von Wiese. Hg. v. V. J. Gunther. Berlin: E. Schmidt, 1973. S. 445−464.
- Bovenschen S. Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Prasensformen des Weiblichen. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1979. 279 S.
- Moderne. Hg. v. G. Neumann, U. Renner u.a. Freiburg: Rombach, 2002. S. 163−194.
- Brauer Chr. Liebe ist Mord. Zu Walter Hasenclevers produktiver Kokoschka-Rezeption // Magazin fur Kultur und Politik. 3. Jg., N.4, 1989. S. 27−51.
- Brauneck M. (Hg.) Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stillperioden, Reformmodelle. 9. Auflage. Hamburg: Rowohlts Enzyklopadie, 2001. 540 S.
- Breicha O. Knabentraume eines «OberwiIdlings». Kokoschkas Wiener Marchenbuch // Westernmanns Monatshefte, Jg. 11, 1971. S. 22−31.
- Breuer D. Deutsche Metrik und Versgeschichte. Miinchen: Fink, 1994. 414 S.
- Brincken J. von. Verbale und non-verbale Gestaltung in vorexpressionistischer Dramatik. August Stramms Dramen im Vergleich mit Oskar Kokoschkas Fruhwerken. Frankfurt/M., Berlin, New York: Peter Lang, 1997. 307 S.
- Brinkmann R. Bildende Kunst: Malerei, Architektur. Doppelbegabungen. Oskar Kokoschka // Expressionismus. Internationale Forschung zu einem internationalen Phanomen. Hg. v. R. Brinkmann. Stuttgart: Metzler, 1980. S. 5−24.
- Burger P. Theorie der Avantgarde. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1974. -138 S.
- Bunge B. Zur Intuition und Ratio. Pole des bildnerischen Denkens bei Kandinsky, Klee und Beuys. Stuttgart: Metzler, 1996. 320 S.
- Damblemont G. Symbolistisches Theater im Gefolge Mallarntes // Drama und Theater der Jahrhundertwende. Hg. v. D. Kafitz. Tubingen: Niemeyer, 1991. S. 101−120.
- Denkler H. «Schauspiel» und «Der brennende Dornbusch» von Oskar Kokoschka // Der Deutschunterricht, Jg. 17, Heft 5, 1965. S. 34−52.
- Denkler H. Die Druckfassungen der Dramen Oskar Kokoschkas. Ein Beitrag zur philologischen ErschlieBung der expressionistischen
- Diebold B. Anarchie im Drama. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1921.
- Eller-Ruter U.-M. Kandinsky. Biihnenkomposition und Dichtung als Realisation seines Synthese-Konzepts. Zurich, New York: Peter Lang, 1990. 222 S.
- Fechter P. Oskar Kokoschka // Das europaische Drama. Geist und Kultur im Spiegel des Theaters. Hg. v. P. Fechter. 2 Bde., Bd. 2: Vom Naturalismus zum Expressionismus. Mannheim: Bibliogr. Inst, 1957. S. 428−434.
- Fischer W.G. Oskar Kokoschka als Seher des Untergangs oder die Biihne des Verwesens // Alte und moderne Kunst. 1982, Nr.182. S. 1−13.167, Fischer-Lichte E. Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tubingen: Franke, 1993. 540 S.
- Gumpert G. Die Rede vom Tanz. Korperasthetik in der Literatur der Jahrhundertwende. Munchen, 1994.
- Guthke K. Das Drama des Expressionismus und die Metaphysik der Enttauschung // Aspekte des Expressionismus. Periodisierung, Stil, Gedankenwelt. Hg. v. W. Paulsen. Heidelberg: Stiehm, 1968. S. 33−61.
- Hart Nibbrig L. C. Spiegelschrift. Spekulationen uber Malerei und Literatur. Frankfurt/M., 1987 320 S.
- Hatvani P. Versuch uber den Expressionismus // Literaturrevolution 1910−1925. Dokumente. Manifeste. Programme. Hg. v. P. Portner. 2 Bde., Bd. 1. Darmstadt, Berlin. I960. S. 214−219.
- Henel H. Szenisches und panoramisches Theater // Episches Theater. Hg. v. R. Grimm. Koln, Berlin: Liepenheuer&Witsch, 1966. S. 383−397.181' Hiermann R. Expressionismus und Psychoanalyse. Diss., Wien, 1950. 165 S. /Maschinchr./
- Hilmes C. Die Femme Fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischer Literatur. Stuttgart: Metzler, 1990. 264 S.
- Hodin J.P. The graphic Work of Oskar Kokoschka // Studio. 1966, №. 875. S. 94−97.
- Hodin J. P Oskar Kokoschka. Sein Leben Seine Zeit. Mainz, Berlin: Kupferberg, 1968. — 365 S.
- Hoffman C. Oskar Kokoschkas Dichtung und das Theater // Kunstblatt. Weimer, Jg. 1, H. 6, 1917. S. 220−221.
- Hoffman E. Kokoschka ein spater Symbolist // Oskar Kokoschka: Symposium. Hg. v. Hochschule fur angewandte Kunst in Wien. Wien, Salzburg, 1986. S. 72−81.
- Hofmann W. Die Grundlagen der modernen Kunst. 3. Auflage, Stuttgart: Kroner, 1987. S. 546.
- Hoist N. v. Oskar Kokoschka. Maler und Dramatiker // Das literarische Deutschland. 1951, 5. Februar. S. 45−46.
- Holz A. Evolution des Dramas // Deutsche Dramaturgic vom Naturalismus bis zur Gegenwart. Hg. v. Benno von Wiese. Tubingen: Niemeyer, 1970. S. 26−41.
- Hopster N. Kunst und Aufhebung der Kunst im expressionistischen Jahrzehnt // Wirkendes Wort. Jg. 20, 1970. S. 331−339.
- Huber O. Mythos und Groteske. Die Problematik des Mythischen und ihre Darstellung in der Dichtung der Expressionismus. Meisenheim am Glan: Hain, 1979. 310 S.
- Jager G. Kokoschkas «Morder Hoffnung der Frauen». Die Geburt des Theaters der Grausamkeit aus dem Geist der Wiener Jahrhundertwende // Germanisch-Romanische Monatsschrift. Bd. 32, Heft 2, 1982. S. 215−233.
- Janssen F. Biihnenbild und bildende Kunstler. Diss., Miinchen, 1957. -S. 190. /Maschinschr./196, Jost Н. Literaturwissenschaft und Kunstwissenschaft. Methodische Wechselbeziehungen seit 1900. Stuttgart: Metzler, 1971. 76 S.
- Kamm O. Oskar Kokoschka und das Theater. Diss., Wien, 1958. -135 S. /Maschinschr./
- Kayser W. Das Groteske in Malerei und Dichtung. Hamburg: Rowohlts Enzyklopadie, 1965. 152 S.
- Kesting M. Die Sprache des Theaters // Kesting M. Entdeckung und Destruktion. Zur Strukturwandlung der Kiinste. Munchen: Fink, 1970. S. 251−276.
- Kesting M. Panorama des zeitgenossischen Theaters. 50 literarische Portrats. Munchen: Piper, 1962. 264 S.
- Kornfeld P. Vorwort zur Urauffuhrung von Oskar Kokoschkas Dramen in Dresden (Juni 1917)// Katalog der Expressionismus-Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum (Marbach). Stuttgart, 1960. S. 126−130.
- Rider J. Der Fall Otto Weininger, Wien, Miinchen: Locker, 1985. 292 S.
- Mahl H.-J. Die Mystik der Werte — zum Sprachproblem in der modernen deutschen Dichtung // Wirkendes Wort. Jg. 13, 1963. S. 289−303.
- Mazurkiewicz-Wonn M. Die Theaterzeichnungen Oskar Kokoschkas. Zurich, New York u. a.: Peter Lang, 1994. 334 S.233, Menschheitsdamerung. Ein Dokument des Expressionismus. Hg. v. K. Pinthus. Hamburg: Rowohlt, 1959. 382 S.
- Michaelis K. Der tolle Kokoschka // Das Kunstblatt. Jg. 2, 1918. S. 361−366.
- Moderne Literatur in Grundbegriffen. Hg. v. Dieter Borchmeyer, Viktor Zmegac. Tubingen: Niemeyer, 1994. 368 S.
- PoIIak M. Wien 1900. Eine verletzte Identitat. Konstanz: Universitatsverlag Konstanz, 1997. 286 S.243' Praz M. La carne, la morte e il diabolo nella letteratura romantica. Firenze: Sansoni. 1966. 279 S.
- Geschichten und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements. Hg. v. H. Gumbrecht, K.L. Pfeifer. Frankfurt/M., 1986. S. 260−281.253, Rothe W. Tanzer und Tater. Gestalten des Expressionismus. Frankfurt/M., 1979. 285 S.254.
- Runge E. Vom Wesen des Expressionismus im Drama und auf der Biihne. Diss., Munchen, 1962. 202 S. /Maschinschr./
- Schmitz G. August Strindberg Der Dramatiker des UnbewuBten // Die literarische Moderne in Europa. Hg. v. H. J. Piechotta, R.-R. Wuthenow. Bd. 2: Formationen der literarischen Avantgarde. Bonn: Westdeutscher Verlag, 1993. S. 251- 270.
- Schneider K. L. Expressionismus in Dichtung und Malerei // Philobion. Hamburg, Marz 1962, H. 1. S. 57−70.
- Schneider K. L. Zerbrochene Formen. Wort und Bild im Expressionismus. Hamburg: Hoffmann & Campe, 1967. 203 S.261 ¦ Schnetz D. Der moderne Einakter. Eine poethologische Untersuchung. Munchen: Francke, 1967. 245 S.
- Z67' Schvey H. I. Doppelbegabte Kunstler als Seher: Oskar Kokoschka, r D.H. Lawrence und William Blake // Literatur und bildende Kunst.
- Hg. v. U. Weisstein. Berlin, 1992. S. 73−85.268, Schvey H. I. Mit dem Auge des Dramatikers: Das visuelle Drama bei Oskar Kokoschka // Oskar Kokoschka: Symposium. Hg. v. Hochschule fur angewandte Kunst in Wien. Wien, Salzburg. 1986. S. 100−113.
- Schwalbe J. Sprache und Gebarde im Werk Hugo von Hofmannsthals. Freiburg/Br.: K. Schwarz, 1971. 172 S.27°- Schweiger W. J. Der junge Kokoschka. Leben und Werk 1904−1914.
- Wien, Munchen: Branstatter, 1983. 272 S.271, Schwerte H. Anfang des expressionistischen Dramas: Oskar Kokoschka // Zeitschrift fur deutsche Philologie. Bd. 83, 1964. S. 171−176.272.273.274.
- Schwippl-Seitz R. Der Wortgebrauch im Expressionismus. Dargestellt an den Dramen von fiinf Hauptvertretern (Goring, Hasenclever, Kokoschka, Sorge, von Unruh), Diss., Munchen, 1982. 433 S. /Maschinschr./
- Secci L. Die lyrischen Dichtungen Oskar Kokoschkas // Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, Jg. 12, 1968. S. 457−492.
- Secci L. II mito greco nel teatro tedesco espressionista. Roma: Mario Bulzoni Editore, 1969. 223 S.
- Secci L. Agyptische Nacht und strahlende Sonne: Licht und Finsternis in Kokoschkas Erzahlungen // Oskar Kokoschka:
- Symposium. Hg. v. Hochschule fur angewandte Kunst in Wien. Wien, Salzburg. 1986. S. 169−181.
- WeiBenbock J. Expressionistischer Tanz in Wien // Expressionismus in Osterreich: die Literatur und die Kunste. Hg. v. K. Amann. Wien, Koln: Bohlau, 1994. S. 171−185.
- Zaunschirm Th. Der «Oberwildling» Oskar Kokoschka und der Osterreichische Expressionismus // Das GroBere Osterreich. Geistiges und soziales Leben von 1880 bis zur Gegenwart. Hg. v. K. Sotriffer. Wien, 1982. S. 193−202.
- Zmegac V. Uber Beziehungen zwischen Dramen- und Filmtheorie in der Friihzeit des Kinos // Tradition und Innovation. Studien zur deutschsprachigen Literatur seit der Jahrhundertwende. Hg. v. V. Zmegac. Wien, Koln: Bohlau, 1993. S. 224−238.