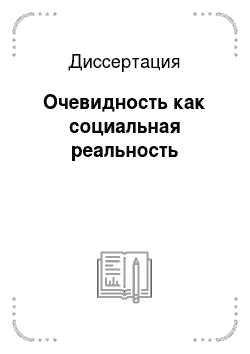1. В наши дни не ощущается недостатка в разного рода новоявленных социальных теориях, взаимная противоречивость которых не мешает им все же уживаться и даже в чем-то компенсировать, взаимодополнят ь друг друга. Условием разговора о социальной реальности оказывается такая фактичность видимости, иначе говоря, такой характер бытования очевидности, которую отличает опасность окончательной утраты ценностных и нравственных ориентиров, их растворения в хай-деггеровском das Man. Можно констатировать, что к установкам товарно-рыночного фетишизма (в свое время зафиксированным Марксом и представителями франкфуртской школы), а также к отмечаемым Хай-деггером формам фетишизации действительности в связи с возрастающей ролью техники, на сегодняшний день прибавился еще и информационный (или коммуникативный) фетишизм. Не удивительно, что актуальность едва ли не любого социального дискурса может определяться сегодня степенью обращения к проблемам коммуникации, констатацией необходимости «терапии языка», выступающего «последним основанием этики» (Юрген Хабермас)1, при этом остаются в стороне традиционные для социальной философии темы войны, государства, межнациональных конфликтов, й необходимость такой редукции закономерно представляется как бы продиктованной самой сутью дела. В ситуации всевластья информации, «полноты всезнания», в иллюзорной искушенности относительно прошлого и будущего, когда судьбы целых народов в истории словно бы уже предопределены на десятки лет вперед, кажется, что нет и не может быть других проблем, кроме поиска компромисса, утверждения плюрализма, демократизации и открытости общества. В свете растущей интеграции во всех областях культуры и науки и, как следствие, демократизации всех аспектов социальной жизни, в конечном счете — тотальной десакрализации действительности, может даже показаться уместным разговор о «конце истории"2, претворенном в «неоспоримой победе экономического и политического либерализма».
Как бы там ни было, вряд ли кто смог бы отрицать сегодняшнюю реальность ускоренного движения ко всеобщей нормализации" выравниванию н единообразию человеческого бытия, что требует своего принципиального осмысления. В поиске фундаментального диагноза современности нельзя не обратиться к суждению Мартина Хайдегтера, который отмечает совершающееся на сегодняшний день фактическое «отдаление мира в необозримой экспансии расширяющейся повседневности окружающего мира"3.
Таков общий культурно-исторический контекст, во многом предопределяющий пути настоящего исследования. Так, учитывая все вышесказанное, уже недостаточно будет повести разговор в духе традиционной критики идеологий, вскрывая социальную подоплеку того положения дел, при котором люди выступают главным образом как потребители мифов. Недостаточно констатации социальной ангажированности сознания с целью выявить бессознательную «заинтересованность» буржуа в его, на первый взгляд, уже вполне безобидных обыденных установках. Но возможнан обратная рефлексия самой социальной очевидности как «превращенной формы» сознания, где тот же буржуа — это «идеальный тип» социальной жизни, собирательный образ человеческого, составленный из суммы наиболее тривиальных, нелепых и поверхност.
1 Habermas J. Morale et communication. P., «Cerf 1986 p. 110 ~ Имеется в виду вызвавшая много толков статья Ф. Фукуямы «Конец истории?» //.
ВФ. № 3 1990.
3 См. Мартин Хайдеггер. Бытие и время М. Ad marginem 1997 с. 105- также М. Хайдеггер. Вещь. // Время и бытие. М. 1993 С.316- сб. Философия Мартина Хайдегтера и современность М. 1991 с. 196 ных суждений обыденного здравомыслия." «В этом смысле буржуазность перестает быть принадлежностью определенного социального класса.
Вслед за Г и Дебором5 можно, например, отметить, что в эпоху «тотальной доминации Капитала» уже не существует классов — все, от рабочего до банкира вместе с учителями, врачами, художниками, — являют собой лишь ту или иную разновидность менеджера, безликого деятеля, поставленного на службу системы. При таком безотрадном положении дел создается видимость реально осуществившегося господства над историей. Интерес может представлять сам объективный характер такой видимости, для объяснения которой уже недостаточно апелляций к некой стратегии навязываемой извне злой воли (скажем, в духе традиции франкфуртской школы).
Или, в несколько ином смысле, так же можно привести в пример Леонтьев скую трактовку буржуазности, типа «среднего европейца», в которой основной акцент делается не на классовой принадлежности индивида и не на воздействии социально-политической среды, которое имело бы для него определяющее значение, но на стереотипе поведения в той или иной этнической общности. Классово-сословные различия могут оказаться менее существенными, чем этнические (когда К Леонтьев говорит, к примеру, о том, чем могло бы обернуться воплощение в жизнь идеалов радикальных французских реформистов XIX в. (типа Прудона), как это отразилось бы на «национальной физиономии французов»? Обновилась бы она или стерлась еще более? «Вместо нескольких сотен тысяч богатых буржуа, мы получили бы милионов сорок мелких буржуа. По роду занятий, по имени, по положению общественному.
4 Кот скоро уже упомянутая «теория коммуникативного действия» замыкает социальную проблематику на исследование речевой деятельности, вполне уместно будет примерить к рассуждениям самих ее представителей этот флоберовский критерий буржуазности.
Guy Debor La Societe du spectacle. P. 'Shamp libre51971 они были бы не буржуапо уму, по нравам, по всему тому, что, помимо политического положения, составляет сумму качеств живого лица и зовется его духовной физиономией или характером, — они были бы буржуа")6.
Итак, особую уместность приобретает соотнесение феноменов социальности я очевидности, в которых, в каждом, но отдельности, традиционно находит свой предмет социальная философия, но в данном случае речь идет об их взаимной обусловленности:
В высказываемой очевидности находит выражение не само яо себе реальное положение вещей, но скорее то обстоятельство, что это очевидно для некоего индивидуального субъекта, являющегося также конкретным агентом социальной активности. Само же по себе сущее не может зависеть от того, что привычным образом считают само собой разумеющимся. Между тем, действительное положение вещей все же таково, что имеет место именно такая, а не какая-то иная очевидность. И эта очевидность есть наличествующий для индивида специфический способ обнаружения и фиксирования собственного существования в аспекте общности, разделенности, сопричастности, как совместного бытия с другими. Отсюда, эта очевидность как таковая, в свою очередь, является конститутивным фактором для тех, кто о ней свидетельствует. В данном случае структура «сознания о.», но утверждению феноменологов, составляющая отличительное квазн-субстанциональное определение сознания (его интенциональность), проявляется и в том, что это очевидным образом сознание мужчины или женщины, преподавателя или ученика, раба или господина и т. п. То есть очевидность в этом смысле не просто обнаруживает под собой социальный контекст, но и сама его опосредует.
6 См. Леонтьев К. Восток. Россия. Славянство. Сборник статей, т. 1-Е. М., — 18 851 886 Т. П (с. 9).
Стоит добавить, что для самой феноменологической науки предметом до конца не разрешимых споров является указанный факт опосре-дованности самого сознания. Поскольку он, по меньшей мере, отсрочивает проект радикального самообосновання универсальной науки, замыкая исследователя в бесконечном регрессе рассмотрения пассивных синтезов и конкретных форм взаимодействия субъектов в рамках жизненного мира, бессознательного усвоения ими правил и норм, которым они следуют в своей социальной жизни.
И наконец, последнее, на что хотелось бы обратить внимание в связи с указанием актуальности темы. В сегодняшней ситуации социальной нестабильности, когда размываются сколько-нибудь четкие рамки общества и подвергаются сомнению любые формы социального устройства, как это ни парадоксально, создаются новые предпосылки для непредвзятого разговора о социальной реальности.
2. Очевидность — феноменологически приоритетная определенность сущего. Она равным образом универсально характеризует и форму данности феноменов сознания, и форму заданности феноменов жизненного мира. Предполагая тот или иной вариант взаимной идентификации взаимодействующих субъектов, очевидность является одновременно и мерой их индивидуального самоопределения, а также экзистенциального выбора.
Инобытием очевидности как данного в непосредственном восприятии является область таинственного. Дело не просто в том, что очевидность в качестве выбранной темы исследования дистанцирует от всего имеющего сакральный или оккультный характер. Условие возможности соблюдения закона тождества в разговоре, который начинается с рассмотрения очевидности самой по себе, заключается в требовании «снятия» тайны. Важно, чтобы исследователем руководило поистине сознание отлученности от всякого рода опыта, в котором могут быть движимы интересом к чему-то экстраординарному, поисками невероятных открытий7 Подобное требование находит выражение и в том, что очевидное, фиксирующее в своих горизонтах сферу профани-ческого, секуляризованного — будет иметь своей модальностью невероятное, опыт парадокса — в недвусмысленном противопоставлении тому, что никогда не может быть предметом сомнения или методического анализа, ибо является объектом поклонения, а веры.
В другом случае, выступая в отмеченном модусе заданности — речь идет о возможных формах предпонимания, предистолкования, принятия на веру, — очевидность имеет своей противоположностью проблематическое. Ничто из того, что поверхностным образом усматривается людьми в их повседневном опыте как «само собой разумеющееся», как естественный предустановленный порядок вещей, не дает им повода для нахождения глубинных исторических антагонизмов и законов, управляющих жизнью общества, в том числе и в привычных ее проявлениях. В повседневном течении жизни утрачивают свою острогу противоречия, видимым образом примиряются взаимоисключающие вещиза счет того, что для всего оказывается возможным найти место, в мнимом соседстве существуют противоположности: так что уже нет в собственном смысле господского и рабского, революционного и реакционного, цивилизованного и варварского, культурного и природного, человеческого и машинного, а т. п. — И то и другое «погружено в основание» (Гегель)8, рассеяно на поверхности «аморфного социуса» (Ж.
7 В частности, артикуляцией знаменитого эйнштейновского парадокса: «самое непостижимое в мире — это его постижимоеть» — окажется ли преодоленной характерная черта инертности, бытующая в социальной философии, когда наилучшим поприщем для нее оказывается область самых отдаленных, экзотических культур при подчеркивании необходимости фиксировать внимание наэтологнческих и экологических аспектах бытия человека (таков, например, французский структурализм)?
8 См. Гегель Наука логики. Т.2 М. 1971 с. 58.
Делез — Ф. Гваттари)9. Обыватель, таким образом, погружен в беспочвенность публичного бытия друг-с другом, где всякое его волеизъявление, мнение, ему уже продиктовано, по выражению Хайдеггера, всякий личный его интерес обусловлен двусмысленностью толков.
Повседневность в качестве модели социальной реальности изучается и реконструируется в феноменологии именно с позиции того, как она представляется «обыденному сознанию людей, живущих среди других людей и связанных с ними многообразными отношениями о взаимодействия» (А. Щюц)10. Исследование на определенном этапе полагает свой интерес в достаточно узких границах той научной области, что сама рассматривает социальную реальность в пределах очевидности. А последнее означает, что обсуждение проблематики феноменологической социологии и символического интеракционизма, лишь до известной степени составляет предмет настоящего исследованияв его одностороннем определении (для-себя-бытии).
Феноменологическая социология дает предельно широкое определение социальной реальности как «запаса общих знаний» 11 — некоего суммированного опыта. Специфика социальной реальности в том, что она осуществляется лишь посредством актов интерпретации и в силу того, как члены общества решают задачу описания и объяснения порядка в мире, в котором они живут. Само существование общества понимается в смысле перманентной активности, связанной с поддержанием «впечатления социального порядка» (Г. Гарфинкель)12, и в любую социальную теорию, решающую проблему взаимодействия, вносится представление о нестабильности значений.
9 Deleuse G., Guattari F. L’Anti-Oedipe. Capitalisrae et Schizophrenie. I. 1. p.б.
10 См. Schutz A., Collected Papers, V. I., The Haque. 1962, p.8.
11 См. Феноменологическая социология и этнометодология. //Западная теоретическая социология. М.1996 с. 213.
12 там же с. 21 б.
В целом, учитывая сказанное, если и можно говорить о какой-то сущности социальной реальности, то она, по-видимому, заключается в самом «сопротивлении'» тому, чтобы в последней могли видеть, скажем, лишь атрибут системы общественных отношений, известных институтов, задающих нормы и правила поведения людей я служащих основанием всевозможным социальным теориям, или то, что исчерпывалось бы в своем объяснении аналогией человеческого общения. За многообразием «превращенных форм» социального бытия, получающих свое истолкование в определениях «естественной установки», das Man., повседневности, «коммуникативного действия» предполагается бытие сложного «системного объекта» — социальной реальности, который не сводится, в конечном счете, ни к одному из этих определений.
3. Мировоззренческий разрыв между современной и классической теориями познания, привел в числе прочего и к вопросу о статусе социальных наук. Тематизация социальности в таком виде, как она возможна сегодня, была бы просто немыслима в классической натуралистической онто-гносеологической системе мира.
Хотя иной раз может показаться, что такое образование, как социальная философия, по крайней мере, в плане собственной генеалогии, выступает в роли эдакого «незаконнорожденного дитя», заступившего на «царское место» прежней трансцендентальной аналитики рассудка. Все выглядит так, что в классическом истолковании действительности в смысле познавательной активности трансцендентального субъекта всем ходом новоевропейской философии словно подготавливалась почва для возникновения уже иного понятия — об ее интерсубъективном характере, о многообразии форм и исторической относительности знания, которое прежде считали абсолютным. Оставалось только, чтобы в нужное время в образовавшуюся нишу оказались втянуты целый ряд словно теперь только впервые открытых — культурно-исторических, жизненно-практических, социальных, лингвистических, космологических и проч., — аспектов бытия человека. Если цитировать Мишеля Фукоь, речь, в частности, может идти об определяющем смену мировоззренческой парадигмы переходе от анализа богатств, всеобщей грамматики, естественной истории, соответственно — к экономике, филологии, биологии, на стыке которых возникает проблема человека, концентрируя на себе, отныне, все мировоззренческое поле, современности.
В данном конкретном случае стоит подчеркнуть, что сказанное находит свое воплощение и в двойственности феноменологической философии, к которой принадлежит настоящее исследование, поскольку она по преимуществу движима идеей разрыва с классической трансцендентальной философией и вместе с тем сознанием своей непосредственной зависимости от нее, необходимости возвращаться и апеллировать к ней.
Сопутствующая теме интерсубъективности проблема «социализации знания» (термин А. Щюца)14 целиком и полностью имплицирована как упомянутым отказом от классического субстанциалистского понятия субъекта, в котором прежде устанавливалась необходимость всеобщих форм познающего сознания и их субстанциональной основы, так и рецидивами возврата к ней. Последнее связанно с затруднениями подняться от анализа конкретных, жизненно-практических структур субъективности до всеобщего сознания, которое не обернулось бы заново голым формализмом «аналитики чистого рассудка» (Кант).
13 М. Фуко. Слова и вещн. Археология гуманитарных наук. М., 1997.
54 См. Schutz A., The problem of social reality //Collected Papers, V. I, The Haque. 1962, p. 14.
В связи с этим можно указать попытка гипостазирования в «естественной установке» универсальных очевидностей социальной жизни, которые позволяли бы составить понятие о ключевых структурах взаимодействия индивидов в рамках жизненного мира. Стоит также отметить, что, если у самого Э. Гуссерля определение естественной установки сопровождалось лишь незначительными замечаниями, предваряющими исследование трансцендентальной сферы «чистого сознания», то, например, Ж.-П. Сартр или М. Мерло-Понти — во многом в русле хайдеггеровской аналитики dasein — уже всецело обращаются к исследованию как раз «наивного» и ситуационно ограниченного «я». А. Щюц — демонстрирует как изучение естественной установки прямо ведет к проблематике социальных наук, и в своем исследовании повседневности предлагает вариант феноменологической социологии.
В задачи феноменологического исследования не может входить никакое категорическое утверждение о мире. В контексте данного исследования целью является сама демонстрация взаимной обусловленности феноменов очевидности и социальности. Людям не просто свойственно видеть свою реальность тем или иным образом и в силу того, что для них заранее оказывается преднамеченным горизонт вероятной приемлемости точек зрения, обусловленный культурно-историческом контекстом их существования, но речь может идти и о том, что сами их иллюзии, стихийно унаследованные мнения, поверхностные взгляды, -весь совокупный ряд жизненных смыслов, не вытекающих естественным образом из предметного содержания их бытия — является для них своего рода гарантией в том, чтобы им самим действительно быть реальными. Справедливы указания представителей феноменологической социологии, что условием возможности знания о социальной реальности является само непосредственное участие во взаимодействии субъектов повседневного опыта. Социальная реальность должна рассматриваться исключительно в отношении «актов интерпретаций и утверждения, которые используют ее участники"(Альфред Щюц)55.
Феноменозюгическая социология сознательно делает ставку на принципиальном сходстве выработки и функционирования обыденного и социологического знания, позволяющее называть социологию «народной наукой» (по выражению Полмера)16. В работе получает освящение вопрос о трудностях и необходимых ограничениях, которые должны быть вызваны тем, что, коль скоро речь зашла о социологах, = последние сами не выходят за рамки естественной установки, опираясь на здравый смысл, сообразуются с ннм в исследованиях того, как здравый смысл определяет суждения и представления членов общества. Нельзя ли допустить, что единственно лишь понятие о мере превратности, безрассудства, что отличают сознание и жизнь обывателя, способно еще удержать исследователя от того, чтобы самому подпасть под действие обыденного мышления, окончательно «заразиться» им? И если общее феноменологическое допущение заключается в том, что социальные отношения и институты лишены внутренней природы или внутренне объективно присущего им значения, — то все же в указанных чертах превратности, перевернутости, «изнаночности» можно было бы видеть регулятивную идею в определении характера социального бытии .
В этом смысле любая из приводимых в работе возможных формулировок в контексте разговора о социальной реальности как раз по-своему отвечает стремлению к раскрытию социального закона в.
15 См. Новые направления в социологической теории, М. 1977 с. 40.
16 См. Новые направления в социологической теории., М. 1977 с. 177.
17 В частности, для сравнения можно напомнить об утверждении одного из представителей социальной феноменологии, что ее отличает необычное свойство интересно говорить о скучном, и мало уделять внимания тому, к чему принято питать интерес./ Ср. Западная теоретическая социология. М.1996 с. 212/ качестве особого динамического установления соответствий, а отнюдь не является отрицанием закона как такового. В квази-определениях реальности, с которыми можно столкнуться у Делеза и Гваттари (наподобие «мир, где все возможно» — термин, характеризующий «машины желания» как предельно широкое определение социальной сферы) или «мир наизнанку» у Гегеля, ~ не просто указывается возможность иллюзорного восприятия действительности, но подчеркивается, что интерес представляет как раз та реальность, в которой иллюзии или возможные фантазии только и находят свой исток. В качестве примера приводится знаменитый мыслитель и теоретик искусства Антонен Арто18, который стремился почерпнуть идею совершенного театра в самой социальной действительностиобращаясь к образам чумы, бедствий, фактам немыслимой жестокости. В реальном мире существующего общества как сущем мире наизнанку он искал проявлений, доводящих до болезненных, эпатирующих жестов и без того уже скрытый внутри вещей распад, а никак не наоборот, как того ожидал бы здравый смысл.
4. Вопрошание очевидности является собственно делом философии. Поскольку отдельное исследование специально было посвящено изучению этой темы, оно осуществлялось во всестороннем анализе феноменологической проблематики. «Феноменология» как «способ проработки фундаментального вопроса философии вообще» (Мартин Хай-деггер)19 есть, прежде всего, «методическое понятие». В данном случае это значит, что выяснение, что есть социальная очевидность, за.
18 Не будет преувеличением сказать, что идеи Арто инспирировали знаменитые «Капитапнзм и шизофрения» и «Тысяча плато», — произведения Делеза — Гваттари, цитируемые в настоящем исследовании.
19 Хайдегтер. Бытие и время с. 2? ключается в самом целостном рассмотрении того, как возможен разговор о социальной реальности.
Помимо феноменологического метода, позволяющего избежать объективирования социальных явлений, в диссертации применяются герменевтический и аксиологический метод для наибольшей полноты в интерпретации используемых понятий и цитируемых текстов. Диалектическое рассмотрение включает также признание того, что противоречия я противоположности дают импульс и служат катализатором открытия и выражения истины.
В качестве теоретических источников исследования использовались работы отечественных и зарубежных авторов, подобранные таким образом, чтобы они в наибольшей мере способствовали прояснению и решению поставленных вопросов. Это труды классических и современных философов, в той или иной мере посвященные анализу проблемы социализации знания в обращении к инстанциям здравого смысла и естественного сознаниякогда в связи с этим неизбежно ставится вопрос о различении чистого и непосредственного опыта, проблема редукции. В первую очередь это работы по феноменологии, начиная с гуссерлевских трудов, где впервые дается определение понятиям интерсубъективности, жизненного мираа также поздние феноменологические направления, парадоксальным образом сосредоточившие свое внимание уже на том, что изначально подлежало «вынесению за скобки» в трансцендентальной феноменологии. Имеются в виду представители экзистенциального варианта феноменологии (М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сартр).
Также определенный интерес связан с методологическими достижениями А. Щюца, предпринявшего попытку обоснования и своего рода имманентной критики понятий социальных наук в своей «конститутивной феноменологии естественной установки». Однако еще раньше внимание уделяется аналитике dasein. Хайдеггера, у которого речь идет об изначальной публичности dasein, в связи с чем оно «ближайшим образом и большей частью является темой исследования в своей повседневности». В значительной мере, и даже в первую очередь, учитываются труды классиков трансцендентальной философии.
Другой качественной ориентацией для данного исследования являются достижения гегелевской диалектики всеобщего, единичного и особенного. Учитывая, впрочем, деструкцию ее понятий в экзистенциалистской философий я негативной диалектике Франкфуртской ш колы.
Вполне естественно, что автор опирался на теоретический материал близких к исследуемым проблемам направлений социальных наук: эт-нометодологив (к феноменологическому движению в социологии можно отнести таких авторов как А. Щюц, Г. Гарфинкель, Т. Яукман, П. Бергер, Г. Мак-Хью, А. С и кур ел, Э. Циммерман, Д. Силверман, М. Филмер и др.), символического интеракционизма (Дж. Мид, Т. Пар-сонс, Г. Блюм ер, Э. Гоффман и др.), критической теории франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе) и развитие ее идей в теории коммуникативного действия. (Ю. Хабермас).
В плане непосредственного представления социальной очевидности хороший иллюстративный материал предлагает произведение «Масса и власть» Э. Канетти. Кроме того, такие произведения, как трактат «Капитализм и шизофрения» Делеза и Гваттари, статья «Психологическая структура фашизма» Ж. Батая, фундаментальный труд Г и Дебора «Общество зрелищ», цикл критических статей Ролана Барта, объединенных общим названием «Мифологии» — хотя и не принадлежат непосредственным образом к традиционно очерченным направлениям социальной философии, наиболее аутентичным для данной работы, но имеют большой эвристический смысл для диссертации.
Что касается обращения к отечественной литературе по данному вопросу, то выбор был обусловлен заметно возросшим у нас за последние годы интересом к проблемному полю феноменологии. Это отражается не только в критических работах, посвященных исследованию только с недавних пор переводимого на русский язык классического наследия философии XX в., также как и непосредственно сегодняшней, но и в самостоятельных, самобытных поисках, самовыражении отдельных мыслителей. Достаточно назвать такие имена как М. Мам ар даш вилли, В. Подорога, М. Рыклин, М. Ямпольский и др. Целая культура феноменологической мысли за последнее десятилетие была создана усилиями энтузиастов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева и др., участием в совместных конференциях, переводах и публикациях, деятельностью Феноменологического Общества. Начатый список можно продолжить именами В. Бибихина, Э. Соловьева, В. Молчанова, В. Малахова, А. Огурцов а, Л. йонина, М Кузнецова, Б. Маркова, Н. Иванова О. Ноговицына, А. Чернякова и др.
5. Целью исследования является раскрытие социальной определенности очевидности как предмета трансцендентального и коммуникативного опыта и как феномена жизненного мира. В задачи исследования входит: выявление пределов феноменологической редукции общественного бытия и на этом основании дезавуирование очевидности в качестве «згологической» реальности (Гуссерль) — раскрытие условий, при которых очевидность не просто должна обнаруживать собственный социальный контекст, но сама является для него конститутивным фактором. б. В работе сформулировано понятие очевидности как всеобщей формы данности феномена сознания, преодолевающее мистицизм трансцендентальной трактовки интерсубъективности, и, с другой стороны — как универсальной формы заданности феномена жизненного мира, где раскрывается проблематизм экзистенциального или коммуникативного опыта.
Проблематика, традиционно относимая к гносеологии, в работе берется скорее социально-онтологически, в соотнесении с позициями экзистенциального выбора, и самоопределения. В достижений понятия очевидности как социальной реальности речь идет о необходимости сформулировать противоречие между субъективным и объективным модусами видимости, раскрывая онтологический характер бытования очевидности. Иными словами, сделана попытка провести первичное различение в очевидности — чем человек, люди (все вместе и каждый в отдельности как субъекты социального опыта) являются, и что они сами считают для себя очевидным20.
Можно добавить, что в поле исследуемой социальной активности оказывается вовлеченным и матерная, находящийся в тени основных социально-философских «картин мира». Также достигается продуктивный диалог и «конфликт интерпретаций» между стратегиями диалектики и феноменологии в определении социальной очевидности как «фактичности видимости» и социального бытия как — «разделенного». Дается конструктивная корректировка ряда терминов социальной философии в соответствий с современной (постсовременной, постистори.
Душа является и становится тем, что она созерцает", — знаменитое суждение Плотина. Однако оно трактует не о пустом отождествлении бытия с чувственным восприятием, поскольку человек, действительно будучи тем, на что он «смотрит», никогда не бывает тем, что он действительно видит. Метафорически выражаясь, никто не бывает автором собственных снов и иллюзий, но по преимуществу — чужих, которые он внушает окружающим. В частности, речь идет и о том, сколь сложно и причудлической) реальностьюречь идет о таких определениях, как «социальная очевидность», «социальная реальность», «повседневность», «массовое сознание» и др. В установлении первичного категориального анализа этих понятий показано их содержательное пересечение с такими понятиями социальной философии, как «интерсубьективное», «буржуазное», «обывательское». В обращении к темам очевидности, множественности, данности, иного задан горизонт соотношения традиционных и нетрадиционных подходов.
7. Результаты, полученные, в диссертации, могут быть использованы для дальнейших исследований и чтения лекций по курсам социальной философии, философской антропологии, философий техники, эстетики. Также настоящая работа подтверждает то, что принципиальная трудность постижения социальной реальности, в числе прочего, дает повод для обращения к художественным практикам и к исследователям, связывавшим с ними свой интерес. Уместно вспомнить М. Бахтина (с его излюбленными мотивами личностной амбивалентности, «несовпадения с самим собой», карнавализации действительности, «изнаночности»)25, искавшего объяснения существенных черт социальной жизни, отображенной в произведениях классиков мировой литературы.
И наконец, темы, затронутые в диссертации, неожиданным образом перекликаются с достаточно маргиналной областью в современном отечественном искусствоведении, а именно — немногочисленными во подчас рифмуется в отдельном человеке, что он сам склонен думать о себе, с тем, что он на самом деле собой представляет.
25 См. М. М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М., 1965 исследованиям примитивного искусства22 (представленными такими авторами как Н. М. Зоркая, Г. С. Островский, Э. Д. Кузнецов и др.) И хотя данная работа ни коим образом не принадлежат к сфере эстетики, но все же при видимом отсутствии философского базиса в указанной области, не исключено, что в ближайшем будущем поднятые здесь темы очевидности, «наивной установки», «мира наизнанку», массового сознания могут создать предпосылку для исследований, которые бы носили более специальный характер
8, Работа с таким заглавием очевидным образом должна осуществляться в два шага. Недостаточно просто выявления и анализа некой специфической социальной очевидности — в ее отличии от любой иной: трансцендентальной, эмпирической, экзистенциальной, психологической, индивидуальной очевидности. Поскольку определение социального знания как специфического опыта, отслеженного на границах различных направлений философии близких феноменологии, есть всего лишь представление о том, что следовало бы считать социальной очевидностью, или в силу какой очевидности реальность может быть определена в качестве социальной. Тогда как необходимо еще обоснование этого, достигнутого de jure понятия о социальной очевидностиув de facto единичном опыте очевидного. То есть исследование стремится также рефлектировать в себя знание социальной очевидности как опыт очевидности вообще, тем самым вернуть ему реальное основание.
Соответственно, диссертация осуществленав двух главах:
По-видимому, на сегодняшний день существует только два. сборника, посвященные указанной тематике: «Приметив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени., МЛ983- «Примитив в искусстве грани проблемы»., М.1992 ъ См. А. Мусатов. Фактичность видимого (реминисценции d’art nai’ve) // ?б. «Коментарий» (№ 17) 1998.
Первая: «Социальное определение очевидности» и вторая: «Очевидность социальной реальности».
Первая глава, в свою очередь, имеет два раздела: Во-первых, «социальная импликация очевидности», где формально предмет распадается на два абстрактных момента: тему очевидности и наследующую ей тему социальности. И второй раздел: «социальная очевидность и социальная реальность».
Собственно первый раздел задумывался как-то, что должно предварять всю работу в целом и обосновывать исследование как некое целое уже в самом его начале. Оказалось возможным еще прежде, чем приступить к началу работы, задаться целью уже в плане умозрительном довести все до конца. Осуществить исследование в его внутренней логике, в плане некоего внутреннего долженствования. Вместе с тем, чтобы это выглядело как развернутая панорама собственных мотивов автора, заставляющих его обратиться к данной теме.
В каком смысле вообще разговор об очевидности представляет интерес и что заставляет связать его с социальным контекстом? Очевидность может рассматриваться в качестве прописной истины обыденного здравомыслия, сказывающейся о превратности сознания обывателя, непреодолимой парадоксальности так называемого «естественного сознания» (Гегель-Гуссерль), выступающего 1 высказывании собственной очевидности в качестве «истины наизнанку» (Гегель) по отношению к научному мышлению. Естественная установка или наивное сознание неизбежно рассматриваются здесь как своего рода мифологема или «превращенная форма» (Маркс), В более фундаментальном смысле это парадокс эмпирической определенности человека как мыслящего существа, его непосредственно-опросредованного бытия в жизненном мире. Интереса отдельной части, посвященной такому разговору и предваряющей вместе с тем само исследование, связан преимущественно с темой конституирования Другого, с определением парадоксальности понятия «естественного сознания», и проблемой сознания вообще.
Вместе с тем, как отдельная сторона проблемы, получает свое выражение необходимость подняться над мало к чему обязывающими рассуждениями о безмыслии обыденного рассудка и до-научного сознания: выдержать высоту философской рефлексии. Для чего, с одной стороны, «естественная установка» берется не в качестве своего рода мифологемы для обозначения «негативной силы самосознания», косности рассудка, «непосредственной достоверности себя самого» (Гегель)24, — но скорее рассматривается как уже некоторый результат научной рефлексии. Хорошо известно сформулированное Гегелем противостояние философской науки и так называемого естественного сознания, или здравого смысла, — где каждая из сторон должна видеть в другой как бы свою «истину наизнанку». Но если интерес и непосредственное доверие со стороны естественного сознания к философской науке можно считать чем-то вроде парадоксального желания «хоть раз в жизни походить на голове», тогда и со стороны этой самой науки, наследующей идее такого противопоставления, всякий интерес к инстанции здравого смысла, попытка судить о нем — не окажутся ли неизбежно в чем-то тоже мистификацией, насквозь искусственным понятием о самостоятельном бытовании «непосредственного самосознания», «чувственной достоверности"^ и т. п.
У Гегеля речь шла о необходимости присоединения к науке этой самой стихии непосредственности, в котором, прежде всего, «наука должна показать, что эта стихия присуща ей самой, и что таким обра.
24 Гегель. Феноменология духа СПб. 1992 с. 13.
25 Там же с. 13−14 зом и сама она ей присуща"26 Таков проект «Феноменологии духа». «Наивность», как характерная черта «естественной установки» не просто свойственна существованию в «жизненном мире» (универсуме анонимно складывающихся «первых очевидностей», априорных по отношению к логико-теоретическим схематизациям), но и состоит, как указывал Э. Гуссерль, в возможном вторичном сужении его горизонтов в научной абстракции. Феноменология тогда должна пониматься в значительной мере, в гегелевском смысле — подробной истории «образования самого сознания до уровня науки», изложения являющегося знания как пути утраты самого себя естественным сознанием, преодоления его естественной восприимчивости, «пути отчаяния и сомнения» 27. Социальная феноменология как своего рода антология мнений, как описание здравого рассудка, трактует последний уже не в смысле предданного метафизического & priori, но рассматривает его конкретно во всей случайности и стихийности образования форм common sense, включая сюда и модальности примитивного, или подчас ущербного самосознания, лишенного самостного бытия.
Содержание первого раздела данной главы можно резюмировать в следующих положениях:
1) Неизбежность рефлексии в себя знания, переживаемого в его очевидности как непосредственное, необходимость признания того факта, что очевидность гуссерлевского «сознания о.» есть вместе с тем еще и очевидность для кого-то определенного, — дает логическое основание для социальной трактовки очевидности.
2) Социальность, определяемая таким образом, является основанием того, что различенное в индивидуальном опыте не принимает окончательной формы противоположности. В гегелевском духе.
25 Там же с. 14.
21 Гегель. Феноменология духа СПб. 1992 С. 44 здесь фиксируется переход от логики противоположностей как «самостоятельных рефлексивных определений» к рефлексии каждого из них в присущей ему внутренней логике противоречия. То, что мыслящий индивидуум с присущим ему знанием очевидности, ощущая себя кем-то, в то же время избавлен от необходимости противопоставления себя самому себе, являясь помимо этого чем-то.
1″ • иным (скажем, он может быть мужчиной и, одновременно — налогоплательщиком), также то, что он фактически всегда свободен от рамок различения alter ego, с одной стороны, и своего особенного «Я» — с другой, — все это предполагает наличие горизонта возможной идентификации индивидуума, меры социальной допустимости точек зрения относительно данности и ее распределения.
3) Снимая характер противоположности в фиксируемых определениях, основание, о котором идет речь, иначе говоря, социальность, как особая фактичность видимого, неминуемо превращает вх в частные определения. То, что противоположности, выражаясь гегелевским языком, «тонут в основании», подрывает их природу самостоятельных рефлексивных определений. Всякий способ самоидентификации, всякий поступок или выбор может быть ограничен своей абстрактной формой, в этом смысле он есть лишь частный выборлишь «отчасти» можно быть кем-то, лишь «в ряду прочего» решиться на что-либо.
4) Хотя философское вопрошание и требует исходить из очевидности, но именно социальная очевидность выступает модуляцией полноценности опыта бытия-в-мире. В каком смысле может идти речь о том, что частный характер, взаимное безразличие, рядополож-ность этих определений парадоксальным образом не может умалить их достоинства. Социальная очевидность, которую можно определить как своего рода феномен «двойного зрения», является формой противоречивого единства противоположностей, универсальным пространством встречи. 5) Что же в таком случае характеризует «жизненный мир» феноменологии как именно социальный, если в само определение его входит уже понятие множественности опыта? Исходя из рассмотренной черты разделенностн социального бытия, исследование пытается определить этот мир в данной его ипостаси с помощью гегелевского понятия «изнанки», «в себе перевернутости» (чегкеНеп Ап-как принципа «второго сверхчувственного мира» или «мира наизнанку». В этом значении совпадающего с делезовским понятием мира «машин желания», или «мира, где все возможно». Во втором разделе подробнее говорится о том, что социальность обнаруживает себя модуляцией экзистенциальной конечности. Собственный предел человека как социального существа преднаходим в другом человеке. По-видимому, пропасть между нами (между другим и мной) всякий раз должна быть столь велика и непреодолима, что здесь и речи не могло бы идти о том, чтобы всего лишь зафиксировать бытие другого в смысле непознаваемого или только частично познаваемого, или требующего некоего особого мистического проникновения, эмпа-тии. Другой уже в силу своей очевидности оказывается не только постижим, но постижим исчерпывающим образом. Эта идея отвечает своеобразному характеру хайдеггеровского солипсизма. В этой связи было проанализировано различие в способах рассмотрения знания о другом в терминах для-себя бытия (у Гегеля) и, с другой стороны, события, или хайдеггеровского совместного бытия с другим.
Проблема существования мира вне меня бессмысленна, поскольку структура бытия-в-мире равно из начальна самому присутствию, в смысле человеко-реальности вообще. Вместе с тем, столь же априорно структуре присутствия в ее определении заботы принадлежит то, что оно есть совместное бытие-с-другим, со-бытие. Однако как раз в силу этого априори опыт бытия с другими и знание о них этой структурой и исчерпывается. С самого начала и вперед себя присутствие уже брошено в тупое и невнятное публичное бытие, заведомо «растворено и промотано в его образах».
Если первый раздел, в известном смысле, представляет собой предмет в его в-себе бытии, выражаясь языком Гегеля, саму его чистую возможность, то второй можно определить как исследование в его для-себя бытии. Как раз поскольку дело идет здесь уже об ограничении рефлексии, и здесь исследование полагает свой интерес в достаточно узких рамках той области социальной философии, что сама рассматривает социальную реальность в пределах очевидности и преимущественно задается вопросом об условиях возможности разговора о социальной реальности.
Данный раздел выдержан в полемическом ключе. Здесь исследование выступает критически не только по отношению к некоторым направлениям социальной феноменологии, фиксирующим социальную реальность в структурах речевой деятельности, идеям представителей трансцендентальной прагматики, уповающим на коммуникативный разум как возможность решения всех проблем, но также и отвечая порой на довольно поверхностную критику этих направлений и феноменологии вообще. Основной акцент здесь делается на указание мировоззренческого разрыва современной и классической теорий познания, приведший в числе прочего и к вопросу о статусе социальных наук. К каким следствиям ведет отказ от субстанционалистской научной картины мира, насколько должно было измениться наше представление о производстве субъективности, которое прежде шло рука об руку с традиционным разграничением индивида и общества, с уставовпением иерархических систем детерминации, наподобие базиса и надстройки.
В дальнейшем эти темы найдут свое продолжение в разговоре о феноменологической социологии Щюца, который рассматривал переход от непосредственно-личного опыта индивида к социальному, где другой выступает носителем типичных свойств, в свою очередь характеризующих стабильные социальные структуры, интерсубьективно существующие, в точках пересечения практических целей и интересов индивидов. Сам жизненный мир задает правила интерпретации социальных явлений и выступает в функции трансцендентального условия их познания.
Представление социальной очевидности достигается в обращении к естественной установке повседневной жизни, в рамках которой социокультурный мир «переживается в обыденном сознании людей, живущих обычной жизнью среди других людей таких же, как они сами» (Щюц). Лишь как таковая естественная установка имеет непосредственный смысл первичности, поскольку отвечает когнитивному стилю наивного, повседневного мышления, с его специфически осуществляемым эпохе, состоящем именно в том, что существование других людей не подвергается сомнению, рассматривается как нечто само собой разумеющееся.
Непосредственно можно иметь дело, таким образом, не с понятием о социальной реальности, но с ее превращенной формой — всегда неизбежно абстрактным представлением социальной очевидности. Будь то повседневная естественная установка или, в другом случае, рассматриваемый опыт пребывания в массе на материале Канетти «Масса и власть», й так же, как гипостазирование повседневности в качестве «конечной смысловой области» (у Щюца), с как бы присущей ей трансцендентальной редукцией «наизнанку», непреодолимо двусмысленно, вообще возможно только в силу более обширного проекта радикального самообоснования феноменологии как универсальной науки, — так и разговор о массовом сознании (у Канетти) возможен лишь по аналогии с сознанием конкретного индивида. Последнее является по существу более сложным, неисчерпаемым в возможности значений его внутреннего мира, так что лишь, будучи упрощенным, заведомо профанированным в аспекте массового бытия, может быть «понято» в отношении якобы присущих ему целей я мотивов.
Естественная установка, мышление обывателя, в принципе не может быть точкой отсчета в конституировании понятия о порядке и норме. Пусть даже феноменологическая социология, эт, но методология и другие дисциплины предельно проблематизируют это понятие, так что оно выступают для них в качестве регулятивной идеи, предельно релятивизируют понятие социального порядка, как конституируемого субъектами социального взаимодействия только здесь и теперь. Все равно их отличает непреодолимая внутренняя противоречивость. Сознание обывателя, пусть даже в смысле лишь регулятивной идеи, скорее очевидным образом подрывает возможность знания порядка, ориентирующего на непосредственный опыт, чем обещает привести к нему. Да, в самом деле, в попытке достижения понятия о сущности нормы мы не можем избежать апелляций к повседневным, рутинным формам социального бытия, которое здесь ближайшим образом и по преимуществу должно являться темой анализа, но как бы там ни было, это знание в своем существенном определении должно иметь другой источник. Ибо эти формы замыкают анализ в круге фиксации нестабильности значений, сказываются скорее о хаотическом, непознаваемом, подчас противном самому разуму характере социальной реальности.
Таков, во многом, по-видимому, и замысел книги Канетти, с присущим ей моралистическим пафосом. Сознание массы, воля массы, кажущаяся определенность ее целей (тогда как фактически можно было бы говорить только о сумме многих частных воль, многих состояний конкретных индивидуумов, свойственном каждому их них эмоциональном настрое) — все это суть превращенные формы социального бытия. Но как такая модифицированная форма индивидуального, са-мостного (лишь по отношению к которому возможны абстракций суверенного или рабски зависимого, в свете разворачивания основополагающей темы параноидальной одержимости идеей власти) она не есть и просто другое сознание, что вело бы к логическому кругу.
Социальность нельзя рассматривать, вместе с тем, и как свойство трансцендентального субъекта, принтом, что всегда может быть провоцируема видимость того, что все, что составляет содержание этой социальной о ч ев и д, но ст и, 5 пр е д стает в причудливых образах бытия-в-массе, фактически заключено уже в индивидуальном сознании и присущей ему эксцентричности. Здесь должен демонстрироваться более сложный системный характер социальной реальности, о которой идет речь, как необходимо заключающей в себе элемент неопределенности, поскольку она никогда не будет и не может быть до конца прозрачной и для самой себя. Масса здесь выступает как социальный квазисубъект в видимости присущих ему собственных желаний, целей, стремлений и мотивов, собственного разумения и воли, и даже иной раз раздражительности, недовольства.
Рассмотрению этих вопросов посвящена достаточно короткая вторая глава. Ее название- «Очевидность социальной реальности» — указывает на то, что здесь происходит преднамеченное обращение темы. Теперь, по достижении общего знания о том, что же следует считать очевидностью, задачей будет рефлексия в себя последней. Искомым в социальной очевидности отныне станет собственно очевидность. И в противоположность предыдущему изложению, связавшего себя целью определения социальной сущности очевидности, на этот раз внимание должно будет заостриться как раз на несущественном. Спрашивается: в каком смысле это очевидно — то, что было выявлено путем самоудостоверения я самодекларации социальной феноменологии, теперь это должно будет представлять интерес как сама простая очевидность.
Во второй главе уже осуществляется рефлексия в себя всех трех аспектов очевидности, сказывающихся о ее социальном характере. Так, поскольку в социальной очевидности, определенной как вне-индивидуальное бытие, все-таки речь идет об очевидности, это не позволяет окончательно вытравить из нее я индивидуальный оттенок. Можно сказать и так: реальность, о которой известно («известно» от феноменологии), что она конституируется собственно за счет того и лишь в той мере, что является очевидной для тех, кто в ней принимает участие, объект ив ируясь в социально-производных актах интерпретаций и утверждения, — эта социальная реальность есть вместе с тем еще и единичный опыт очевидности, в котором она может переживаться не только лишь как социальная-в-силу-своей-очевидности. То есть парадоксальным образом должна иметь место еще и очевидность того, что социальная реальность есть нечто большее, чем очевидность социального.
Итак, вторым ходом — должно стать обоснование социальной реальности в единичном опыте очевидности. Здесь — если коснуться важности того или иного из затрагиваемых контекстов: выбор осуществляется уже совершенно свободным образом, без четкой рубрикации, простым указанием очевидности социальной темы. В целом, вторая глава посвящена рассмотрению некоторых примеров того, как осуществляется усмотрение социальной очевидности, какую модуляцию получает социальная тема в том или ином варианте современной социальной теории. Таким примером, в ряду прочего, является произведение Канетти «Масса и власть» как специфический вариант социальной феноменологии, в котором можно видеть опыт описания человеческой интерсубъективности, как и в случае ХЦюца, основывающийся не на трансцендентальном субъекте, но как имеющий под собой некий ква-зн-субъект социальной реальности. Знание о последнем может быть только непосредственным, и в этом случае оно заключается в самой тональности этих рассуждений, в общей мрачности темы. Странным образом, вся книга строится не путем аргументов (а если и приводятся варианты доказательств а, то лишь для демонстраций неожиданной родственности научно-дискурс ив, но го и архаического мышления), скорее в силу, так сказать, логики эвфемизма. Что позволяет в итоге рассматривать в целом чисто этнологический материал, по свидетельству самого Канетти, как книгу о XX веке.
Структура диссертации, формулировка ее основных проблем обусловлены целями и задачами исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Надо заметить, что специфика социальной философии предполагает не просто традиционное возвышение от «мифоса» к «логосу», но и, в известном смысле, обращение вспять — иметь дело с доксой, принимать в расчет случайные мнения и, подчас, превратные суждения обыденного здравомыслия, в глазах которого, должно быть, самого философа отличает способность видеть мир лишь в черных и белых тонах, скажем: видеть только противоположности и не замечать альтернатив. Ведь можно представить все дело так, что не замечая вокруг себя живых людей, философ должен вращаться среди квази-субъектов, среди превращенных форм социальной жизни. Для него есть классы, этносы, государства, цивилизации, есть правители и толпы. Так, например, в склонности к безусловному неприятию доктрины «открытого общества» можно видеть своеобразное подтверждение и другой «прописной истины», которая заключалась бы в том, что философскому темпераменту более всего присущ дух консерватизма. Во всяком случае, речь идет о склонности предпочтительно находить противоречия и противоположности там, где бытует иллюзия равенства и многообразия предлагаемых альтернатив. Для философа существуют только пары понятий и всегда скрытое в них неравенство. Для него говорящий о плюрализме лишь скрывает собственную корысть, и чем лучше скрывает — тем проще его уличить, поймав на слове. Так что вероятнее всего от «настоящего философа» можно было бы ожидать, что он усмотрел бы, к примеру, в видимой незаинтересованности и внешне провозглашаемом «универсализме» либерально-рыночной доктрины навязывание одним конкретным государством своих принципов и норм другому, экономически менее развитому (или развившему свою хозяйственную структуру иными путями), с одной лишь целью — экономического и политического подчинения последнего и т. п.
Но если для философии критика эгалитарной идеологии действительно в чем-то сродни привычному делу разоблачения боксы, то здесь может возникнуть таи? и другое соображение, — В условиях современного мира, где, говоря словами Хайдеггера: «все временные и пространственные дали сжимаются», «все спекается в недалекое единообразие"151, а на пороге нового тысячелетия телевидение и интернет, воплощающие предел устранения всякой дистанции, пронизывают всю систему коммуникаций в целом, и, можно предположить, уже в недалеком будущем будут занимать большую часть времени в жизни человека, в этих условиях невиданной экспансии повседневности — не должна ли и философия искать радикально новые слова для объяснения социальной реальности, которая теперь, как еще никогда раньше, зависит и даже создается самим ее восприятием? Надо ли это понимать так, что философ, чтобы окончательно не утратить свой иллюзорный предмет, должен учиться говорить на каком-то совершенно особом виртуальном.
152 и языке, снова и снова обыгрывать сооственныи провал в возвышении над истинами здравого смысла, и, вопреки привычному пониманию своего предназначения, находить пути выражения действительности как «мира наизнанку», воплощающего «гибель противоположностей» как «самостоятельных рефлексивных определений», открывать мир, в котором ничто уже не есть «само по себе», а все видится словно бы только сущим на поверхности, лишенным изнанки?.
А поскольку это вполне в духе социальной философии, чтобы сам философствующий преодолевал в себе резонера и снова обнаруживал.
5! См. «Вещь» /там же с.316/ ш Не трудно отдавать себе отчет в том, что так называемая философия постмодерна для недавнего представителя диалектического материализма или политолога марксистско-ленинского толка — это всего лишь модуляция тех процессов, которые имеют место в современном обществе, и своего рода апология господствующей либеральной идеологии, даже в случае ее внешнего отбы склонность к резонерству и без конца потворствовал себев этом занятии'53, то как нельзя более кстати, что среди вероятных социальных квази-субъектов главное внимание в настоящей работе было уделено феномену обывателя (его возможные синонимы: буржуа, «средний европеец», западный человек и т. п.) — последний рассматривался не как антропологический тип или нравственная характеристика, но именно как квйзи-субьект социального мира в смысле «мира наизнанку». Обыватель — это тот. для кого неведомо ни бессмертное, ни смертное, кто не знает ни варварского — ни цивилизованного (что особенно актуально в нынешнем секуляризованном мире), ни священного или профанного, -все противоположности сглажены в повседневном движении жизниможно только повторить вслед за Розановым: «Ничего глубже и ничего выше. ни — святых, ни — героев, ни демонов и богов».154 Здесь все с рнцання или видимости революционного противостояния ей со стороны адептов новейших философских течений. ьз В бесконечном исчислении парадоксов первичного отношения к другому в обосновании фундаментальной связи с другим, конститутивной для сознания в самом его возникновении (см. 1-й раздел), или вопрошании о том, каким должно быть практическое отношение философии к социальным процессам, словно бы в свете догматического различия между практическим и спекулятивным применением разума решая псевдо-проблему Еыбора между «мышлением.» и «жизнью», созерцанием и деятельностью (см. 2-й раздел).
154 Розанов В. В. Сочинения. М., 1990, Т.2 у.е.диненное /приложение к журналу «Вопросы философии"/, с. 407- ср. также: К. Леонтьев «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» // Леонтьев К. Н. Избранное. — М, 1993. Здесь надо заметить, что приведенная сентенция как раз более в духе К. Леонтьева, чем В. Розанова: в то время, как первый противостоял 5* де о логин современного ему человека, «среднегорационального европейца», «безвредного и трудолюбивого, — немного эпикурейца и немного стоика» /См. там же — с. 284/, — Розанов своим творчеством воплощал жизненную обывательскую логику, «обыденное сознание» (однако не следует вкладывать в это утверждение никакого уничижительного смысла), не случайно один из современников метко окрестил его «гениальным обывателем». Между тем, в настоящем диссертационном исследовании, трактующем понятие обывательского сугубо условно («идеально-типнческн»), не нашлось места ни для постановки проблемы историческог о возникновения, скажем, такого антропологического типа как «средний европеец» — в леонтьевском смысле, ни для розановской «археологии религии», претворяемой в своеобразную «метафизику пола». Более того, стоит подчеркнуть, что в данном случае демонстрация очевидности в качестве тотальности совместного человеческого присутствия должна была дезавуировать самого начала является перепутанным, все представляется лишенным глубины или даже собственной кожи, одно всегда является изнанкой другого, в равной мере предстающего шиворот-навыворот: соседство «кнута» и «пряника», «божьего дара» и «яичницы», которые не мудрено перепутать местами.
Как субъект социальной очевидности par excellence, обыватель представлял интерес для данной работы в качестве персонифицированного носителя «естественной установки», превращенной формы сознания, требующей феноменологической редукции, заставляя обращаться к вечной теме философии — теме различения чистого сознания и непосредственного опыта. Его образ лучше всего воплощал демонстрируемый в настоящем исследовании парадокс взаимной обусловленности феноменов очевидности и социальности. Обыватель как идеальный тип социальной жизни, в строгом смысле, не имеет своего онтологического статуса, выступая как чистая видимость всеобщего самосознания, воплощенного в особенном существовании.
Социальная очевидность есть очевидность для кого-то определенного. Видеть очевидное — уже значит быть конкретно кем-то, а не просто этим — абстрактным субъектом чувственной достоверности. Более того, как неоднократно подчеркивалось, поскольку условием возможности знания о социальной реальности является само участие в ней, как в повседневном взаимодействии субъектов социального опыта, то эта очевидность является, вместе с тем, конститутивным фактором для того, кто о ней свидетельствует, й наоборот — склонность констатировать, что это само по себе очевидно (помимо того, что является свидетельством всякий сакрапьный смысл соцнааьного бытия, оборачиваться сплошной секуляризацией действительности. В частности, представляло немалый интерес то, в какой мере это может быть созвучно как раз тому дистанцированию от истории, от сферы мифологического, или даже просто проблемат ического, невероятного, — что, в свою очередь, имеет место как реальная историческая тенденция сегодняшнего времени. наивности), коренится в конкретном социальном, культурно-йсторическом контексте человеческой жизни. Таким образом, обыватель может быть одновременно и объектом традиционной критики идеологизированного сознания, и универсальным архетипом социальной жизни, собирательным образом человеческого, составленным из суммы наиболее тривиальных и поверхностных суждений обыденного здравомыслия.
В случае настоящего исследования феноменологический опыт Ка-нетти, сплавляя воедино оба эти отношения, в полной мере отразил противоречивость ко нет нту нрован ия некой «позиции мы» (в гегелевском смысле — см. раздел 1), затребу ем ой в качестве своего рода рефлективного топоса сознания, которое могло бы отличать себя от рассматриваемого им опыта, находя в непосредственном знании форму «примера», познавая на себе самом преобладание необходимости над притязанием рассудка.