Проза В. П. Аксенова 1960-70-х годов: (Пробл.
творч. эволюции)
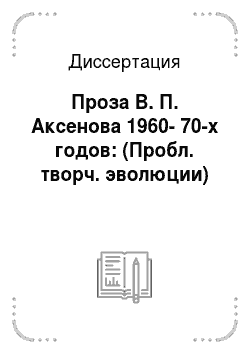
Обидчик выскальзывает из расставленных сетей, а герою остается перевести разговор на нейтральную тещ. Такая концовка вновь поднимает вопрос о психологии шестидесятничества как феномена, заключеющегося в нежелании (а может быть, — и это хуже — неумении) сделать решающим шаг и назвать вещи своими именами (ведь нечто подобное происходило и с Анатолием из «Маленького кита.») Герой «Завтраков.» раз… Читать ещё >
Содержание
- Введение.b-cJ
- Глава 1. 60-е. Становление художника
- 1. 1. Дебют
- 1. 2. В поисках хорошего человека
- 1. 3. Рассказы
- Глава II. Поиски жанра
- 2. 1. На .духовном перепутье
- 2. 2. Прощание с жанром
Проза В. П. Аксенова 1960-70-х годов: (Пробл. творч. эволюции) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В 1989 году в седьмом номере журнала «Юность» была оцублико-вана повесть Василия Павловича Аксенова «Золотая наша железка». Так, сцустя десятилетие вынужденной эмиграции, произошло возвращение писателя, произведения которого длительное время пользовались исключительной популярностью, писателя, в котором не без основания видели лидера прозы целого поколения, поколения «шестидесятников». j.
Творческий путь В. Аксенова начинается в 1959 году «когда в журнале „Юность“ (№ 6) были напечатаны его первые рассказы -» Наша Вера Ивановна" и «Асфальтовые дороги». Дебют писателя пришелся на эпоху, которую принято теперь называть «оттепелью» .
Что такое оттепель — как с легкой руки Ильи Эренбурга стали называть тот период в жизни страны и литературы, началом которого явилась смерть тирана., а конец оттиснулся в постановлении октябрьЬкого (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, в приговоре по делу писателей А. Терца (А.Синявского) и Н. Аржака (Ю.Даниэля), в решении о вводе войск стран Варшавского Договора в Чехословакию?" Ответ на данный вопрос в наиболее общем виде можно сформулировать так. «Оттепель» — это первое сцустя 40 лет коммунистического правления время, когда «верхи» реально обратили внимание на жизнь «низов». Причем не только на «массы» или «коллектив», но и на индивидуальность, на конкретного человека. Люди перестали восприниматься «винтиками» и «щурупчиками» государства, а также материалом для «гвоздей». j «Оттепель» оставила свой след во всех сферах: политике (первое посещение коммунистическим лидером Америки.), экономике (совнархозы и хозрасчет,.), военной доктрине (резкое сокращение Чупринин С. Оттепель. I953-I956.-M., 1989. -С.З сухопутных войск.) и т. д. Однако диссертационная работ* и ее тематика определяют интерес, прежде всего, к гуманитарному и культурологическое аспектам эпохи. Один из современников так пишет о том периоде: «Наше начало — это XX съезд партии. Это общественная атмосфера тех лет, когда дышалось полной грудью и ду-' малось, что отныне так будет всегда. Живые, наполненные годы, которые так много определили в нашей жизни и после. Всякое потом было, но это осталось — начало. В книги, на сцецу, на экраны победно врывалась реальная жизнь, и это было прекрасно. В персонажах литературы, искусства мы узнавали себя, и радость этого узнавания была не сравнима ни с чем» *.
Из многочисленных фактов общественной жизни времен «оттепели» обращают на себя внимание, во-первых, большая открытость страны по отношению к остальному миру (первый прорыв «железного занавеса») и, во-вторых, ослабление идеологического контроля за кулыурой (литература, кино, живопись, ваяние получили право иметь свою точку зрения на мир и человека). Однако при сем (и это, в-третьих), присутствовали и оставались непререкаемыми основополагающие догмы и постулаты большевизма. Из обозначенных явлений неизбежно вытекала непоследовательность и половинчатость проводимой в государстве «гуманизации». В итоге получалось, что человек, хотя и получил право на собственное мнение, но в официальных отношениях оно ограничивалось рамками, обозначенными «сверху» .Далее, стала возможной и цубликация произведений, ранее считавшихся «безыдейными», «вредными», «упадническими», разумеется, при этом они ] сопровождались комментариями и послесловиями, где указывались «ошибки» и «заблуждения» автора.
Щербаков К. С желанием истины: Об одном поколении в искусстве.
М., 1988.-0.7 (Далее цитируется по данному источнику).
Необходимо остановиться и на некоторых важнейших аспектах социальной психологии 50−60-х годов. Прежде всего следует иметь в виду" что большинство людей, шепнувших в «оттепедь'Чи молоды*, и среднего возраста, и пожилых), так или иначе „нахлебались слезы и сырца“ во времена „холодного прошлого“, что оставило в их сознании неизгладимый страх перед коммунистической диктатурой и ее репрессивной машиной. Кроме того», оттепель" по сути дела никем и никак не была завоевана. Она лишь даровалась сверху, а по сецу и относились к ней как дорогоцу хрупкоцу подарку — так же «бережно» и «нежно», стараясь излишней резкостью и активностью не нацугать власть, которая могла всю эту «свободу» разом и забрать.
Означенные обстоятельства объясняют причины бездействия, апатии и безразличия движущей силы эпохи — интеллигенции в ключевые j, моменты времени. Именно по приведенным причинам не происходило массовых открытых выступлений против правящего режима, как это случилось в Венгрии и Польше (1956) и Чехословакии (1968). Более того, даже «столпы» «оттепели» (Г.Владимов, В. Войнович, А. Гладилин, В. Аксенов) так и не рискнули яаио отстаивать свои творческие и мировоззренческие принципы. Они предпочитали идти зачастую на «покаянный компромисс», несмотря на то, что душой не могли уже принять нравственных и эстетических ценностей коммунистического строя.
И все-таки, невзирая на все «половинки», «условности», «недоговоренности», свершалось главное — человек свободнее дышал, размышлял, действовал.
Неверно, однако, и рассматривать «оттепель» только как времяпущенных возможностей. Нет. В годы «оттепели?! проявилась и самодеятельность «масс», особенно в интеллигентской и интеллектуальной среде, а в целом ряде случаев (как часто бывало в России) преобразования начали выходить за рамки, им отведенные. На иболее отчетливо это проявилось именно в духовной сфере. Например, демонтаж «железного занавеса» привел к возникновению массового интереса (особенно в молодежной среде) к культуре Запада (Европы и США). Интерес этот стимулировался самыми разными явлениями и событиями. Важнейшим из них стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший летом 1957 года. Задуманный как идеологическое мероприятие, с целью демонстрации достижений социалистического общества, он, тем не менее, сыграл важную роль в осоз нании советским человеком остального мира. Этот фестиваль практически разрушил для значительной части молодежи стереотип враждебности и подозрительности ко всему заграничному. Достаточно быстро простой интерес в кругах молодежного «бомонда» сменился открытым подражанием западным образцам. Особенно привлекательной стала общая раскрепощенность (в поведении, общении, одежде и т. п.), црису.
1 щая человеку Запада. Копирование данной манеры поведения привело к возникновению едва ли не целого стихийного движения, так называемого «стиляжничества» .
Параллельно складывалось и некое «прозападмическое» сознание основой которого становились «западные» же ценности, главным образом — индивидуализм (в противовес насаждаемому коллективизму)"максимальная свобода личности (в противовес ограничению свобод при социализме), а в творческой среде — еще и подчеркнутая свобода творчества (модернизм вместо «замшелого соцреализма», джаз и рок-¦чн-ройл вместо партийно-патриотической музыки и т. д.). Но фестиваль оказался лишь первым шагом на дути «несанкционированного» освобождения личности.
Важнейщую роль в развитии общественного сознания стажа играть литература. П. Вайдь и А. Генис, например, отмечают такую деталь, как поэтичность советского общества 60-х годов — «. в жизнь советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз» *.К поэзии они относят текст Третьей Программы КПСС, а главным поэтом эпохи называют Н С. Хрущева, т.к. именно ом дал «творческий импульс, выражавшийся в простых, как и подобает истинной поэзии, словах: «Нынепшее поколение советских людей будет жить при коммунизме !» Итак, Н. С. Хрущев — главный поэт эпохи, а «ее поэтический конспект составил Евгений Евтушенко» (Байль П., Генис 0. 60-е. Мир советского человека.-С.139). Это верно, но, на мой взгляд, излишне однобоки. Поэтический конспект времени составили молодые поэты «оттепели». Кроме названного уже Е. Евтушенко, и Р. Рожденственский, и А. Вознесенский, и Б. Ахмадуляина, и Б.Окуджава. Достаточно вспомнить, сколь трепетно внимал зал стихам А. Вознесенского и Р. Рождественского, сколь воодушевленt, но подхватывали люди незатейливый мотив Б. Окуджавы в документальном фрагменте из фильма М. Хуциева «Застава Ильича» .В грандиозную манифестацию превратилось чтение стихов у памятника 4.
В.В Маяковской и т. д.
Безусловно, на читающие умы оказали свое влияние" возвращенные" и разрешенные публикации таких поэтов, как А. А. Ахматова, М. М. Цветаева, Б. Д. Пастернак, О. Э. Мандельштам. Следует обратить внимание и еще на один аспект, зачастую выпадающий из поля зрения исследователей и цублицистов. кВайль Петр, Генис Александр.60-е. Мир советского человека// Театр.-1992.-№ 4.-СЛ39 (далее цитируется по этои^у изданию) ю.
Читателю были возвращены запрещенные ранее произведений Ф. М. Достоевского (прежде всего «Бесы»), Н. С. Лескова, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, в которых точка зрения на социализм и его перспективы резко отличалась от общепринятой или даже была ей диаметральйо противоположна.
Особый резонанс в ту пору подучило творчество Ш. М. Достоевского с его идеями ненасилия, отрицания «крови по совести», неправедности общества, построенного «хотя бы на одной слезинке ребенка» .
Так, скорее подсцудно, в сознание людей (особенно молодежи) проникали общечеловеческие и христианские идеи, которые неизбежно вызывали сомнение в правильности существующих и навязываемых классовых ценностей.
Значительное влияние на общественный менталитет оказала и западная литература. А Э. М. Ремарк и Э. Хемингуэй стали настоящими героями дня. Если Всемирный фестиваль вызвал к жизни все-таки чисто внешний, подражательный Западу аспект, то, по мнению уже упоминавшихся П. Байля и А. Гениса, романы Э. Хемингуэя создали целую идеологию." В книгах его советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. 60-е не просто реабилитировали некогда запретного Хемингуэя. Они перевели на русский язык не столько его книги, сколько стиль его жизни.
С Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души и тела стал решаться в пользу тела" .(Вайль П., Генис А.60-е. Мир советского человека.-С.147). ш" Не прошло бесследно и чтение произведений Э, М.Ремарка.
В них находили то, что каждый хотел найти. Прежде всего цривяекал свойственный всем произведениям писателя пафос частного существования.
Более" проницательный читатель" мог отметить полную деидеологи-зированность поступков персонажей, их жестокую саркастичность по отношению к таким понятиям, как патриотизм, милитаризм, и ко всяческим другим «измам». Кроме того, герой Ремарка был постоянно снедаем рефлексией по отношению к себе и окружающим. Такая рефлексия стала сначала модной, а потом приобрела черты социального явления эпохи.
Происходили* перемены и в других сферах ис^сства. Необычайный взлет пережила кинематография. Началось все >с фильма М. Калатозова «Летят журавли» ." Всем своим строем фильм соответствовал состоянию людей 1957. С «Журавлей» наметился поворот" ,-пишет Л. Аннинский* .Поворот этот состоял в том, что фильм нес идеи общечеловеческие, лишенные какого-либо идеологического привкуса, а героем кинокартины становился не «абсолютный» Павка Корчагин или слащавый передовик и т. п., а обычный человек с его сомне -, ниями, заблуждениями, ошибками и своими собственными (а не коллективными) радостями и горестями ." Журавли", вероятно, первыми в советском кинематографе воссоздали образ человека во всей его сложности и неоднозначности, человека, как самоценной личности, а не служителя партии и государства. М. Калатозов, по точному наблюдению ЛЛанинского, «вскрыл в душе великие страсти и страдания. И главное: ввергнул чутк^то дущу современного человека в грандиозную драму современной истории, которая требует отличности бездонных сил, но это — единственный цуть, на котором реализуется личность» .(Аннинский Л. Шестидесятники и мы.-С.43).
На экране возникла не кукольная (как в «Кубанских казаках»).
Аннинский Л. Шестидесятники и мы.-М., 1992.-С.7(далее цитируется по данному источнику). живая жизнь", дающая человеку надежду на Великую Весну его души, а образ возвращающихся в родные края журавлей служил тоцу пору -" кой.
Однако фильм М. Калатозова при всех его достоинствах — образности, метафоричности уже 2−3 года спустя мог казаться излишне образным, чрезмерно метафоричным, перенасыщенным символикой. Наступившие 60-е потребовали простоты, ясности и злободневности. Иными словами, нужно было кинопроизведение, показывающее современность подобно тому, как это делалось в поэзии и прозе. Й такой фильм не заставил себя ждать. М. Хуциев создает «Мне двадцать лет». Режиссер первым в советском кинематографе отразил тот факт, что «момент обновления людей совпал с моментом обновления поколений. Плотина была прорвана — плотина старых мнений» (Аннинский Л. Шес-^ тидесятники и мы. -G.I0). Аналогичную позицию поддерживает и К. Щербаков:" В фильме «Мне двадцать лет». кавдодневность, будни конца шестидесятых осмысливались уже не на уровне отдельных судеб, но на уровне судьбы поколения" (Щербаков К. С желанием истины. С.134).
Если в фильме «Мне двадцать лет» увидели образ эпохи, то об" раз героя своего времени предстал в фильме А. Вайды «Пепел и алмаз» (1958 г., на советский экран выцутцен в 1966). Воплощением его явился Збигнев Цибульский, сыгравший Мацека Хелмицкого, одцу из заглавных ролей фильма. «Фильм рассказал о судьбе типичного представителя „вайдовского поколения“, но перенесенного в послевоен ную действительность» Соболев Р. Встреча с польским кино. -М., 1967. -С.39. (Далее цитируется по данному источнику).
Цибульский играл не столько «аковца» из 1945 года, сколько современника из 1958, недовольного порядками в стране. На такую мысль наводил и внешний облик:" Вайда одевает его в джинсы, снабжает черными очками, которые носила молодежь не в 45-м, а в конце 50-х", пишет критик (Соболев Р. Встреча с польским кино. -С. 39) Ецу вторит и другой исследователь польского кино:
В манере говорить, двигаться, щгтить, слушать, наконец, в одежде, темных очках что-то удивительно знакомое, сегодняшнее" .х.
Нужно отметить, что «Пепел и алмаз», с моей тощей зрения, вдохнул последние силы в умирающую «оттепель». Цибульский заставил поколение шестидесятых вновь всколыхнуться, вновь вспомнить о тяге к свободе и о том, что люди живут везде и всегда, везде и всегда влюбляются, щутят и т. д. Словом, для большинства в Советском Союзе фильм оказался не о выборе молодого человека из 45 года, в какой-то там Польше, а о непростой (шел уже 1966) судьбе целого поколения в нашей стране.
В театральное искусство стремительно врываются «молодежные» театры. И одним из лидеров был коллектив с характерным названием «Современник». Он появился на рубеже 60-х годов. Это было не просто рождение нового театра. Это было общественное явление, тесно связанное со многими насущными процессами, которые происходили тогда в стране. «Современник» заговорил голосом молодого поколения, он выражал взгляды, надежды «поиски тех, кто вступал в эти годы в жизнь, представлял их гражданскую позицию, их внутренний мир. Театр имел не просто своего зрителя. Он имел среду духовного обитания. Актеры тогдашнего «Современника» аккумулировали в себе гражданскую, нравственную энергию сверстников — и сделали ее достоянием искусства.
Маркулан Я. К. Кино Польши.^Й.-М., 1967.-С.82.
Важной вехой в раскрепощении личности становится и ыузыка. Ренессанс джаза, а затем проникновение рок-н-ролла и твиста многое изменило в психологии человека. Он стал раскованнее, непосред-А ственнее, ближе к Западу с его демократическими ценностями.^Эта сфера духовной жизни тоже дала несколько незабвенных образов, и, прежде всего, — человека с саксофоном, который воспринимался как верх эпатажа, протеста или даже как символ свободы поколения.
Необходимо вспомшть и знаменитую выставку художников и скульпторов в Манеже (1962). Ее организаторы попытались вписать авангардное искусство в культуру советского общества. Попытка оказалась неудачной, но это был тоже прорыв к иному мировосприятию, нерегламентированноцу, индивидуальному.
Описанный выше культурологический взрыв создал уникальное литературно-ь^гзыкальное поколение. Молодые люди шестидесятых по-V дражали в поведении героям Э. М. Ремарка, а манере разговаривать — героям Э.Хемингуэя. Носили черные очки и джинсы, как у Збигяе-ва Цибульского, играли джаз, как американская молодежь 30-х танцевали рок-н-ролл и твист, как их сверстники за рубежом. й вот из этой лавины подражаний возникал облик совершенно нового, невиданного, небывалого и оригинального поколения — поколения «шестидесятников», людей, впервые эа 40 лет коммунистической власти, с чувством свободы. В своем менталитете сквозь разные времена и страны они пронесут, кроме названных качеств, эклектизм сознания, рефлексию и какой-то подсознательный страх перед решающим выбором, перед решающим поступком и вытекающие с. отсюда половинчатость и непоследовательность в действии.
60-е стали своеобразным рубежом для большой группы людей, искренне поверивших в «оттепель», когда казалось, что можно совместить несовместимое, сделать уродливое эстетичным, насилие превратить в добродетель. Современные споры о «шестидесятничестве» лишь актуализируют избранную тему, ибо Василий Аксенов по возрасту, времени формирования и творческим эвояюциям личности, а также эволюции социально-философских взглядов относится именно к «шестидесятникам». И произведения его в полной мере отразили драматический цуть развития менталитета данной генерации.
60-е годы были для писателя особенно продуктивными в творческом плане. После упоминавшейся первой цубликации в I960 и 1961 году соответственно выходят повести:" Коллеги*и «Звездный билет», принесшие писателю огромцую поцулярность и репутацию одного из литературных лидеров молодежного движения «оттепели» .
Естественно, что отличное от нормативного искусства соцреализма изображение действительности вызвало сначала негативную реакцию консервативной критики, а затем и партийно-государственных руководителей^.
Следствием такого давления на писателя стала оцубликованная в «Правде» от 3 апреля 1963 года «покаянная» статья «Ответственность», где В Аксенов заверял «всех и лично» в «преданности идеалам партии» и нормам соцреализма.
Результаты это «покаяние» принесло, и произведения В. Аксенова продолжали появляться в печати. Однако данное событие оказало значительное влияние на мировоззрение литератора. В приуроченной к шестидесятилетию писателя те&ебеседе с Э. Рязановым юбиляр говорил о том, что все попытки режима заставить его и людей его круга покаяться, принять существующий порядок имели противоположные последствия. Усиливалась неприязнь к системе, все меньше и меньше оставалось иллюзий. В результате наибблее строптивые писатели превращались в диссидентов.
Нужно сказать, что В. Аксенов был отнюдь не одинок в разработке «молодежного» направления е литературе. Зачинателем течения не без основания считается А. Гладилин, в 1956 году опубликовавший повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», где впервые в послевоенной литературе выведен тип неприкаянного и никому не нужного подростка. Годом позже проблему вхождения в реальцую жизнь выпускника" школы поднял А. Кузнецов в повести «Продолжение легенды». Затем были и гладилинский «Дым в глаза» (1959 год), где автор первым попы-j тался передать психологию стиляги-индивидуалиста.
Все эти прозаики (как и близкие им по умонастроениям стихотворцы) группировать вокруг журнала «Юность». В те годы названный печатный орган был во многом уникален. Он, в отличие от других периодических изданий, не выглядел идеологически зашоренным, в нем не наблюдалось иерархичности при подаче материалов, наконец, поскольку издавался для молодых, был весел, щумен, эклектичен* 0 прозе же журнала высказывались самые неоднозначные мнения.
В свое время" программная" оценка ей прозвучала на 1У сжезде Писателей СССР в отчетном докладе Г. Маркова:" Одно время центральным образом в произведениях многих молодых авторов была фигура инфантильного молодого человека, слоняющегося по улицам, не даю-Vщего обществу ровным счетом ничего, но претендующего быть судией не только собственного поколения, но и. старший поколений.Марков Г. Отчетный доклад Четвертому съезду Писателей СССР/ 1У съезд Писателей СССР: Стенографический отчет. -М., 1968. С. 18.
Это, по мнению докладчика, сдерживало рост писательского мастерства и неправильно ориентировало молодежь, но «авторам вовремя удалось извлечь необходимые уроки» и повернуть свое творчество в нужное русло. Собственно говоря, подобной точки зрения придерживалась консервативная, идеологизированная критика. Так, известный в те времена литературный критик Лариса Крячко в одном из обзоров прозы журнала «Юность» высказала следующие суждения:" В поле зрения авторов — подросток или юноша, его первое соприкосновение с миром взрослых, с их запутанностью и фальшью, противоречиями, которые наносят ребенку первые раны. Оттого-то и вступает подросток в жизнь поврежденным. Он вынужден прятать свою чистоту и ранимость под маской неверия и цинизма.'.
В самом подходе к проблеме становления человека есть что-то ¦г от Сэлинджера, роман. которого прозвучал в буржуазном обществе как откровение и одновременно как обвинение хищничеству и безумию общества. в этом докучливом, настойчивом стремлении к «откровенt ности», обнаженности во что бы то ни стало и любой ценой, проскальзывает уже какая-то моральная расхристанность, граничащая у героев «Юности» с потерей юношеской стыдливости и целомудрия*. Более сдержан в оценках был Феликс Кузнецов, по иронии судьбы ставший затем одним из «гонителей» Б.Аксенова. Он отмечал характерную для прозы «четвертого.поколения» новизну подхода и остроту поднимаемых тем, говорил, что постоянный поиск молодыми авторами ответов на волнующие вопросы бытия естествен на пути движения к коммунизму. Наконец, критик подчеркивал :" Молодая проза решает проблемы нравст -¦ венной жизни людей не с позиции абстрактного гуманизма, а в духе ленинских принципов неотрывности морали от политики партии, от задач коммунистического строительства" 5^.
Крячко Лариса. Суть и видимость //Октябрь, 1966. — № 2. -С.188−191.
Кузнецов Феликс. Каким быть? — М., 1962.-С. 221−222.
Здесь налицо искренняя адаптация конкретного литературного факта сакральной формуле эпохи («задачам коммунистического строительства»), столь широко распространившейся с легкой руки Н. С. Хрущева.
Следует отметить один симптоматичный факт: консервативная критика практически не касалась художественной стороны рассматриваемых произведений. Это и понятно, ведь зоилы шли от идеи, и следовательно, руководствовались догмой: если идея гнилая, то не может быть и качественной формы.
По-иному строили свои размышления над текстами молодежной прозы журнала «Юность» те критики, которые пытались поддержать его авторов. Идейных и идеологических аргументов у них было немного, поэтому они обратили свое внимание на чисто литературные явления — генеалогию образов и анализ текста. Так, Ст. Рассадин в статье «Шестидесятники» 3* (Юность, 1961, № 12), пытался проследить генетическую связь между художественными образами разных поколений советских людей в литературе (от Н. Островского до современных автору молодых людей): «Нынешние молодые прозаики — А. Кузнецов, А. Гладилин, изображая рабочую молодежь, часто избегают штампа. Их герои достойно встречают трудности, которые попадаются на пути. Ясное знание, трезвость -.вот самые характерные черты сегодняшней молодежи. Трезвость — не в смысле «антиромантическом», не холодность.
Эта трезвость, это стремление до всего дойти своим умом. Дело. всех в общем стремлении за «высокими словами» найти живой смысл, живого человека. Рассмотреть суть того кто употребляет эти ' слова.
В этом" прощупывании «реальных ценностей — настоящий реальный. пафос. й Рассадин Ст. Шестидесятники// Юность.-1961.№ 12. С.58−60.
И если хотите знать, то скептицизм. — это неизбежное качество входящего в мир юноши. Он гораздо лучше, чем равнодушие и холодность, и в конце концов даже помогает ему в поисках смысла жизни.
Как видно, все дело в том, насколько будешь полезен ты находящимся рядом людям, насколько не поддаешься тому самому слову, что всегда противопоставляется «делу» .
Лев Аннинский в критической книге «Ядро ореха» (1965) рассматривал героев прозы «четвертого поколения в контексте советской литературы, что позволяло более обобщенно взглянуть на поднимаемые в произведениях проблемы:» Как ни странно, мятущиеся эти юнцы были родными братьями ультрамолчаливых героев В. Конецкого и Ю.Семенова. В потоке споров., афоризмов, в непрерывном диспуте, составлявшем суть исповедальных повестей, своеобразно преломилось все то же стремление испытать слова на прочность, отделить реальное от нереального. ядро от шелухи" *.
В 1966 году была предпринята одна из первых попыток оценить прозу писателейшестидесятников не только с критической, но и с литературоведческой точки зрения. Такую задачу поставил перед собой И. П. Одинцов. Он сконцентрировал свое внимание на специфических ocoбeннocтяx" иcпoвeдaльнoй,', повести, из коих особо были выделены эмоциональность, острейшая проблемность, полемичность и своеобразие жанровой формы. Литературовед попытался проследить изменение, выражающееся в переходе от «книжно-романтического» периода к «полнойровно-реалистическому». В связи с этим отмечается и эволюция героя от беспомощного и растерянного до более уверенного в себе ив сво.
ЗЕ2Е их поступках.
Аннинский Л. Ядро ореха.-М., 1965. -С.87−89. (далее цитируется по даннсщу. источнику) х35См. Одинцов И. П. Повесть о молодежи в современной советской литературе и критике//Русская литература XX века. Советская литература ХУч.зап.МГПИ им. В.И.Ленина) — 1С, 1966. С. 266.
Интересное исследование прозы «шестидесятников» с чисто ли* тературоведческой точки зрения было предпринято М. Чудаковой и А. Чудаковым в статье «Современная повесть и юмор». Предметом анализа стал здесь художественный язык. Авторы, во-первых, от.
II И и II W W метили, что в противовес письменной" газетно-книжнои традиции языка. новую повесть заполнила речь устная" 55 1 (имеются в виду вульгаризмы, жаргонизмы, профессионализмы) Во-вторых, оттенили и такой факт .'" Хорошим литературным тоном стал легкий ком-прометантный оттенок повествования, постоянная авторская готовность к самопародии, цели которой неизвестны., тот спасительный современный юмор, за которым чаще всего скрывается лишь равнодушие и неглубокость (Чудакова М., Чудаков А. Современная повесть и юмор.-С.224). В третьих, акцентировано внимание на таком явлении, как ироническая интонация. «Это не пародия, — пишут авторы, — пародией высмеивают штамп с целью его отрицания (Чудакова М., Чудаков А. Современная повесть и юмор. -С.224). Но иронизируя над стандартом, добавить что-либо к нему или хотя бы както изменить его эти писатели не могут. И вот прикрывшись щитом иронической интонации, они на деле применяют все тот же штамп. «Создается своеобразное антиописание, дающее видимость чего-то нового. На самом деле. шаблоны описания леса используются для подобного же описания леса» (Чудакова М., Чудаков А. Современная повесть и юмор. -С.224). Накззнец, исследователями было замечено, что «повесть о молодом человеке, которая начиналась так интересно, теперь заметно утрачивает свое литературное значение.
Рудакова М., Чудаков А. Современная повесть и юмор. Новый мир.
— 1967.-№ 7.-С.222 (далее цитируется по этому изданию).
Очевидно, эта повесть слишком быстро вошла в берега, стала каноном. ., но каноном в первую очередь стало само болезненное острое чувство литературной традиции (дурной традиции) и шаблона (Чуда, «нова М., Чудаков А. Современная повесть и юмор. -С.229). В статье присутствует еще ряд четких и остроумных определений специфики творчества молодых (юмор, сатира, герои и т. п.), сделавших эту работу профессиональной и неординарной.
Как мне кажется, при общем рассмотрении литературной и общественной деятельности молодых писателей, группировавшихся вокруг «Юности», следует исходить из специфики общественного процесса — насколько «оттепель» была реакцией на сталинизм, настолько и полемически заостренное творчество молодых прозаиков было реакцией на лакированную прозу начала пятидесятых. Иными словами, на место нормативной, классической по духу, соцреалистической литературы ЗО-ЬО-х годов неизбежно приходим «романтизм», «романтическое мировоззрение, разрывающее устоявшиеся каноны.
Последнее произведение В. Аксенова шестидесятых годов, повесть-притча «Затоваренная бочкотара», увидела свет в один из кризисных моментов отечественной истории — ввода войск в Прагу и свержения законного правительства ЧССР (август 1968 года). (На сей счет существует красивая легенда о том, что российские солдаты, сидя на танках, читали «желтенький номер журнала «Юность* о с аксеновской «Затоваренной бочкотарой»).
Вообще без этого события, считают П. Вайль и А. Генис," 60-е растворились бы в постепенном наступлении безвременья. Эпоха осталась бы без трагического финала." Разгром «Пражской весны» стал настоящей трагедией для России.
Чехословацкие события того времени оказались слишком важным моментом нашего собственного развития — политического и идеологического .
Б Чехословакии была предпринята одна из самых глубоких попыток реформировать ту модель социализма, которую цривыкли считать «единственно верной» ., в массовом движении за реформы развернувшемся в Чехословакии, присутствовало сильное обновленческое, демократическое и социалистическое начало" *, которое выглядит весьма умеренно по сравнению с той же перестройкой.
Погром чехословацкого либерализма давал интеллигенции «повод окончательно размежеваться с Советской властью, как тогда говорили, — прозреть» ?* Фактически логщули мечты на «мирное объединение», «на конвергенцию, на государство без границ» (Байль П., Генис А. Культ личности. Прага. -С.138). Бойска в Чехословакии убивали не только политическую «оттепель» ,-но и духовную, ибо «вторжение. прекращало бурную полемику 60-х тем, что упрощало позиции спорящих сторон. Общественно-политические дискуссии завершились войной, а значит, и аргументы оценивались по законам военного времени. До вторжения интеллигенция полемизировала с правительством. После вторжения ее аргументы были бессмысленными» (Байль П., Генис А. Культ личности. Прага. -С.134 -135). Левада Ю., Ноткина Т., Шейнис Б. Секрет нестабильности самой стабильной эпохи/ Погружение в трясину.-М., 1991. -С.28−29 (далее цитируется по данному источнику) ш Байль П., Генис А. Культ личности. Прага// Искусство кино. -1990'. -№Ю. -С. 132.
В 1968;69 годах завершился «переходный период», состоялась «убиение» «оттепели». «Победители, однако, не властны были приостановить вползание страны в глубокий социальный кризис., падение международного престижа: в сознании многих Советский Союз приобретал образ «танкового коммунизма». Социальная и нравственная коррозия затронула все слои и группы общества (Левада Ю., Ноткина Г., Шейнис В. Секрет нестабильности самой стабильной эпохи. -С.29−30). Страна вползала в тягостные времена «застоя» .
Застой" - самый длинный, почти двадцатилетний период в жизни страны. Облик режима, стиль правления, способы решения проблем, да и результаты вполне определились в первые его годы. Последующие годы отнюдь не были пустыми — происходило множество событий на всех уровнях жизни от партийных и правительственных кругов до принципиальных сдвигов в общественном сознании. И сейчас следует признать, что полного уничтожения идеи «оттепели не произошло. Они периодически возникали и в партийно-государственном курсе (знаменитая «разрядка» начала-середины 70-х годов, Договоры 0CB-I и 0СВ-2, Хельсинские соглашения и пр.), и в духов ной жизни общества, и даже в бытовой. Оттепель как бы обрела новую оболочку, переселилась в другое тело. И 70-е-начало 80-х годов стали иррациональным продолжением 60-х.
Либеральные идеи и их выразители перебрались либо на кухню (что было много чаще), либо сплотились в правозащитные и диссидентские группй типа Хельсинской (что случалось горйддо реже). Кроме того, «свобода», провозглашенная в «оттепель», перешла на бытовой материальный уровень. Это выражалось в «освобождении» быта от аскетизма 30−50-х годов.
Люди захотели иметь уже не просто одежду, обувь, мебель, а вещи красивые, модные^ желательно импортные. И, с моей точки зрения, названный процесс был началом краха коммунистической системы отношений, ибо человек вдруг стал требовать не минимум комфорта, а максимум его и, наконец, не желал быть как все, старался так или иначе выделиться из толпы .
Стремительное изменение быта совграждан привело к постепенному крушению веры в «светлое коммунистическое завтра» .Многочисленные призывы и лозунги, развешанные там и сям, воспринимались как дань определенному ритуалу, как необходимое, присущее режиму заклинание, никак не связанное с реальной жизнью. Многое обыгэдвается в фольклоре (анекдотах, частушках и т. д.), активной, например, становится дегероизация и десакрализация коммунистических героев и институтов (массовое хождение анекдотов о партийных вождях от Ленина до Брежнева).
Названные процессы чутко уловили и художественно отразили Ф. Искандер («Бармен Адгур»), В. Аксенов («Ожог»), В. Внсоцкий в своих песнях, А. Вампилов («Утиная охота»), М. Розовский (пьеса «Концерт Высоцкого в НИИ»), Н. Михалков (фильм «Родня») и др. Продолжала развиваться и мода на заграницу, но, в отличие от «оттепели», главным становится опять-таки материальный момент: поездки на Запад становятся престижными и доходными, зарубежье, кроме того, рассматривается как запасной вариант исхода в крайних обстоятельствах (В середине 70-х даже в некоторых русских семьях было модно хранить израильский вызов). Зачастую активнейшими проводниками западной модели существования становятся дети номенклатурных работников (см., например, роман В. Липатова «Игорь Саввович»).
Вместе с тем, на фоне начавшегося брожения умов, в сфере офици— альной вновь укореняется одиозный классовый монополизм во всех подходах, не допускается никаких дискуссий и споров, а действительность приказано видеть светлой, жизнерадостной, оптимистичной .
Художественное творчество в таких условиях приобретает своеобразные черты. Начинается исход за рубеж либо писателей (добровольный или принудительный), либо их рукописей для дальнейшей публикации. Характерны воспоминания Ф. Искандера о 70-х:" Это было очень плохое время. Как раз там (за городом, на даче) тогда жили достойные люди, которые просто вынуждены были покидать страну. Вот такое странное состояние было: то приходили прощаться, то я опять садился за машинку" *. Показательны. здесь судьбы, к примеру, В. Некрасова и И. Бродского, А. Галича и Н.Коржавина. Те же литераторы, что остались в России, вынуждены были создавать произведения заведомо «в стол», для «внутреннего» пользования. Так случилось с «Пушкинским Домом» А. Битова, некоторыми стихот-, ворениями А. Вознесенского и Е. Евтушенко, романами и повестями Ф.Искандера., Возникает и совершенно новый культурный феномен — «подпольный бард», чьи произведения распространялись по дулегально на катушках и кассетах магнитофонов. Как Э. Хемингуэй в 60-х, так человек с гитарой в 70-х создавал идеологию жизни и поведения^. Лидером этого движения стал, безусловно, В. С. Высоцкий. Время дарит надежду. Беседа с Фазилем Искандером// Советская Абхазия.-1988.-14 октября (Цитируется по книге: Иванова На -4 талья. Смех против страха, или Фазиль Искандер. -М., 1990. -С.30).
Б общем и целом, большинство писателей-" шестидесятников" пытается в своем творчестве воспроизводить либо ностальгические j мотивы, либо создают иллюзорный мир свободы и плотского счастья.
См., например, «Остров Крым» lb. Аксенова, «О» А. Вознесенского, 10.
Ягодные места" Е. Евтушенко и др.) .
В иную фазу развития входит и йинематограф. Он становится более иносказательным и философски-сосредоточенным. Злободневность уходит на задний план, и начинается полномасштабное осмысление России и ее судьбы. Ключевыми явлениями той поры стали «Неоконченная пьеса для механического пианино» Н. Михалкова и «Сталкер» А. Тарковского^.
В первом фильме, поставленном по мотивам чеховского «Платонова», отчетливо проводилась мысль о бесполезности и бесперспек.
Л till и тивности мелочных терзании интеллигенции по поводу своего места и своей роли в общественном процессе. Чеховская критика" тео-рии малых дел" пересекалась с неприятием авторами фильма места и роли современной им интеллигенции. Вызывал определенные асоо№ циации и образ главного героя (блистательно сыгранного Ал. Калягиным), расточавшего вокруг себя желчь и сарказм, критиковавшего всех и вся, но на деле способного лишь на «мелководный» бунт и комическое падение с обрыва.
Сталкер" же — произведение совершенно иного рода. Снятый тремя годами позже (1979), он исследует моральный и нравственный климат современного общества. Герои (Писатель, Ученый, Сталкер) отправляются в сложнейший и драматичнейший цуть по Зоне, а которая выявляет сокровенные качества каждого.
Б результате такого' выяснения складывается крайне прискорбная картина — человек духовно деградировал настолько, что не решается войти в Комнату Счастья, ибо не знает, по выражению Писателя: «Какая там гадость из него вылезет», какова его истинная духовная сущность. Б своей картине А. Тарковский не делил людей по признаку «свой-чужой», он говорил о всеобщем нравственном распаде.
Сталкер" достаточно полно передавал психологическую атмосферу конца 70-х годов в нашей стране, когда у многих думающих честных людей, как и у главного героя фильма, возникало желание найти себе такую Зону без человеческой лжи, лицемерия, грязи.
Во времена, поименованные ныне эпохой застоя, меняются и музыкальные пристрастия. Джаз перестает быть чем-то диссидентским, он получает официальную прописку и постепенно вытесняется рок-музыкой. Где-то к середине 70-х начинает складываться такое явление, как молодежный андеграунд. Кирпичи в своды «подземелья» заложили и А. Градский со своими «Скоморохами», и А. Макаревич с «Машиной времени», и В. Рекшан с «Санкт-Петербургом», затем к ним подключились «Аквариум», «ЖГ», А. Башлачев, «Наутицус Пампилиус», «Кино» и многие-многие другие. По силе своего воздействия на молодежные круги названные группы и исполнители к излету застоя, пожалуй, превосходили влияние героев Ремарка, Хемингуэя, Аксенова, Гладилина, Кузнецова во времена литературного бума 60-х. Не случаен, на мой взгляд, тот факт, что ощущение близости нового времени возникает как раз в андеграундной среде. Достаточно вспомнить з’кменитую композицию В. Цоя «Мы ждем перемен» и менее памятную ныне, но имевшую большой резонанс в среде столичной молодежи песню группы «Браво» («Верю Я»).
И здесь показательно мнение Н. Коржавина:" Потребность самосознания была сильней, чем потребность сдерживать ее проявления. Время, течение жизни размывали идеологические рамки, и те, кому ведать надлежало, сами не совсем ясно представляли себе, что именно следует сдерживать (.) именно в эти годы вошла в силу «деревенская проза», так называемая проза «сороколетних», продолжали работать Фазиль Искандер, Юрий Трифонов, Анатолий Приставкин, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юлий Ким и мноV гие другие. Однако Н. Иванова в одной из работ утверждает ^'Торжество «запретительной» идеологии конца 60-хначала 80-х годов нанесло серьезный ущерб развитию литературы. Украшенные лауреатскими значками и медалями, отличиями и премиями многие произведения обнаружили сегодня свой подлинный карликовый рост" **. В другой работе этого автора подчеркивается, что такое вытеснение подлинности эрзацем было национальной катастрофой для духовной жизни общества, катастрофой, подобной Чернобылю" ''>
В.Аксенов пережил все перипетии конца 60-х-70-х годов как личную трагению. После фактического разгрома шестидесятнической литературы круга «Юности» (уехали на Запад А. Кузнецов, Г. Влади-мов, В. Бойнович, А. Гладилин) он остался одним из немногих, кому удавалось что-либо публиковать в застойные времена.
Коржавин Н. Истоки и психология исторической задержки/ Погружение в трясицу.-М., 1991. -С. 6.
Иванова Н. Смех против страхаили Фазиль Искандер.-М., 1990.-C.I9 (Далее цитируется по данному источнику).
В 1969;75 годах писатель работал над романом «Ожог», который по замыслу должен был стать и стал программным произведением.
В легальной печати в 1971;72 годах выходят романы «Любовь к электричеству» (о революционере Красине) и детские приключенческие книжки «Мой дедушка — памятник» и Сундучок, в котором 12 что-то стучит" .
В 1975 году литератор по приглашению ряда американских ВУЗов совершает турне по США, где читает лекции по современной советской литературе и писательскому мастерству. По мотивам поездки создается, как выразился сам автор, «деидеологизированное» публицистическое эссе «Круглые сутки нон-стоп» .
В 1977 году писателем окончен второй «подпольный» роман «Остров Крым». 1978;79 года становятся во многом переломными в судьбе писателя. С большими мытарствами и лишь со множеством переделок удается издать «Поиски жанра» (Это последняя легальная публикация перед эмиграцией).
В 1979 году несколько писателей и поэтов, объединившихся вокруг В. Аксенова и Вик. Ерофеева организовали самиздатовский альманах «Метрополь», который позднее будет характеризоваться писателем как последняя попытка прорыва через идеологические надолбы. Упоминавшаяся уже Наталия Иванова так комментирует произошедшие собы!"я:" Жесткие рамки идеологических стереотипов, нарастающее давление цензуры, невозможность выразить свою художественную волю на страницах печати привели. группу литераторов. к мысли создать свой независимый альманах под названием «Метрополь» ." Метрополь" - свободный от редакторского и тем более цензурного диктата, альманах, широкий по своей эстетической платформе. Это было мероприятие, намного опередившее время, за что создатели «Мет-рополя» и поплатились.
Выход альманаха был расценен как проявление преступного свободо мыслил, как нарушение принципов моноидеологического права на печать, как покушение на устои (да так оно и было)" (Иванова Н. Смех против страха. — С.33).
Власть отреагировала оперативно. Альманах «разгромили», а его создатели попали под «колпак» КГБ. В случае с Аксеновым это выразилось в активном «выталкивании» за границу.
В 1980 году, накануне московской Олимпиады, В. Аксенова выпустили в США, а 25 января 1981 года — лишили советского гражданства.
Возвращение писателя, обозначенное публикацией, упомянутой ранее, прошло малозамеченным и в читательской среде, и особенно — критической. Больший резонанс вызвал опубликованный в той же «Юности» .
1990, № 1−5) роман «Остров Крым», но резонанс этот был скорее скан.
4 дально-эпатажным (в российской литературе еще не укоренились тогда «жесткая» эротика и ненормативная лексика!, нежели связанным с литературной значимостью произведения. Вообще говоря, момент возвращения Василия Павловича в литературу своей страны нельзя назвать благоприятным. 1989;90 года — это уход «романтического» племени «шестидесятников» с общественно-политической сценыих умеренно-либеральные взгляды и принципы под напором жестких, а в чем-то и просто жестоких обстоятельств действительности оказались нежизнеспособными. Постепенно-последовательно сходили с политической сцены А. Абалкин, Л. Пияшева, Г. Попов, М. Горбачев и другие деятели с «оттепельным» мен-талитетом.
Аналогичный процесс происходил и в литературе. Лидеры 60−70-х: *Е.Евтушенко и А. Вознесенский переживали (и переживают поныне) острый творческий кризис, периодически выступая со «странными» текстами на злобу дня (Стихи А. Вознесенского о талонах, к юбилею Г. Вишневскойроман Е.Евтушенко о путче.) Практически та же судьбапостепенный отход в «тень» — постигла и Беллу Ахмадуллицу, Р. Рождественского, Ф. Искандера, А. Битова, скандально развалился «шеетидесятническнй» театр на Таганке и пр.
Во многом по названным причинам весьма холодный, сдержанный прием у читателей и критики встретила последняя крупная работа В. Аксенова «Московская сага» (Юность, 1991;92), в которой не без оснований увидели повторение тем «ранней Перестройки» .
Литературные труды писателя получили достаточно широкое критическое и литературное осмысление, особенно в шестидесятые года. Следует вспомнить главы из книг Л. Аннинского «Ядро ореха» (1965) к А. Макарова «Идущим вослед. Полемика» (1969). В этих работах авторы попытались масштабно подойти к прозе В. Аксенова, рассмотреть ее на фоне советской литературы того времени, проследить сюжетно-, образную специфику, а также проследить рост писательского мастерства. ,.
Также требует упоминания статья А. Ланщикова «Литература, мы и повести Василия Аксенова», посвященная литературным опытам писателя, в сборнике «Литература и мы» (1966). Однако нужно отметить, что анализ здесь зачастую выглядит излишне идеологизированным, хотя есть и тонкие наблвдения над текстом.
Из потока названных рецензий, которые вызвали произведения, необходимо выделить статью М. Блинковой «Саша Зеленин и его друзья» («Новый мир, № 11 за I960 год.) Несмотря на узкие рамки жанра, критику удалось умело сопоставить первую повесть В. Аксенова с произведениями А. Гяадилина («Дым в глаза») и А. Кузнецова («Продолжение легенды») и тем самым подчеркнуть творческие особенности автора «Коллег» .
Несколько особняком в «рецензионной» литературе стоит работа Ст. Рассадина «Шестеро в кузове, не считая бочкотары». В названной статье конкретное произведение («Затоваренная бочкотара») стала поводом к размышлению о тенденциях художественного развития прозы В. Аксенова в сопоставлении с традициями русской литературы (главным образом — Н. Гоголя).
Однако в массе своей в откликах и рецензиях на повести романы и рассказы писателя его темы, образы и художественные приемы рассматривались не с точки зрения их творческой ценности, но с позиции «верности идеалам коммунизма» и «принципам социализма». Таковы работы Г. Бровмана («Из критического дневника», 1962), Л. Крячко «Поистине — пора!», 1964, В. И. Воронова «Психологизм прозы», 1967) и др. В семидесятые годы возможно припомнить, пожалуй, лишь несколько удачных критических статей о прозе В.Аксенова. Из них, несомненно, выделяются опубликованные «Литературным обозрением «(1978, № 7) работы Е. Евтушенко «Необходимость чудес» и Л. Аннинского «Жанр-то найдется», исследовавшие с художественной точки зрения повесть «Поиски жанра» (1978). Оба автора попытались отделить «зерна отплевел» и дать интерпретацию произведения. Е. Евтушенко при этом более подробно останавливается на конкретных приемах и образах, а Л. Аннинского интересовал литературный контекст.
Критика последних лет, рассматривавшая «Ожог» и «Остров Крым» (например, Немзер Андрей «Странная вещь, непонятная вещь (1991), В. Малухин «Покоренье Крыма, дубль два» (1991), А. Марченко «И мерд. и омары в «Абрау-Дюрсо» '(1990), Е. Сидоров «Регтайм в стиле Аксенова» (1989) и др.), попыталась, пусть несколько поверхностно, но объективно и без идеологизаторства и апологетики рассмотреть феномен В. Аксенова с самых разных сторон и точек зрения.
Литературные труды Василия Павловича Аксенова, таким образом, нашли свой отклик в сердцах и умах разных поколений читателей, критиков, литературоведов. Пришла пора исследовать творчество художника целостно, в его эволюции, основных связях и отношениях.
Из обозначенной выше общей задачи вытекают более локальные, но не менее важные цели и направления диссертационной работы. Так, на материале «ранних» (начала-середины 60-х годов) произведений возможно проследить особенности становления творческого" Я" писателя, обозначить его «фамильные „темы, идеи и образы. На базе более зрелых писательских опытов (конца 60−70 годов) проследить развитие образных, эстетических и философских аспектов прозы художника, а также изменения и метаморфозы по отношению к „раннему“ периоду. Затем предполагается синтезировать подученные результаты и на их основе выделить основные „узлы“ в литературном движении В. Аксенова, обусловившие его „творческую эволюцию“. Творческое развитие автора будет изучаться на фоне наиболее симптоматичных фактов литературного процесса. Следует особо подчеркнуть, что „литературный процесс“ как термин воспринимается в работе как /понятие, находящееся на стыке разных областей науки о литературе“: истории, теории, методологии. С точки зрения исторической, литературный процесс есть вся совокупность фактов и явлений литературы, взятых в их хронологической поеиедовательности и преемственности. С точки зрения теоретико-методологической это закономерности литературного развития, его движущие силы и художественные тенденции» * Используя взаимодействие литературных опытов В. Аксенова с фактами литературного процесса возможно будет выявить генеалогию и парадищу его образов и дать их расширительное толкование. Осуществленный анализ позволяет предложить разверцутую периодизацию творчества художника.
Структура работы обусловлена как целями и задачами научного исследования, так и чисто хронологическим принципом. Основная часть работы делится на две главы. Первая посвящается изучению литературных опытов В. Аксенова 60-х годов, а вторая — 70-х.
Введение
заключение и обе главы снабжены подробными комментариями и экскурсами, собранными в особом разделе.
Теоретико-методологическую основу диссертации составят формально-структурные и сравнительно-исторические принципы анализа у" под угрлом определенного философско-эстетического отношения,, а также принципы исследования архитектоники художественного текста, его идейно-образных и пространственно-временных аспектов.
Предлагаемый анализ эволюции творчества В. Аксенова создает перспективы для более глубокого понимания тенденции развития русской литературы последней трети XX века.
I. .1.
Ковский В. Литературный процесс 60−70-х годов.-М., 1983. -С. 10.
Г Л, А В A I «60-Е. СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА'.
1.1.
ДЕБЮТ" .
Первые две повести Василия Аксенова:" Коллеги" и «Звездный билет», вышедшие из печати с интервалом в год (соответственно — I960 и 1961), при незатейливости и очевидной внешней прА-стоте стали мгновенно популярными.
Причины успеха обусловлены факторами самого разнообразного свойства. Прежде всего, — духовно-нравственной атмосферой советского общества тех лет (о чем говорилось во вступлении), а также вполне конкретными литературными обстоятельствами, .о которых следует сказать особо. Начнем с того, что В. Аксенова никак нельзя считать пионером в жанре так называемой «молодежной прозы шестидесятников» .
В 1956 году появляется повесть Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского». Главным героем произведения оказался молодой человек, по своим мыслям и поступкам отличавшийся от господствовавших тогда стереотипов (зачастую ведущих свое начало еще от Павки Корчагина). В изображении молодого пос коления Виктор Подгурский по окончании десятилетки вдруг ощутил себя беспомощньщ и никого не нужным.
1Я.
В ВУЗ Виктор не поступил, а работать на заводе не хотелось, Последнее можно и рассматривать как принципиально новое состояние, обозначившееся не только в жизни, но и в искусстве слова.
Доселе в типично советской литературе доминировала идея общественной необходимости. Концепция личности в искусстве социалистического реализма основывалась на выявлении исторического потенциала — соответствия человека ведущими, как они виделись партийно-государственному арпарату, тенденциям эпохи. И поэтому нежелание героя А. Гладилина подчиняться общепринятым правилам жизни вызывало по меньшей мере удивление. К тому же личные качества Виктора Подгурс ко го (рефлективность, саркастичность и т. п.) выделяли его из сплоченного строя молодых людей, верных передовым идеалам, с соответствующей психологией и поведением, бодро шагавших по страницам произведений «о молодежи и для молодежи» .
В финале автор попытался все-таки «перевоспитать» строптивца, но «укрощение» это выглядело демонстративно надуманным, неубедительным, а в отдельных ситуациях и вообще пародийным*.
Традиционнее оказался персонаж, вышедший из-род пера А. Кузнецова в повести «Продолжение легенды» (1957), «Испуганный и потерянный» мальчик Толя совершает «героический поступок» — бросает ладную московскую жизнь и едет на далекую сибирскую стройку, где излечивается от инфантилизма и становится крепким закаленным мужчиной.
По своим убеждениям и душевным качествам герой А. Кузнецова значительно ближе к существовавшей'" ' системе ценностей, чем тот же Подгурский. Более того, кузнецовский Толя активно борется против накопительства, отстаивает романтико-революционное понимание мира.
Как известно, '" Продолжение легенды" написано на автобиографическом материале, но автор в угоду сверхзадаче произведения (показать преемственность поколений советского общества) упрос— тил окружающую действительность, так что описанные события вы.
Что и не преминула заметить «бдительная» критика. См. Громов Е. В кривом зеркале парадоксов//Смена.-19бО.-№ 22.-С.11−12,Идашкин Ю. Истоки подвига//Октябрь.-1962.-№ 12.-С.185−187 и др. глядели и литературно, и в чем-то даже мифологично .'идеальный коллектив и идеальный наставник, очевидный враг. Словом, только" черное и белое" ," плохое и хорошее", «вверх-вниз» .
Б своих повестях А. Кузнецов и А. Гладилин очертили круг нравственно-мировоззренческих проблем молодого современника эпохи" оттепели" И, несомненно, что оба произведения воспринимались как манифест нового молодого поколения.
В «Коллегах» В. Аксенов пошел фактически по тоцу же пути, что авторы «Хроники.», и «Продолжения легенды», но с тактической поправкой на время. Поправка эта делесяась из-за изменений общественного сознания и, конечно, психологии молодежи, связанных, в частности, с выходом двухтомника Э. Хемингуэя (январь 1957) и р#-мана «Три товарища» Э. М. Ремарка в 1958. Писатель ощутил, что эстетика данных произведений становится эстетикой жизни если не большинства, то многих (по крайней мере, столичных) сверстников В. Аксенова, а модели поведения героев Ремарка и Хэмингуэя активно копируются. Вероятно, поэтому возникает определенная стилизация под тексты названных авторов. Вот почему вместо героев-одиночек Виктора Подгурского, Толи, Игоря Серова, возникают три главных действующих лица — трое коллег — трое товарищей^.
Уже с первых строк писатель прибегает к такетлу приему как типологизация героев. Делается это через анкетно-информационные данные*. Затем для более глубокого проникновения в психологию каждого персонажа приводятся и автохарактеристики. Наконец, возникает следоющий авторский комментарий:" У этой троицы вдумчивость Зеленина и его пылкая искренность как бы уравновешивала довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность Владьки Карпова (Аксе.
См. Аксенов Василий.Коллеги.-М., 1960 -С.5. (Далее цитируется по данному источнику) нов В. КоллегиС.5). Авторское вступление, с моей точки зрения, введено ради последнего абзаца, повествующего о теснейшем взаимодействии героев. Можно даже утверждать, что три персонажа создают фактически единый и неделимый образ, сочетающий в себе ци.
15 низм, гедонизм и идеализм". Ко всему прочеьу фрагментарно де лается попытка подчеркнуть «единство» их сознания: «И сейчас, весной 1956 года, они идут против ветра и думают все об одном» (Аксенов В. Коллеги.-С.5). Такое «растроение» главного действующего лица, несомненно, имело новационный характер для советской прозы тех лет и давало возможность выйти в художественном осмыслении.
Т, А поведения и сознания молодежи эпохи «оттепели» на новые уровни .
Если же означенную триединую структуру рассматривать с чисто литературной точки зрения, то образы, ее составляющие, могут быть охарактеризованы так. Типаж А.Зеленина своими истоками восходит к молодым героям советской прозы 30−50-х годов. Фигура В. Максимова сложнее. В ней сочетается чальд-гарольдовское мрачно-романтическое начало и восторженное советско-комсомольское, а ироничность и саркастичность здесь определяется стилизацией под героев ©-.Хемингуэя и Э. М. Ремарка. Труднее всего что-либо сказать о Владиславе Карпове. Он лишь своеобразная тень живого характера. Тот самый типаж, нужный лишь для того, чтобы персонажей было трое.
Итак, каждый из коллег, по мысли автора, должен обладать своей специфической чертой. Фактически лишь два героя обладают конкретно-психологическими качествами, которые писатель последо.
17 вательно подтверждает всей книгой. Показателен в этом смысле разговор накануне распределения, предваряющий дальнейшие испытания жизненных принципов каждого Зеленин здесь отстаивает романтическое восприятие жизни, Карпова интересуют, только девочки.* Однако наиболее любопытна—" точка зрения Алексея Максимова. Он свое кредо определяет так:" Я хочу жить взволнованно! Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Надо быть честным. Пускай. поют нам о высоком призвании, о патриотическом долге, пускай Чивилихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре". (Аксенов В. Коллеги.-С.6). Суждение примечательно двойственностью своего, пафоса: начальные фразы выдержаны в приподнято-романтическом духе, итоговые сентенции исполнены сарказма в отношении такой демонстративной романтики^. Неоднозначен и в то.
20 же время примечателен еще один монолог героя. В ''откровениях 21.
Максимова угадываются противоречия, присущие не столько конкретной личности, сколько целому поколению, а если — шире, то целой эпохе. Позиция Зеленина тоже понятна: он апологетизирует пафос времени, пафос коммунистического созидания.
Распределение разбрасывает друзей по России. А. Зеленин едет в глухомань в поэтическим названием Круглогорье, а Карпов и Максимов остаются в Ленинграде. С этого момента автор повести начинает испытывать Александра и Алексея, их программные установки на жизнеспособность.
Следует сказать, что по сходной же схеме выстраивается и фагбула вышедшего год спустя" Звездного билета" .
Более подробно, см. Аксенов В. Коллеги. -С.6.
Однако при общей похожести были, безусловно, важные детали, отличающие одцу повесть от другой. Б. Аксенов так говорил.
22 об истоках «Звездного билета»: «Я написал эту книгу потому, что меня стала удивлять молодежьидущая за нами» 55 Объектом изображения становятся «те, кого в зарубежной литературе окрестят «тинейджерами/, — представители в полном смысле поколения послевоенного» , — напишет о героях повести критика (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С.688). На мой взгляд, с современной точки зрения, главное, однако, в том, что поколение, изображенное в «Билете», «в полном смысле» постсталинское. Надо иметь в виду особенности психологии такого индивида. Отечественные тинэйджеры начала шестидесятых уже со школьной скамьи воспитывались на отрицании «культа личности», и. в этом крылось их коренное отличие от всех других возрастных групп, в том числе — и представленных в «Коллегах» (т.е.поколения самого автора). Таким образом, в индивида на сознательном и подсознательном уровнях закладывалось нигилистическое начало. А далее происходил парадокс. Место отвергаемых стереотипов и догм занимали новые, как две капли воды похожие на старые. Их, в силу явной похожести, «нигилистический» менталитет юношей воспринять уже не мог. Вслед за этим постепенно стало происходить отрицание и других основ существующего порядка.
В итоге молодой человек оказался без устоявшихся жизненных целей. Единственным ориентиром существования становилось отрицание, возведенное в абсолют, отрицание ради отрицания" .
См. в работе: Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова/ Макаров А. Идущим вослед. Полемика.-М.1969. С. 688.
Кроме социологического аспекта, отметим и психологический. «Нигилистичность» — синдром подросткового возраста, но в описываемый автором временной отрезок этот синдром стал общественной тенденцией.
Б повести «Звездный билет» Б. Аксенов исследует натуру Димки Денисова, молодого человека, настроенного нигилистически.Ина.
23 че говоря, одним из главных действующих лиц становится антигерой, со всеми вытекающими отсюда психологическими и идеологическими свойствами личности. Естественно, что и сюжетно-образная система, предложенная автором, должна была соответствовать познанию этого «антигероя». Начало повести построено на антитезе, заявленной уже с первых страниц:" Я человек лояльный. Когда вижу красный сигнал «стойте», стою. Иду только, когда вижу зеленый сигнал «идите». Другое дело — мой младший брат. Димка бежит туда, куда ему хочется бежать (подчеркнуто мной — Д.Х.). Он не замечает никаких сигналов*. Эта выделенность из общего ряда подчеркнута во внешнем (прозападническом) облике героя^. Но вот, наконец, автор приходит к самому крамольному выводу о внутренних причинах «нетрадиционного» поведения Денисова-младшего: «Димка не доволен жизнью (Аксенов В. Зведный билет.-№б.-С.10). Правда, тут же добавляет: «Бот злится, что мать гоняет его за покупками» (Аксенов Б.
Звездный билет.-№б.С.10). Но этот комментарий практически только.
25 нагляднее позволяет осознать основу идеологии Димки. Ее базис таким образом, зиждется на отрицании любого давления извне. И тогда получается, что «злится» он из-за локального давления (какого-то конкретного лица), а жизнью недоволен по той причине, что находится под постоянным прессом системыуказывающей, «как жить.
Аксенов Василий. Звездный билет//Юность.-1961. -№б. -С.З (Далее цитируется по данному изданию) и что делать на свете" (Несомненно, свою значительцую роль играет та самая подростковая психология, о которой мы уже упоминали). Отсюда — два вывода: первый — Денисов/младший подспудно стремится к нерегулируемому извне существованию, что в свою очередь свидетельствует о стихийном чувстве свободы. Второй — основным конфликтом повести становится противостояние Димки Денисова и окружающей жизни. Это возрастное тяготение обыденностью начала 60-х стало восприниматься с явным привкусом социальной неудовлетворенности реальностью, поэтому можно говорить о том, что писатель угадал тенденции общественного развития.
В.Аксенов осознавал, что «один в поле не воин» (Это иллюстрировал и роман А. Гладилина «Дым в глаза») и что «антигерою» нужна как минимум поддержка. В помощь Димке создаются — по апробированной уже в «Коллегах» модели — герои-типажи ^'сценарист-авангардист" Алик Крамер (сколок-пародия с абстракциониста Фомы в «Коллегах»), экс-баскетболист Юрка Попов (во многом он подобен Владиславу Карпову — активного участия в идеологических спорах не принимает), наконец, Галина Бодрова.
Повествование ведется от лица старшего брата''. Это очень важно, ибо при оценке тех или иных событий и в «Звездном билете», и в «Коллегах» В. Аксенов идет от себя, от своего поколения. Как уже отмечалось, писатель чувствовал, что идущие следом — иные. И это различие двух поколений его не могло не заинтересовать. Писатель обращает, например, внимание на дисконтакт между двумя ближайшими поколениями. И анализ причин разобщения ближайших возрастных кланов занимает в книге очень важное место. Непонимание объясняется тем, что формировались они в разные эпохи.
Жизнь идет, и трубы сейчас звучат несколько иначе, чем одиннадцать лет назад" (Аксенов В. Звездный билет.-№ 6. -С.7.). Многие непоколебимые для двадцативосьмилетних принципы для юниоров «звучат» по-другому и вызывают не более, чем раздражение и усмешку.
Старший брат Димки, Виктор (как, вероятно, и сам автор). симпатизирует поколению, живущему «без сигналов» и «поверх барьеров»: «Я горжусь (выделено мной — Д.Х.) своим младшим.
24 братом", заявляет рассказчик (Аксенов В. Звездный билет.-№б. -С.10). Такая позиция проистекает из понимания, что младшие потенциально куда более свободны, чем старшее поколение. Особенно подкупает в «тинейджерах» естественность и раскованность:" А как все-таки здорово!., вот возникает какой-то подымающий ритм и. наш жалкий садик поднимается вверх. Девушка и юноша танцуют. Ребята танцуют, и ничего им больше не надо сейчас (выделено мной — Д.Х.). Танцуйте, пока вам семнадцать. Не бойтесь ничего, все рс 7 это ваше — весь мир (Аксенов В. Звездный билет.-№б.-С.10). Несомненно, что в подобном стихийном порыве души, по мнению автора, и заключается настоящая живая жизнь.
Следует подчеркнуть, что в то время многие представители аксеновокого поколения связывали надежды на коренные изменения в обществе именно с теми, кому в начале шестидесятых было 17−20 лет.
Мало-помалу среди юношей зреет настоящий бумт. Димке, Юрке,.
Алику и Галке тесно в маленьком дворике среди обывателей — сосе.
26 де, й и столь же «практично» настроенных родителей .
В такой обстановке и рождается у Димки безумная идея: «Сбежим. уедем и все. Хватит с нас! Мы хотим жить по-своему. черт с ними, со всеми этими планами !» (Аксенов В. Звездный билет.-№ 6. -C.I2). С этого эпизода в соответствии со своим замыслом автор оо разводит двух братьев (читай — два поколения), заставляя их проверить свои принципы жизнью и дойти до Истины самостоятельно. Данный фабульный прием, как уже отмечалось, был положен в основу и первой повести В.Аксенова. Но там сопоставление жизненных установок рассматривалось на примере одного поколения. В «Звездном билете» объектом сравнения становятся взгляды и поведенческая практика представителей разных, в возрастном плане, социальных групп. Но при определенном изменении авторскойзадачи средства ее художественного воплощения остались теми же, что и в дебютной повести. Сходство между повестями не ограничиваются только фабулой и мотивами начальных глав, но и всем развитием последующие событий. Например, в «Коллегах» дальнейшее действие пос троено так, что каждый жизненный поворот подтверждает правоту Зе.
29 ленина, а не Максимова. То же ив «Звездном билете» Очень скоро" выясняется: Димка и его товарищи не могут существовать в ус.
30 ловияж свободного естественного пространства, куда они бегут. Оно отторгает их. Соответственно рассыпается в прах и «новый» жизненный уклад.
Причина поражения «звездных мальчиков «с высоты сегодняшнего понимания, чрезвычайно проста. Их мировоззрение, как говорилось, строится на «базаровском» отрицании всего и вся. Они же вдруг попадают в такую среду, где отрицать нечего, надо уметь созидать, а этомуо они не научились.
Иными словами, представленное писателем поле деятельности для Димки и К0 оказывается нереализованным. Одной стихийной свободы мало, надо уметь наполнить ее смыслом.
По этой же причине неудачи преследуют и Максимова. Только в тех случаях, когда он отклоняется от своей циничной маски, от маски «нигилиста», он добивается успеха (например, в заочном споре с Петей Столбовым или в «деле о мучном клеще»). А вот у Виктора Денисова и Александра Зеленина с созиданием все в порядке. Они добиваются некоей «золотой середины» между существующими крайностями (восхваления и отрицания), которая и создает базис для их саморазвития. Зеленин преодолевает скуку, страх, робость, а В. Денисов отказывает себе в желании стать «прибором». Затем, не без влияния младшего брата, устраняет внутренние сдерживающие «сигналы» и страхи", но делает это осознанно, так что «порыв свободы» не уничтожает всего мировоззренческого комплекса.
Кроме рациональных основ существования, В. Аксенов проверяет и чувства героев. И тут уже все не так однозначно. Скороспелый счастливый роман Инны и Саши выглядит упрощенно-сусальным, тогда как взаимоотношения Веры и Алексея не могут не привлечь внимания.
Можно с уверенностью сказать, что страницы55, посвященные этой ис.
31 тории:., любви, наиболее поэтичны. Важнейшим в эпизодах, посвященных любовным чувствам, становится ощущение прозрачной лирической близости между людьми. Во второй повести писатель также обращается к описанию «ь?ук любовных». Но по сравнению с «Коллегами» они либо неоправданно затянуты и слишком -'усложнены, либо излишне сен. тиментальны, либо выглядят вторичными по отношению к тем же «Коллегам .
См., например, сцену на пляже, где Димка впервые смотрит на Галю влюбленными глазами (Аксенов В Звездный билет.-F7.-С.25−26).
Примечательно, что именно при разработке чувственных мотивов литератор наиболее склонен к литературным экспериментам и не.
ЗТ традиционным подходам .
Вообще говоря, еще ряд художественных приемов перекочевал из «Коллег» в «Звездный билет». В обоих произведениях сильно пародийное начало, особенно же в «Звездном билете», где оно.
34 внешне направлено на богемный литературно-киношный мир. Пародийна и авторская оценка выведенных тинейджеров'. Так, рассуждая .об их поступках и поведении, кинодраматург Иванов-Петров ос одна фамилия чего стоит!) замечает: «Понимаешь, в общем-то все это просто смешно. Смешно и очень любопытно. В общем-то, это просто здорово, что ходите вы сейчас везде, смешные мальчики. Очень я рад, что вы ходите повсюду и выдумываете разные штучки. (Аксенов В Звездный билет.-11^.-С. 40). Смысл рассуждений несомненно в том, что замечательна сама по себе попытка бытьяеконформистом, но до пародийности смешно то, что из этой получилось.
Главы перевоспитания" наполнены как скрытой, так и явной пародией. Многие моменты «благотворной переделки личности» реа-лизуются по заранее подготовленным схемам, которые были распространены в «лояльной» литературе. Но живое наполнение этих схем было нетрадиционным. Отсюда возникало едва ли не абсурдное несо^ ответствие формы и содержания. «Слабость» изображенной перековки быстро нащупала и критика. «Автор сделал все, чтобы мнение взрослого читателя стало. благоприятным. Для этого он прибег к наивному рецепту — направил героев в колхоз, где их психология быстро-быстро начала перестраиваться, и Димки Денисов начал уразумевать, что он «до сих пор не выработал себе жизненной программы» , — писал, А. Макаров (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С, 663). А Л. Аннинский в «Ядре ореха» проводил мысль о том, что перековка личности Д. Денисова в повести фальшива и фальшь эта заключается в профанировании самой личности* (Аннинский JI. Ядро ореха.-С.98−99).
Однако во всей этой полемике вокруг «перековки» личности Димки Денисова было нечто парадоксальное, нечто от1 литературной игры. Суть парадокса заключалась в том, что В. Аксенов создал пародию на перевоспитание, а ктирики, в том числе и такие проницательные, как А. Макаров и Л. Аннинский, судили писателя всерьез по канонам того времени — канонам, которые сам В. Аксенов уже едва ли принимал. Иными словами, В. Аксенов поступил как представитель соц-арта, использовав в качестве самоценного художественного явления заведомую пародию на стереотип. Критика же пыталась анализировать этот феномен с точки зрения пара-дрруемых стереотипов.
Можно обратить внимание на перекличку и более частных художественных приемов. Писатель в обоих произведениях создает образы «двойников» главным действующим лицам. В «Коллегах» у Максимова -" двойник" Петя Столбов, а в «Звездном билете» у Димки Денисова — Петя Фрам. Оба «двойника» обладают сходным пороком — страстью к накопительству, стяжательству, нечестной жизни. — Цель введения этих образов очевидна — подчеркнуть отличие Максимова и Денисова, пуеть циников и нигилистов, но людей с #АИ1ИМ мировоззрением от Столбова и Фрама с «их» частнособственнической, НЕ НАШЕЙ психологией .
К каким же итогам подводит В. Аксенов своих героев? В финале «Коллег» выясняется прелюбопытнейшая вещь: Максимов и Зеленин столь разноречиво высказывавшиеся о жизни, вдруг обретают единое ее понимание. Точнее всего эту нехитрую формулу выражает Зеленин:" Я понял, что всегда буду жить среди людей и для людей" (Аксенов В. «Коллеги-.-С.184). Такой итог «дискуссии» может показаться надуманным. Очшсти это так и есть. Но если принять во внимание авторский прием, тот самый «триединый образ», то все выглядит более или менее логично, добавим, что в рассматри.
35 ваемом фрагменте заложена изрядная доля сарказма, направленная прежде всего против тех, кто видел и изображал. молодежь в: духе представлений шолоховского Макара Нагульнова («Все будут личиками приятно смуглявые и все одинаковые»)55.
Несколько иначе построен финал в «Звездном билете». Здесь нет пафоса, есть размышления и полутона. Писателю необходимоос. было. утвердить право «звездного» поколения" на бугдецее И в этих целях он прибегает к откровенному авторскому произволу и 4 различного рода декларациям. Димка Денисов, например, по воле писателя поднимается сразу едва ли не до уровня сознания Виктора Денисова:" Так или иначе ЭТО ТЕПЕРЬ МОЙ ЗВЕЗДЫЙ БИЛЕТ! Знал Виктор про это или нет, но он оставил его мне" (Аксенов В. Звездный билет.-№ 7.-С.42). Справедливости ради отметим, что литератор ощутил перегиб в таком подходе и добавил к вышеприведенному утверждению изрядную долю сомнения: «Но куда?» Получается так, что Димка лишь вышел «на дорогу, вымощенную желтым кирпичом», и еще вопрос, сможет ли он осилить ее.
Шолохов М. А. Поднятая целина//Собр.соч. в 8 томахт1981.Т.5. -С.121.
В итоге произведение завершается как повесть без героя, ибо «старший брат» погиб, а младщий еще только начал формироваться как мыслящая личность. И если «Коллегами» В. Аксенов дал ответ на вопрос, кто является «героем своего времени», то в «Звездном билете» исследуется скрытая до времени потенция другого поколения. Смогут ли они стать лидерами своего времени, это вопрос. И вопрос поца без ответа.
И вот тут внезапно возникает еще один центральный образЗвездный билет как самостоятельное метафизическое явление. Он обозначает время, пространство, движение. Иными словами, получается интересная формула: «жизнь и мнения (т.е. движение^ братьев Денисовых на фоне времени». Эта форь^ула прошла проверку в первом произведении, но не была столь явной. Здесь же писатель эксплицирует ее. История и личные усилия людей, по мнению автора, должны расставить все по местам.
Авторские размышления о путях духовного роста не могли не коснуться извечного конфликта поколений (старшего и младшего, «отцов» и «детей»), тем более, что любая нестабильная, переходная эпоха (а «оттепель» ей и была) ставит названную проблему со всей остротой. В «Коллегах» проблема представлена достаточно линейно и упрощенно. Литератор сталкивает представителей только двухп поколений — отцов и детей.
• На первый взгляд кажется, что жизненные позиции отцош и детей принципиально различны. Однако дальше писатель медленно, но верно сближает позиции. Так, по выражению А. Макарова, старшее поколению отводится «почетная роль — разумно направлять и поправлять* посетили Максимова упадочные настроения — и на две лопатки уложил его старик Дампферпонадобилось Саше Зеленину реально представить, что такое коммунизм, и Сергей Самсонович Егоров тут же и разъясняет все конкретно .
Б совместной работе происходит сближение и устанавливается понимание между поколениями бойцов и мнимых «шаркунов» (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.^С.655).
Аксенов словно бы постоянно подчеркивает, что конфликт на Невском не более чем недоразумение, минутное недопонимание. И как подтверждение, звучат мысли Саши Зеленина:" Их военное покоа ление как-будто каждого проверяли на прочность щипцами, протаскивали сквозь огонь., совали раскаленных в холодцую воду. Наше поколение. Тимоша, Виктор. Разве с первого взгляда не видно их силы. А мы, городские парни, настроенные чуть иронично ко всему на свете, которые корчат из себя черт знает что, но не ловчим, не’влезаем в доверие, не подличаем, не паразитируем, и, пугаясь еысоких: слов, стараемся сохранить в чистоте свои души, мы способны на что-нибудь подобное? Да, способны!" (Аксенов В. Коллеги.С.82−83) В завершение обратим внимание на весьма симптоматичное высказывание одного из repoei, наиболее отчетливо.
37 выражающее психологию эпохи во всем ее противоречии: пМы идет. в лобовой атаке (выделено мной — Д.Х., т. е. атаке, приносящей наибольшие жертвы) вот уже сорок лет. Мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что у нас внутри поднимается временами. Уныние, неверие, цинизм — это тоже. из того мира’ЧАксенов В. Коллеги.С.204).
Куда сложнее и разностороннее представлен конфликт поколений в «Звездном билете» (хотя критика 60-х настаивала на том, что проблема изображена крайне неглубоко*). х0б этом более подробно см. Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова. -С.674−704.Аннинский Л. Ядро ореха.-С.91−100,Бровман Г. Из критичесаого дневника//Москва.-1962.№ 1.—С.196−199.
Б.Аксенов во второй повести ушел от лобового столкновения поколений и многие моменты взаимоотношений либо «растворил» в других проблемах, либо дал в опосредованной форме. Причиной дисконтакта между родителями и младшими детьми автор считает разницу в психологии. Родители живут идеалами и образами прошедшей эпохи. Они хотят дать своим детям прежде всего специальность, которая поногла бы им «выжить» С. мой дед и тот гудит день денской. Сначала приобрести солидную специальность, а потом пробуй свои силы в литературе" (Аксенов Б. Звездный билет.-№б.-С. 10). «Тинэйджеры» же хотят, в первую очередь, заниматься тем, что им нравится, то есть хотят жить. Затем В. Аксенов отмечает еще одну причину некоммуникабельности. Семья не воспитывает своих детей. Их развитием занимались все, кроме собственных родителей. Естественно, что при таком подходе взаимопонимание между поколениями исключительно затруднено.
С чем же связывает писатель выход из «кризифса» поколений? Фактически с тем же," о чем шла речь в «Коллегах» , — с желанием понимать другого и быть понятым другим (Другим как из своего поколения, так и из среды «старших и „младших“). Наиболее четко это формулирует шеф Виктора Денисова:» Четыре года назад я омотрел на тебя и тебе подобных со смутным чувством. Я не понимал вас. Чего они хотят? Только гаерничать и во всем сомневаться? Теперь я, кажется, вину, чего вы хотите. В общем, того же, что и я «(Аксенов В. Звездный билет.-№ 7.-С.45).
Вместе с тем данная проблема имеет в «Звездном билете» и дополнительное звучание. В. Аксенов подчеркивает важнейшую роль своего поколения (Денисова-старшего, Игоря Баулина). Оно видится ему своеобразным-звеном, своеобразным «дешифратором» между младшими" и «старшими». Достаточно вспомнить, что поступок Димки и К0 на язык «отцов» переводит именно Виктор:" Товарищи родители. не волнуйтесь. Делать нечего и ничего не надо делать. Ребята захотели сразу стать большими. Пусть попробуют." (Аксенов В. Звездный билет.-№ 1.-С.120). И не случайно, что первым наставником, воздействие которого спокойно воспринимает Димка, становится Игорь Баулян и т. д.
В финале произведения писатель приводит Димку к осознанию, что необходимо наладить отношения со. старшими. Об этом свидетельствуют и посещения уже разрушенного родного гнезда — «Барселоны» («любовь к родному пепелищу»), да и принятие самого «звездного билета». Задача взрослых — понять и откликнуться на призыв к согласию. В. Аксенов не покривил, однако, душой и в концовке выставил вопросительный, а не восклицательный знак. Ибо «правда» жизни была такова, что о реальном согласии не моглобыть и речи.
Обратим теперь внимание на перекличку повестей В. Аксенова с произведениями русской классической литературы XIX века. С моей точки зрения, возможно говорить об адаптации сюжетных ходов «Отцов и детей» И. С. Тургенева к новым историческим обстоятельствам. Иными словами, перед нами повествование о нигилисте середины XX в. На это есть намеки самого различного свойства. Так," путешествие Денисова-младшего происходит по кругу, здесь испытыва-ются его принципы, здесь он терпит полное поражение, да и само коренное изменение жизненных принципов Димки означает духовную смерть героя (в отличие от базаровской, она не подтверждена физической).
Есть переклички и текстового характера. Если сравнить заявление героев «Звездного билета» о том, что «нет любви, а есть удовлетворение половой потребности» (Аксенов В. Звездный билетС.22), с таким мнением Базарова: «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения» 35, то общность позиций становится очевидной.
Писатель активно использует ж те повествовательные приемы, которые связаны с творчеством А.Чехова. Прежде всего — скрытую и явную иронию, сарказм, затем такие пейзажные зарисовки, которые умышленно ослабляют действие и заостряют внимание на конкретном психологическом состоянии человека. НаО (кнец, завершается повествование вопросом в той же манере, что и знаменитый «Дом с мезонином.» .
В самом начале разговора о дебютных повестях анализировался литературный фон, на котором возникли «Коллеги». Теперь стоит отметить ряд перекличек «Коллег» и «Зззездного балета» с современными им явлениями западной словесности.
Например, просматривается ориентация повести на литературу «разгневанных». «Разгневанные молодые леди» ворвались в чопорную английскую литературу в 1950;е годы. «Романы Кингсли Эмиса, Джона Уэйна, Джона Брейна, пьесы Джона Осборна. связывает единое умонастроение — гневное неприятие конформизма. „Сердитые“ тяготеют к комико-сатпрической интерпретации действительности, а потому часто выбирают сходные средства изображения» 3®
Тургенев И. С. Отцы и дети/ПСС.-М., 1981.-Т.5.-С.34 ХЗЕ2луктенко Н. Ю. Бунт внутри традиции.-Киев, 1977.-С. 18 (Далее цитируется по этому изданию). а также темы и объекты такого изображения, добавим мы.
Появление «разгневанных» в Англии (начало движения связано с появлением пьесы Дж. Осборна «Оглянись во гневе» произошло в результате того, что «общедемократический подъем, охвативший различные слои англичан в годы борьбы с фашизмом и порожденные им надежды на социальные преобразования. сменились разочарованием и спадом общественной активности» (Жлук-тенксЩрО.Бунт внутри традиции .-С .23).
Причины возникновения «рассерженных» мальчиков у нас мы уже анализировали, поэтому с полным основанием можем констатировать известную общность, которая заключается в некоем «всеобщем» разочаровании. С той лишь разницей, что европейская и американская молодежь разочаровалась в возможности построить гармоничное, внесословное общество, а «наши» стали испытывать разочарование в прежних общественных идеалах. Б повести В. Аксенова так же, как и в произведениях разгневанных «смешивалось значительное и мелкое, скептицизм граничил с мизантропией, а эгоцентризм и неверие в то, что мир можно изменить, неприятно диссонансировали с молодым гневом и энергией» (Жлук-тенко Н. Ю. Бунтр внутри традиции.-С.26). 4.
И, наконец, еще очень важный момент. «Сердитые писатели Англии первыми заговорили о серьезных изменениях в сознании части западной молодежи» (Жлуктенко Н. Ю. Бунт внутри традиции. -С.26). Отталкиваясь от этого тезиса, можно четко сформулировать, что молодые писатели «круга В. Аксенова и А. Гладили-на первыми отметили крутой перелом в мировоззрении значительной части молодежи. Таковы некоторые основополагающие идейные моменты, связывающие творчество «разгневанных» с творчеством.
Василия Аксенова.
Обратимся теперь к кругу явлений и специфике их изображения, характерных дак для первых, так и для вторых. Наиболее ' показательна в этом плане, с моей точки зрения, пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе». Вот как Джимми Портер обличает старшее поколение:" Он (Мистер Пристли) похож на ее (Элисон^ папашу, который из своей комфортабельной пустыни, не ведающей избирательных прав, вперял такой же умиротворенный взор во времена былого благоденствия*. Еще более груб и жесток Портер к преуспевающему старшему брату своей жены. «Ты бы послушал, сколько патентованных банальностей изрекали его уста. Его представления о жизни и обыкновенном человеке настолько неопределенны, что он. заслуживает особых знаков отличия, вроде медали «За тупость» (Осборн Д. «Оглянись во гневе. -С.17).Несомненно, что улавливаются общие черты «разгневанных» и «звез дных мальчиков в оценке старших поколений. оо.
Однако при всем сходстве идейного и художественного начала следует видеть и существенную разницу между форнально-со-держательной системой «Билета» и сходными системами в произведениях «разгневанных». Главное различие — в тоне звучания протеста и резкости суждений. Под огонь английских «разгневанных» попадает весь окружающий мир: от статьи в газете до британской королевы. Каждому факту находится уничтожающая характеристика. Одним словом, для европейских авторов нет закрытых тем, нет авторитетов, а тон их высказываний резок и безапелляционен. Осборн Джон. Оглянись во гневе./Осборн Джон. Пьесы.-М., 1978.
— С.12 (Далее цитируется по данному источнику).
Естественно, что в Союзе все выглядело иначе. «Звездные мальчики» (совместно с автором) могли посмеиваться (даже не смеяться)' над отдельными сторонами жизни общества (причем не самыми существенными), а в некоторых случаях возможно было лишь намекнуть на то или иное явление. Следовательно, на фоне «настоящих гневливых молодых людей» наши выглядят не более' чем ерниками.(Вообще можно сказать, что разница между героями Осборна, Эллиса, Уэйна и действующими лицами «Звездного билета» такая же, как между демократией западного образца и «демократизацией» в «Оттепель» .
Очень странные, я бы сказал, отношения возникают между исследуемой повестью и романом Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во 39 ржи». Если бы не многочисленные заявления В. Аксенова о том, что он не читал этого произведения до издания «Звездного билета», то писатели можно было бы упрекнуть едва ли не в эпигонстве. Для этого достаточно сравнить хотя бы сюжетную канву романа и.повести. >
В американском романе главный герой, Колден Холфилд покида^ ет осточертевшее ему из-за всеобщего ханжества и лицемерия учебное заведение (ко всему прочему, его оттуда выгоняют за академическую неуспеваемость). Он отправляется в путешествие по Нью-Йорку, где встречается с разными людьми, и с ним происходит несколько приключений и «страшное происшествие», он хочет убежать из города, но попытка завершается бесславно.
Не надо влезать в дебри мотивационно-сюжетного анализа «Звездного билета», чтобы определить: в повести изменены лишь некоторые неосновные элементы действия, да американские реалии заменены русскими. Обращает внимание и сходство в языковой манере (оба автора часто используют молодежный жаргон), а также в некоторых случаях южно отметить и текстовую солидар
40 ность в разработке того или иного эпизода. В принципе та кое сходство могли обусловить аналогичные процессы в' общест.
41 венно-духовной жизни социума .
Безусловно, в произведениях наблюдаются и достаточно существенные различия, но они определяются менталитетом конкретного общества.
Рассуждая о литературных связях «исповедальных» повестей В. Аксенова, невозможно не всжомнить об «исповедальной» литературе Западной Германии конца 50−60-х годов. И здесь, несомненно, выделяются романы Г. Белля «Бильярд в половине десятого», 3. Ленца «Урок немецкого», М. фон дер Грюна «Два письма Поспи-шилу «. Сходство в постановке проблем, их зцучании, трактовке событий наводит на мысль о том, что «исповедальность» как явление возникает (по крайней мере, во второй половине XX века) в «переходные» эпохи, в момент отказа от тоталитарного прошлого и обращения к демократическим ценностям. В названных выше произведениях без труда отыскиваются темы, характерные и для первых повестей В.Аксенова.
Так, у 3. Ленца и М. фон дер Грюна (чьи романы по форме наиболее сопоставимы с" Коллегами" и «Звездным билетом») главным Объектом осмысления становится долг человека перед самим собой и перед обществом. Автор «Урока немецкого», по мнению одного из критиков, настаивает, что «долг.есть. личное дело человека.
Ничто не может заставить его что-то принять в качестве своего долга, если он сам этого не примет. И именно поэтому долг и не может быть ни при каких условиях и ни при каком содержании инстанцией, способной снять с человека ответственность за весь «полный объем совершенного во имя его» 55. Бот почему так осуждается ретивый служака Йене Оле Йепсен и вот почему оправдываются все дела и поступки сначала подростка, а затем и юноши Зигги Иепсена. Нетрудно вспомнить, что похожее понимание чувства долга присутствует и в дебютных произведениях Б. Аксенова (достаточно обратить внимание на мысли Зеленина и монологи Максимова). Общим в позиции Зигфрида Ленца и создателя «Коллег» является и то, что они «художественно доказывают безусловную общезначимость гуманистических критериев жизненной ориентации человека в мире» (Виноградова И. Ругбюльские уроки Зигги Йепсена.-С.471).
М. фон дер Грюн творчески исследует несколько иной аспект — способность личности исполнить свой человеческий долг, долг перед:' прошлым, перед памятью своих близких. Герой Грю-на — Пауль Поспишил, живущий размеренной жизнью немецкого бюргера, где самым волцующим событием становятся непредвиденные финансовые расходы, вдруг получает письмо от матери, в котором сообщается, что она нашла человека, отправившего в концлагерь отца Пауля. В принципе для Пауля удобнее проигнорировать письмо, но несколько страничек рукописного текста.
Виноградова И. БУгбольские уроки Зигги Йепсена/ Ленц Зигфрид. Урок немецкого. -М., 1971. -С.469−470. (далее цитируется по данному источнику) заставляют его задуматься и принять «странное», по бюргерским меркам, решение — пренебрегая мнением начальства, оставить работу и отправиться на поиски ТОГО человека. Поспишил отчетливо не понимает, зачем ему это надо, какие претензии он будет предъявлять своему «врагу», как их доказывать. Однако для Ленца важнее моральный, а не юридический аспект. Его герой отказывается быть социальным автоматом, не хочет ограничивать себя лишь сытой, комфортной жизнью. Аналогичная ситуация возникает и в. «Звездном билете» у В. Аксенова, когда Денисов-старший избавляется от желания стать простым «прибором в системе», потакать мнениям конъюнктурщиков от науки. «Бунты» Виктора Денисова и Пауля Поспишила сходны в 'своей нравственной основе и вытекают из стремления поступить по совести и чести.
Сложнее взаимоотношение между первыми аксеновскими книгами и романом Г. Белля «Бильярд в половине д§ сятого» (Хотя сам создатель «Коллег» и «Звездного билета» неоднократно говорил о влиянии на свое творчество этого немецкого автора*). Роман Белля несравненно более глубоко и открыто исследует традиционные язвы германского общества. Однако родство ранних произведений В. Аксенова с книгой Г. Белля вытекает из самого принципа исйоведальности, положенного в основу их создания.-Оба писателя, хотя и с разной степенью успеха, пытаются осмыслить, в каком состоянии находится современный им социум, как влияет на его формирование прошлое, что его ждет в будущем. например Аксенов Василий. Молодые о себе//Вопросы литературы.—19 €?.-Ш.-С.II7-II8 (Далее цитируется по этому источнику).
И Б. Аксенов, и Г. Белль уверены, что только отказ от безнравственности прежней эпохи (свидетельством чему у автора «Бильярда.» являются выброшенные старым Феммелем ордена, умышленно сделанный Робертом ошибочным военный заказ, отказ Иозефа Феммеля (сына Роберта) стать архитектором и т. п.) может оставить надежды на лучшие грядущие времена.
Нетрудно найти еще ряд мотивов, присущих творчеству В. Аксенова и современным ему романом немецких писателей: это и конфликт поколений (наиболее ярко возникает в «Бильярде в половине десятого» и «Уроке немецкого»), и бегстве от окружающего мира (тот же «Бильярд» и «Два письма Поспишилу») и, наконец, противопоставленность героев действительности.
В отечественной литературной практике произведениями, наиболее отвечающими духу и букве «Звездного билета», можно назвать «Дым в глаза» (Юность.-1959.-№ 12).и, с известными оговорками, «Историю одной компании» (Юностьт1965.-№ 9). Оба текста вышли из— под пера А.Гладилина.
Дым в глаза", вероятно, впервые обратил внимание на человека, желающего жить вне традиционных общественных рамок. Здесь была показана идеология крайнего индивидуалиста. Герой Гладилина, Игорь Серов, желает доказать окружающим, что он отличен от них практически во всем и прежд" всего способностями (математическими, футбольными, организаторскими и т. д.).
Герои «Звездного билета» представляют собой эволюцию этого типа.
Во-первых, они уже не столь безнадежно одиноки, у них есть свой круг, своя среда, т. е. есть условия к взаиморазвитию. Пребывание вне каких-либо рамок становится естественным явлением (Для Серова в большей степени это был эпатаж). Наконец, их идеология становится уже не пассивной и оборонительной (как было у Рладилина), но дерзко-наступательной и действенной.
Отметим еще одну важную деталь. Декларируя свою индивидуальность, свободу от общества, Игорь, как ни парадоксально, все время ищет ту «серую массу», на фоне которой можно блистать. «Звездные мальчики» уже вполне обходятся без контрастного человеческого фона, а то и вовсе могут бежать от 42 него •.
История одной компании" фактически обозначает конец молодежного правдоискательства. Она завершает развитие «ернической» литературы, демонстрирует исчерпанность формально-смысловой структуры произведений данного направления. В «Истории.» все, казавшееся смелым и отчаянным", становится пошлым и банальным. Бесконечные рефлексии героев над собой, их органическая неспособность хоть к какой-то конструктивности уже откровенно раздражает. Прошло 7 лет, но ни на что, кроме как гаерничать, говорить мелкие дерзости, эпатировать толпу да таскать вызывающие одежды, герои по-прежнему оказываются не способны. Повесть фактически дала ответ на вопрос о том, сумели ли бывшие «тинэйджеры» найти свой «Звездный билет». Ответ получился, увы, более чем печальный.
Представленный обзор будет неполным, если не вспомнить о двух явлениях в сфере кинематографии, теснейшим образом свя.
43 занных с дебютными повестями В.Аксенова. Это, во-первых, фильм «Мне двадцать лет», снятый в 1962 году и выпущенный на экран в 1965 и, во-вторых, «Три дня Виктора Чернышева», вышедший в 1967.
О фильме «Мне двадцать лет» уже говорилось в общих чертах как ключевом произведении «оттепели». Более конкретная взаимосвязь между, например, повестью «Коллеги» и картиной Хуциева напрашивается сама собой:" По внешним параметрам фильм казался обыкновенным: гуляют три парня (выделено мной — Д.Х.) по московским улицам, работают, учатся, влюбляются, читают стихи и ведут нормальные разговоры о том, что жить надо со смыслом (Аннинский Л. Шестидесятники и мы.-С.117).
Можно без труда заметить, что сюжет фильма как две капли воды похож на сюжет повести «Коллеги». Общим был и подход к изображению трех товарищей — один Христос (ср. агиографизм Саши Зеленина), другой — весельчак и гедонист (ср.Владьку Карпова), последний конечно, скептик, не такой мрачный, как Алек сей Максимов, но тем не менее.
Общий" сюжет, «общий» подход к пониманию роли главных действующих лиц неизбежно Приводил к возникновению множества сходных тем, эпизодов и фрагментов в повести и фильме. Обе троицы направляют свой гнев на мрачное прошлое, обе воспринимают действительность как свободу и радость. Если герои В. Аксенова с вызовом спорят о живописи, то герои Хуциева посещают неч формальный вечер в Политехническом, где «они читают и слушают г стихи, не замечая, что эти стихи („пож-жар в Архи-тек-тур-ном!“) и пишутся и воспринимаются как вызов и дерзость» (Анниский Л. Шестидесятники и мы.-С.123).
Следует вспомнить и еще одно кинопроизведение — «Три дня Виктора Чернышева», которое по своеь/у духу гораздо ближе второй повести В.Аксенова. Уже само заглавие навевает некие воспоминания, а именно — «Хронику времен Виктора Подгурского». И так же, как «Подгурский», дал старт теме о новой молодежи в «оттепель», так и «Три дня» открыли тему молодежи застоя.
Сюжет кинофильма выстроен по ставшими уж классическими канонам произведений о молодежи 60-х годов. Ходят по городу маль-1 чики, которые встречаются с самыми разными людьми, попадают в разные приятные и неприятные ситуации. И вот те или иные события позволяют наиболее отчетливо уяснить особенности пришедшего в жизнь поколения. М. Папава в статье с симптоматичным названием «Разговор через десятилетие» подчеркивал:" Это фильм-исследование. Авторы (сценарист Е. Григорьев и режиссер М. Осепьян) не скрывают 'этого. М^ло того, они откровенно подчеркивают избранную ими манеру в своеобразных надписях, оглавлениях их исследования* Данный • эксперимент вдруг приносит неожиданные результаты — «гневливые» и «недовольные» молодые люди ушли в прошлое. Иными словами, молодежь, идущая «восеед» «звезднобилетникам» оказывается совершенно иной:" Виктор Чернышев, не препираясь, выполнит все, что положено. Отсидит на цеховом собрании, на картошку поедет. Коли нужно — ладно." (Пилава М. Разговор через десятилетие.-С.8.) *Папава М. Разговор через десятилетие//Искусство кино.-1968. -№б.-С.6. (Далее цитируется по этому изданию).
У него нет никакого желания выделяться, подчеркивать свою индивидуальность: «И работает Виктор ни хорошо, ни плохо.» Как все" .
— любимое присловье Витьки. Вот и цлывет Виктор по течению. Спокойнее, хлопот меньше, думать не надо. Но при всем этом остает-сяв в стороне" (Папава М. Разговор через десятилетие.-С.8).Последняя черта, вполне характерна и для компании Димки Денисова, но для них «сторонность» — поза, здесь же все гораздо серьезнее.
— это состояние души. Будучи «сознательным» аутсайдером, Димка периодически, в моменты экстремальные (крах любви с.Галиной.разборки с Фрамом), включается и действует как «положительный» герой. Чернышев же умудряется оставаться «посторонним» в любой ситуации, даже в момент жестокого избиения им самим пожилого человека.Сле.
1 дующая далее сцена допроса в милиции только подчеркивает это. Виктор рассказывает о себе как будто «в третьем лице», с’некоторым недоумением — почему он сюда попал, и что этому устало]уу милицио неру напротив от него надо? Полное безразличие к окружающим и близким, самому себе становится источником такого" аутсайдерства" .
Это внешне. Глубже все гораздо сложнее и страшнее. Авторы фильма обращают внимание на одну важнейщую деталь. Виктор — человек, не помнящий родства. Приехавший из деревни родственник «уличает» главного героя в том, чтосн не внает ни имени, ни биографии отца, ни кто из его ближайших родственников’жив или умер. В этом и видится создателям кинокартины корень зла, начало всех бед, и Виль-ки, и его дружков с улицы (достаточно вспомнить разговор Антона V| со своим отцом по поводу" фиктивной женитьбы").
Несмотря на весь «негатив» в личности Чернышева, нельзя сказать, что фильма — сплешное обличение.
Отнюдь. Витьке (авторы демонстрируют это) присущи и некие душевные порывы: он снимает с руки часы и дарит деду, в сердцах просит бросить Антона аферу с мотоциклом, неплохо работает на поле.
Но вот эти-то поступки и делают лицо поноления еще более зловещим. Чернышев, как определял подобный тип Ф. М. Достоевский — «ни холоден, ни горяч. Он тепел» .*.
Итак, вслед за поколениями «диспутантов» («Коллеги», «Мне двадцать лет») и «недовольных» ерников (/Звездный билет" /'История одной компании") приходят молодые люди абсолютно без какой-либо нравственной основы. Способные на все, но пршзирающие все и остающиеся от всего в стороне. Едва ли не беЬы.
Причину успеха первых повестей В. Аксенова следует видеть в том, что они заострили внимание на злободневнейших вопросах, которые поставил перед обществом период «оттепели», причем, проблемы эти не только констатировались, но делались попытки найти 45 им разрешение. Герои произведений были «своими» для всей молодежной среды, их поведение и психология также ясны и понятны молодым. Обе повести построены по одной идейно-образной модели, но если в «Коллегах» писатель только нащупывал темы, мотивы и образы своего творчества, то в «Звездном билете» уже отчетливо проступают «фамильные» интересы и приемы. Фактически в «Звездном билете» и формируется творческое кредо писателя на ег§раннем этапе. Необходимо отметить и то, что «Звездный билет» -боле" эпатажен и резок в оценках по сравнению с «Коллегами», но одновременно и более сентиментален.
Достоевский Ф. М. Собр.соч. в 10 томах.-М., 195? тТ.7.-§.6?9.
Б общем и целом, все выглядело динамичным и оптимистичным, а язык повестей (особенно «Звездного билета») настолько близок к описыг ' ваемой среде, насколько позволяли тогдашние литературные рамки. (Как образно выразился Е. Евтушенко, «этот жаргон не спрыгнул в жизнь со страниц аксеновской прозы, впрыгнул на них из жизни» *).
Б обоих произведениях авторская тактика сочетала в себе следование некоторым наработкам русской классики, прежде всего тургеневским (сюжетно-мотивационным) и чеховским (иронико-саркастическим) мотивам. В. Аксенов активнейшим образом включал в повести некоторые образы, приемы и общий психологический фон романов Э. Хемингуэя и Э. М. Ремарка, а также английских «разгневанных», имелись переклички с фактами литературного процесса в Западной Германии, j После выхода «Коллег» и «Звездного билета» Б. Аксенов так сформулировал собственное творческое кредо:" Я отношусь к жизни как к объекту Изучения". Люди, о которых ты потом собираешься писать сразу настораживаются, когда чувствуют, что ты их изучаешь. Я стараюсь стать одним из них! (Вот исток исповедальности! — д.X.).Меня продолжает интересовать процесс формирования характера советского молодого человека. В последнее время я стал Интересоваться и процессами, протекающими в уже сложившихся характерах (Образ Виктора Денисова — д.Х.). Одной из важнейших проблем современности я считаю преодоление инерции культа личности в общественной жизни и в душе человека. Не забывая о воспитательном значении литературы, писатель должен, как чумы, бояться назидательности и лобовых дидактических схем (отсюда пародия на перевоспитание в «Звеэд.
—Евтушенко Евгений. Необходимость чудес.//Лит.обоз.-1978.-№ 7.-С.42. ном билете" - Д.Х.). Беспрекословное следование правде жизни — залог действенного участия писателя в формировании человека Будущего «(Аксенов Б. Молодые о себе.-С.П7-П8).
После «Звездного билета» в 1963 году в первом номере журнала «Юность появляется третья повесть — «Апельсины из Марокко» .
Произведение существенно отличалось от двух предыдущих, прежде всего, по тону своего звучания. Во многом это определялось тем, что «оттепельный плюрализм» кончался и публиковать произведения, подобные «Звездному билету», не представлялось возможным. Главными действующими лицами стали не институтские хлыщи или «стиляги из Москвы», а рабочие и инженерно-технический персонал далекой Сибирской стройки. Б. Аксенов попытался v освоить новую сферу. Конъюнктурные со ображения^ совпали здесь с творческими. Однако коренных изменений в поведении героев не произошло (Например, разговоры их более подходят для Тверского 47 бульвара, чем для суровых восточных мест). далее, по логике темы, персонажи должны были бы действо^ вать в трудовых буднях, но, как справедливо отмечал А. Макаров, «. характеры раскрывались в свободное от работы время, личные судьбы решались не на строительной площадке, а в момент, когда герои глотали холодные дольки.- всякого рода психологические сдвиги происходили в тот же примтный «апельсиновый» вечер, когда жизнь героев выбиралась из привычной колеи трудовых будней. (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С.669). Кроме того, 'повесть о молодежном труде требовала оптимизма, и он вроде бы наличествует в избытке.
Однако оптимизм здесь весьма своеобразный — по определению того же А. Макарова, «Здесь оптимизм для отдыха.» (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С.667). Теперь герои. В повести выведены не столько даже типажи, сколько образы-знаки, си луэты, схемы. Каждое действующее лицо запрограммировано на.
48 специфику определенной социальной группы.
Наконец, сюжет. Он традиционен длячавтора: путешествие, но путешествие веееаое и забавное, где даже авария вызывает у пострадавших смех. Есть, однако, существенное отличие от сходного построения в «Коллегах» и «Звездном билете». Если там герои преодолевали пространство с какой-то целью, то персонажи «Апельсинов.» — путешествуют ради мифа — апельсинов из далекой жаркой (оппозиция холодному климату, усиливающаяся мифологизацию) страны Марокко (страны сказок, легенд, «1001 ночи»). Попутно в гонке за апельсинами ¦ решаются человеческие судьбы (писатель сумел-таки втиснуть в рамки динамичного действия очередной любовный треугольник, откровенно копирующий ситуацию, созданную ранее в «Коллегах») устраиваются дела душатся планы и т. д. Формальные составляющие тоже остались характерными для аксеновской прозы — массированный внутренний монолог (от пяти разных лиц), литературная игра и впервые использованный принцип перекрестно-сцепочного изображения событий (сейчас его часто называют «кинематографическим»).
Апельсины из Марокко", таким образом, обратили внимание на явную узость используемых автором художественных приемов, что во многих случаях создавало весьма странные ситуации, которые скорее всего никак писателем не программировались.
Узость способов обрисовки образов привела к постоянной их повторяемости. Чтобы как—то разнообразить набор «фамильных средств» литератор даже прибегает к самопародии, которая, однако, не спасает общего положения. Использование одних лишь типажей привело к полной атрофии живых характеров. Отдельные авторские находки не могли повлиять на общее впечатление от повести, достаточно точно выраженное Л. Аннинским:" Третья повесть Аксенова /" Апельсины из Мар"кко" /была похожа на мину, из которой вынули запал." (Аннинский Л. Ядро ореха.-С.96).
Верность своим принципам «в тяжелую годину» и в конъюнктурной теме Василий Аксенов сохранил, но при этом явно проиграл в развитии" своего жанра". В «Апельсинах из Марокко» вдруг проступили черты кризиса, вызванные" усталостью" от бесконечно повторяемых образов и приемов. И этот кризис, обозначившийся в «Апельсинах.», разразился позднее в романе «Пора, мой друг, пора!» (1964). Можно, конечнс, отнести эту явную неудачу произведения на счет жесточайшего идеологического прессинга, устроенного против писателя властными структурами. Но все.
50 таки причина видится в ином. Идейно-художественная система, слоившаяся в первых повестях, себя полностью исчерпала. Попытка ее очередной эксплуатации оказалась бесплодной.
Так, в романе «Пора, мой друг, пора!» не существовало ни героев, ни даже их схем. Персонажи растворились на фоне средневековых стен Таллина, бесплодных и утомительных разговоров (лишенных, в отличие от прошлых книг, искристог®и задорншг®юмора), а также бесполезных, а главное — бессмысленных метаний по необъятным просторам страны. Вновь и вновь главное действующее лицо (его никак невозможно назвать героем),-Валентин Mapвич, носился по страницам в поисках чего-то. Только непонятно чего. Если любви, то она была рядом, если дружбы, то ее также не следовало искать за тридевять земель. Так во имя чего?0тве-та в романе так и не находилось.
Главный женский типаж — Таня", получилась точно таким-же серо-прозрачным роботом. Она живет бесстрастно, лишь изредка, в критических случаях, исторгая из себя накопленную энергию.
Критика тех лет отмечала, что наиболее удачным получился образ Кяцу. Причина этого, с моей точки зрения, в том, что он оказался как бы на периферии внимания писателя, он действовал и жил как бы сам по себе, не выполняя никаких задач и, следовательно, не втискивался ни в какие рамки. Но как только автор начал более сознательно «вести» образ•(видимо, интуитивно чувствуя, что он поможет хоть чуть-чуть спасти роман), как тут же все потерялось. И гибель Кяну, призванная, вероятно, вызвать у читателя шок своей обыденностью (с соответствующими мыслями о Божественном Предопределении, фатуме и т. д.), сколь кощунственно бы это ни звучало, совсем не поражает воображение. Отчетливо проступает все та же схема, использованная В. Аксеновым неоднократно.
Название произведения во многом символично, достаточно добавить следующие цушкинскиа строки: «Покон сердце просит!» Действительно, сердцу и уму писателя требовался тот самый ", покой" ,.
См. Аннинский Л. Ядро ореха.-С.98−99, Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С.683−692 который периодически необходим каждому художнику слова. Требовалось остановить эту гонку примелькавшихся образов и идей, надо было искать ноше творческие ориентиры и пути их освоения.
— 1.2.
В ПОИСКАХ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА" .
Вторая половина шестидесятых годов стала очень непростым временем для В.Аксенова. Личный творческий кризис умножился на кризис общественный, связанный с исчезновением надежд на демократизацию в стране. Середина же шестидесятых оказалась непродуктивным отрезком творческой биографии (лишь в 1965 году был опубликован рассказ «Победа»). И только в августе 1968 в восьмом номере журнала «Юность» появляется повесть-притча «Затоваренная бочкотара». По своему звучанию и направленности она серьезно отличается от ранних повествовательных произведений автора. Основных причин перемен такоге рода две. Первая связана исключительно с творческими моментамиписатель постарался существенно модернизировать, обновить свои привычные и потому все более «обесценивающиеся» темы, идеи и образы. Потребность обновления нашла свое отражение прежде всег" в «малом жанре» (рассказах «Завтраки 43 года», «Маленький кит — лакировщик действительности», «Победа»), они" стучались" и в более крупную форму.
9 Вторая причина была внелитературной. Кончилась оттепель, и остросоциальная тематика оказалась практически под запретом. Вот почеьу динамичный жестко-полемический тон, постановка и решение острых социальных проблем уступают место неспешноцу философское ну размышлению о житье-бытье.
Прежде всего, обратим внимание на структуру действия. В основе фабулы — Основа путешествие. Но цутешествие в этой повести существенно отличается от предыдущих. Отличие кроется в откро.
51 веной условности и зачастую иллюзорности происходящих событий. Демонстративно условен сам мотив поездки, а условность мотивационной структуры действия влечет условность и метаморфичность обрисовки пространственно-временного континуума. Трудно, в самом деле" сказать, сколько времени персонажи находятся в пути (Аксенов даже подчеркивает это словом-рефреном «однажды», начинающим ряд центральных эпизодов). Происходят и пространственные превращения: двигаясь вроде бы в нужном направлении, грузовик вдруг начинает бцуждать по городам и весям средней полосы России. Впервые в своей практике В. Аксенов вводит в круг событий как нечто равноправное и даже автономное иллюзорные компоненты (сны). Существует и еще один вполне условный образ. Это Хороший Человек. Воепринимается он как некая идеальная субстанция, поисками и постижением которой и заняты действующие лица. В этом смысле он похож на образ «Звездного билета» (его осознанием ааняты братья Денисовы), с той лишь разницей, что значимость Хорошего Человека подчеркивается на протяжении всей повести. Концентрация условных элементов говорит о том, что автор активно дистанцируется от «правды жизни», и такая дистанция позволяет литератору сосредоточить внимание на интернальном, скрытом уровне происходящего.
Если говорить об архитектонике текста, то повесть состоит из трех равноправных, но разновеликих частей, выделяемых по хронотопномУ признаку.
1. События в райцентре.
2. Путешествие.
3. События в Коряжске и эпилог.
Отметим сразу, что первая и третья части подобны по прост-ранственно-времснному признаку, так как никаких темпоральных и топологических метаморфоз там не происходит. Условно выделенная нами первая часть охватывает спектр событий от рассказа Телеско-пова-старшего о сыне до выезда грузовика на дорогу в город Коряжск. Важнейшей функцией этог§фрагмента по сложившейся авторской традиции можно считать представление действующих лиц.
Открывает галерею портретов Володя Телескопов и Шустиков Гйеб. Писатель сразу подчеркивает их разницу:" Профиль Глеба чеканен, портретно плакатен. профиль Владимира вихраст, курнос, ненадежен". Несомненно, что моряк-черноморец — фигура положительная. Причем настолько, что автор всякий раз именует его почти по уставу:" Шустиков Глеб". Такая «медальная» положительность несет в себе и сильнейшее пародийное начале, столь типич— нов для прозы В.Аксенова. Перед нами трафаретный образ «молодого ¦ положительного героя», который кочевал в те времена из произведения в произведение.
Володя Телескопов — иной. Некая несуразность звучит уже в фамилии персонажа. Несуразна и биография Володьки, который, «процыганив» где-то изрядную часть своей жизни", к отцу на пен.
ЗЕ.
Аксенов Василий. Затоваренная бочкотара/ Право на остров.-М., 1990. -С.4 (далее цитируется по данному источнику) сионные хлеба прикатил" (Аксенов В. Затоваренная бочкотара.-С.3). Здесь в пику сложившимся стереотипам писатель создает не прекрасно-приторныйтипаж рабочего-шредовика, н" симпатичного пролетария — люмпена. Ко всему прочему, В. Телескопов еще и поэт в душе.
Вадим Афанасьевич дрожжинин представляется как «рафинированный интеллигент». Этоьлу образу сопутствует на протяжении повести ассоциативная пародийная струя. Фактически Аксенов создает гротес кный образ совинтеллигента, сочетающего в себе аристократические замашки и рабоче-крестьянски? ухватки.
Типаж старика Моченкина тоже пародиен и ассоциативен. В этой фигуре Аксеновым шаржирование персонифицировании характерные пороки сталинской системы: патологическое доносительство, подозрительность, необыкновенное самомнение. Старик Моченкин, дед Иван, был инспектором по колорадскому жуку. При этом «. не видел колорадского яука, окромя как на портретах, однако. активно выявлял» (Аксонов В. Затоваренная бочкотара.-С.5). Несомненно, что здесь в полузакодированной форме ведется разговор о борьбе с" вра-гами народа" ., сам по себе старик — человек бездельный, аморальный и никчемный (даже «личную трудовую избу» построила его бабка).
Учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева" представляет собой великолепный женский типаж («плей-боевскую красоточку) и не более. Стоит сказать о том, что она исключительно сентиментальна. Однако эта сентиментальность немедленно пародируется в произведении „романом“ Ирины Валентиновны ^'удивительным семиклассником» Борей Курочкиным.
Последним участником «команда» грузоейка еле дут считать Бочкотару.
Вокруг нее будут происходить основные события, будут действовать и изменяться все герои. В «прологе» повести представлено несколько очень разных героев, объединенных общим пространством (кузовом грузовика). Есть, однако, и нечто тайное, содержащее в потенциале совсем иного порядка объединение — это Бочкотара. Подчеркнем также, что люди, собранные в грузовике, представляют собой микромодель советского общества того времени — здесь представлены основные сословия.
Одновременно эти персонажи являют и литературные типы тогдашней эпохи. Можно сказать, что В. Аксенов пародирует не только реальность, но и созданную ею литературу. В целом же действующие лица здесь" не характеры, а характеристики". Не лица, а маски.. какая-то одна чер-, та характера пародийно укрупнена, шаржирована" *, — резюмировал Ст. Рассадин. Эти «Характеристики» очень напоминают «примечания для господ актеров» (ремарки), что позволяет говорить об известном драматическом влиянии.
Привлекает внимание и цвето-звуковая гамма. Показательно, что первая часть выдержана в черно-белых тонах (практически отсутству ют цветовые эпитеты). Звуковой фон представлен лишь природным зву чанием и полностью лишен музыки.
Второй большой фрагмент включает в себя последовательность происходящих событий: от выезда из райцентра до въезда в г. Коряжск. Начало этой части четко маркируется авторской ремаркой:" Странности эти начали проявляться сразу" (Аксенов В. Затоваренная бочкотара. -С.13).Таким приемом писатель обращает внимание на те изменения, которые должны произойти. Ап Рассадин Ст. Шестеро в кузове, не считая бочкотары//Вопросы литературы. -1968. -С. 108 (далеец цитируется по данноьду источнику).
И они не заставляют себя ждать.
Вдруг появляемся цвет и начинает звучать цузыка^, возникает масса иллюзий и миражей. Все эти чудесные превращения обусловлены одной пушной. Наши герои попадают в сказочное волшебное Пространно р. твогт И вот уже Щустиков Г#еб уже не Щустиков Глеб, а былинный богатырь. Ирина Валентиновна становится Василисой Прекрасной. Старик Моченкин принимает облик Кощея Бессмертного (как бессмертны сыск и доносительство). В. А. Дрожжинин «становится» специалистом по тридевятому царству тридесятому государству, то есть «мудрецом» ит .д. Замечательные метаморфозы переживает Володька Телескопов. Поначалу перед нами Иван-дурак, лежащий на своей" печи" (грузовике) и несвязно болтающий о своем житье-бытье. Резкая встряска (авария), словно пробуждает его, и Телескопов тоже начинает меняться.
Переменам способствуют традиционные сказочные приключения и испытания. Как и положено, Иванушка проходит «сквозь огонь, во.
54 ду и медные трубы". Ключевой сценой, однако, результирующей и.
55 отмечающей перемены в Ивацушке, становится ег разгопор в поле с 1(удрецом (т.е. Б.А. Дрожжининым). Остановимся на этой сцене подробнее. Внешне перше суждения fелеекопова кажутся столь же цутаннми, как и предьщущие:" Какие мы маленькие, Вадик, — вдруг сказал Телескопов, — и кему мы нужны в этой вселенной .(Акеенов Б. Затоваренная бочкотара .-С.42). Однако, в отличие от про-дыдущих «выплесков» потока сознания, этот оформлен в соответствии со всеми грамматическими нормами, чем В. Аксенов хочет придать особу®важность и значимость диалогу .
Первая реплика Вадима Афанасьевича соответствует его внешней, педантичной наукообразности отвечать, не совсем улавливая сути, но в правильном направлении. Он начинает рассуждать что-то об идее космического одиночества. Телескопов же, не очень сдушая Дрожжинина, продолжает:" А чего она варит, чего сдвигает и что же будет в конце концов. Ведь не было же меня и не будет, и зачем я взялся" (Аксенов В. Затоваренная бочкотара.-С.42).
Такие рассуждения о месте и предназначении человека во вселенной подчеркивают свершившееся (опять-таки со словом «вдруг») превращение Иванушки-дурака и Ивана-мыслителя и делают его равным даже с «мудрецом» Дрожжининым.
Далее, разговор вступает в фазу спора об основах чеяовеi ' ческого бытия: Вадим Афанасьевич первоначально отстаивает мысль о том, что «человек остается жить в своих делах» .Влади.
56 мира такой подход не устраивает, и он продолжает рассуждения: «В каких же делах остаемся мы жить? Вот раньше несознательные массы знали: Бог, рай, ад, черт — и жили под этим законом (выделено мной — Д.Х.). Так ведь этого же нету, на любой лекции тебе скажут. Выходит, я. сейчас остаюсь без всяких подробностей, просто как ожидающий.» (Аксенов В. Затоваренная бочкотара. -С. 42). Здесь получается так, что Телескопов вдруг называет дореволюционную жизнь «жизнью под законом». А сейчас, получается, такого закона нет. Отсюда метание душ, отсутствие твердой первоосновы. Если же присмотреться к акцентам, можно отметить хитрую пародию. По Телескопову получается, что «закон веков» отменен. лекцией. Это абсурд. И пародийный прием тем самым способствует не столько осмеянию явления, сколько его возвышению и отделению от прочих.
Однако Володьке все-таки трудно самому достичь смысла жизни.
И вот сноб веское слово говорит «цудрец» Дрожжинин:" Человек остается в любви". Что же в данном сцучае есть любовь? Думается, что в специфическом контексте данного фрагмента напрашивается христианская форцула:" Любовь есть Бог". И тогда фраза Телескопо-за:" Я тебя понял, Бадюха! Где любовь (т.е. Бог — Д.Х.), там и человек, а где же любовь, там эта самая химия — химия вся мор-дёха синяя." (Аксенов В. Затоваренная бочкотара,-С.43) — становится абсолютно логичной. В самом деле, понятия «Любовьш Бог» и должны стать основой человеческого бытия, ведущего к Гармонии.
57 и Покою. Володька Телескопов вдруг осознал свое место в подлунном мире. Вместе с ним осознает его и Дрожжинин. «Рафинированность» и «англичанство» не выдерживают естественного движения душ героя к Истине и разбиваются вдребезги. И Вадим Афанасьевич становится способным на самые непредсказуемые и удивительные поступки (например, катание на аттракционе в 1*усятине).
Рассмотренный отрывок при всей серьезности внешне носит пародийный характер, а зачастую самопародийный. В нем слышны отголоски споров Максимова и Зеленина, мысли Виктора и Димки Денисова о «Звездном билете», наконец, рассуждения главных действующих лиц из «Завтраков 43 года». Пародийный «камуфляж» играет здесь по-настоящее эстетизирующую роль, демонстрирует раскрепощенность воображения и свободу.
К идее «Всеобщей Любви» так или иначе писатель приводит всех героев. Происходит это не без помощи упомянутой Бочкотары, которая в те или иные моменты обретает тот или иной конкретный.
58 образ (романтики, Хорошего Человека и т. д.) или служит психологическим иллюстратором события.
Можно сказать, что #аза цутешествия является наиважнейшей в развитии образов. Основой такого изменения становится сказочно-мифологическое пространство. Оно дает конкретную оценку каждому персонажу по системе «добрый-злой», обозначает абсолютный идеал (Хорошего Человека) и обеспечивает внезапное превращение.
59 действующего липа, внешне логически ничем не обусловленное, но вытекающее из его скрытых, интернальных свойств, которые волшебным образом выходят на поверхность. «Происходит сперва подсознательное, а потом и вполне ясное сближение людей» (Рассадин Ст. Шестеро в кузове не считая бочкотары.-С.94), — замечал Ст.Рассадин. Обратим теперь вншаняе на те элементы текста, о которых не было речи. Существенную роль в нем играют сны. Важнейшей их функцией становится экспликация г^бинного психологического настроя персонажа. Ст. Рассадин по это*ог поводу писал:" Для полного уяснения авторской мысли в повесть введены сны героев, в которых перед каждым предстает по-своецу увиденный Хороший Человек. Сперва Хороший Человек определен опытом и характером персонажа. Потом сны сливаются, перемешиваются, видения одного проникают в видения другого, а в финале героям снится «последний общий сон. Хороший Человек Идеал лишился уже индивидуальности, стал всеобщим» (Рассадин Ст. Шестеро в кузове, не считая Бочкотары.-С.94). Иными словами, подчеркивается единение ужё на уровне подсознания. хСм., например, описание Бочкотары в момент освобождения Телес-копова 'Аксенов В Затоваренная бочкотара.-М.63).
Финальный фрагмент повести распадается на две неравные части. Первая непосредственно свяэанао с сюжетом и представляет собой как бы § моментальную фотографию" изменений, произошедших с попутчиками: «Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь.
Щустиков Глеб трепетал за свою любовь.
Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь.
Степанида Ефимовна трепетала за сеою любовь.
Старик Моченкин трепетал за свою любовь" (Аксенов В. Затоваренная бочкотараС.65). Это прекрасное состояние, тем не менее, явно диссонирует с общей атмосферой станции Коряжск. На цу-тешественников давит «башня Корякского вокзала со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда 4 и обороны» (Аксенов В. Затоваренная бочкотара.-С. 64), у ливр же Коряжска выглядят «маленькими и унылыми». Чудеса кончились. Герои попадают в обыденное и уже «враждебное» для них простршство. Однако писатель пытается противопоставить разрушающей обыденности нечто ппять-таки чудесное. Так, /Бочкотара" становится словно бы одушевленным символом единения" (Рассадин С. Шестеро в лодке, не считая бочкотары.-С.94), вместо рассказа от третьего лища В. Аксенов внезапно начинает употреблять «ш», вовлекая читателя в мир идеализированных отношений, что должно еще более подчеркнуть единство всех людей. Возникает и образ экспресса, который уносит с собой всё худшее, очищает душ героев, и персонажи вновь начинают ощущать состояние, которое было во время бяужда-V ния по «беаддрайнш пространствам» центра России.
Вторая часть финального фрагмента оцредеяяется автором как S последний общий сон" .
Это притчевое оформление событий последнего акта, своеобразный с/ эпилог. Квинтэссенцией эпизода становятся последние строки:. на дуговом остроае ждет Бочкотару. Хороший Человек, веселый и спокойный.
Он будет «дать всегда» (Аксенов В. Затоваренная бочкотара. -С.67).
Он будет ждать всегда, потому что совершенно неважнр, когда мы придем к своему Идеалу, важно чтобы пришли вообще. Именно в этом видится пафос данного произведения.
В повести «Затоваренная бочкотара» очевидным становится изменение творческой позиции Б.Аксенова. Он окончательно уходит от оглядки на «правду жизни» в тривиальном понимании, которая заяв-4 лилась как первооснова первых повестей и переходит к демонстративномУ изображению «иллюзии действительности». Шиши словами, если ранее (например, в «Звездном билете» или «Апельсинах из Марокко») взаимодействовали типажи на фоне действительности, то в «Бочкотаре» типажи оказались на фоне иллюзии действительности.
В.Аксенов, следовательно, пошел совершенно не тем цутем, которому го от него ждали критики, но этот цуть, как выяснилось со временем, оказался для художника творчески более перспективным. Б повести нет столь прежде любимых литератором романтических словоизлияний, остаются лишь только пародийные отголоски их.
Пришла пора подводить итоги «оттепели», осмысливать нравственные причины ее неудачи. В повести заметно сильнее развиты раз-1 ного рода модернистнческие приемы, что обозначало все болышй крен. в сторону европейской литературной традиции. И последнее. В. Аксенов в большинстве своих текстов использовал пародию, но функция ее зачастую была вспомогательной. В данном произведении пародия активно вовлекается в мотивационцую структуру, генерирует целые сложные образы и фрагменты, так что с полным правом «Затоваренную бочкотару» можно назвать повестью-пародией.
Цутешествие, положенное в основу фабулы и поданное в прит-чево-аляегорической форме, позволяет выйти на такое близкое" Боч-котаре" по форме и времени произведение, как поэцу в прозе В. Ерофеева «Москва-Петушки1 и пр.». Она написана в I960 году. Временная близость к «Бочкотаре» и ее необычный образно-стилистический строй наводят на мысль о параллелях между этими произведениями. В основе и того, и другого — сюжет-цутешествне, причем цул цутешествие совершается по центру России, а типажи, возникающие в цути следования, являют собой «соль земли русской». Кроме того, объединяет произведение подчеркнутая условность. При этом заметим и отличие повести от поэмы. В «Бочкотаре» иллюзорный компонент лишь дополняет основное действие" а в сочинении В. Ерофеева события иллюзорны настолько, что вообще непонятно, происходили ли с главным героем какие-либо события или нет. Условность и иллюзорность путешествия в том и другом сдучае влекут за собой метаморфозы пространства. Герой В. Ерофеева в начале поэмы сетует, что никак не может попасть в Кремль и что, куда бы ни шел, все время попадает на Курский вокзал. А в финале произведения находим главку с таким названием:" Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарской" *. В обоих произведениях, как видно, пространственные превращения нужны писателям, чтобы создать условия для поисков истины, для размышления над миром.
Трофеев Венедикт. Москва-Петушки и пр.-М., 1989.-С.Ш-Ю2 (далее цитируется по данноцу источнику).
Очень характерным для обоих книг является использование мифологических мотивов. У Ерофеева эти мотивы много сложнее и разнообразнее. Фактически у него представлена мифология разных стран и народов. Мифологическая система используется сниженно, как одна из форм пародийно-аллегорического осмысления действительности. Мифологические картины и образы изображаются умышленно открыто, без какой-либо маскировки.
Аксенов, как говорилось, использует только одцу мифологическую систему — волшебную русскую сказку. К тому же ее мотивы представлены в весьма закамуфлированной форме. Отмечалась и развитая пародийная структура «Затоваренной бочкотары». Явление аналогичного характера присуще и поэме «Москва-Петушки», однако сатирическое начало в пародии Ерофеева значительно жестче. Пародируются даже (что по тем временам немыслимо) партийно-государственны© документы. «Или вот. Декрет о земле: передать народу всю землю уезда, с угодьями и со всякой движимостью и со всеми спиртньми напитками и без всякого выкупа» (Ерофеев В. МоскЕа-Петушки и пр. -С.93).
Находятся одинаковые подходы и в изображении духовного состояния русского общества в конце 60-х годов XX столетия. Писатели приходятк одинаковым выводам — нужно искать иные, чем принято, нравственные основы. Однако В. Ерофеев, в отличие от В. Аксенова, не дает конкретного ответа на вопрос:" Как жить?" Он просто исследует разные грани этой жизни, полагая, что пути выхода из тупика кавдый должен найти сам.
Концовки обоих произведений неутешительны.
Гибнет нецутевый Веничка, которого уничтожает эта самая действительность, а герои Аксенова, столкнувшись с обыденностью Коряжска, снова отправляются fi цуть на поиски Хорошего Человека. И ?. эпилог" как бы подтверждает, что найти этого человека можно только в нереальном, сказочном мире.
Итак, «общие места» поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» и повести «Затоваренная бочкотара» связаны с философским ми-роосмыслением и масштабными проблемами морально-нравственного толка, а также попытками писателей разрешить эти проблемы с иных позиций, чем это делалось в современной для, авторов советской литературе.
Эпоха «застоя» и сложившиеся в ней отношения между писателем и властью наложили отпечаток на творчество практически всех художников слова, цублиновавшихся в тот период. Цензура со временем (особенно с 1968 года) становилась все жестче и беспощадней. В таких условиях от любого автора, писавшего в русле не совсем «разрешенных» тал, требовалось немало изобретательности, i чтобы обойти все препоны и рогатки на цути к читателю. Наиболее успешно это можно было делать «эзоповым языком», то есть в рамках притчи, аллегории, литературной сказки. Одним из нащумевших произведений середины 70-х стала опубликованная в сентябрьской книжке аогрнала «Наш современник» за 1974 год повесть Василия Шукшина «До третьих петужов», написанная именно в форме литературной сказки. В ту пору совсем не отмечалось, что данная повесть стала своеобразным продолжением притчево-аялегорнчес ких опытов В. Аксенова в «Затоваренной бочкотаре» .
Своеобразие заключалось в том, что Щукппщу явно претило какое-иш-бо усложнение формы, и он создал предельно традиционную в композиционном и формальном плане литературную сказку. Условно го воря, он «выверцул наизнанку» повесть В. Аксенова и освободил ее от иллюзорной «шелухи», иными словами, внутренний сказочный план вынес в форму и исследовал вопросы, которые волновали В.Шукшина.
62 в обстановке начала 70-х годов .
Возьмем хотя бы основной сюжетный ход. Иван-дурак направляется собранием литературных персонажей за справкой о том"что он умный. Преодолев ряд злоключений, он, как истинно русский человек, приносит не справку, а целую печать, с помощью которой можно самоцу выдавать сцравки. Иначе говоря, Иван так же, как и «бочкотарща» «отправляется искать истицу, жиэненцую первооснову. Только ищет он её уже в других условиях. Слишком изменились время и эпоха: на смещу красивейшим полш и лугам бочкотары» приходит сумрачный лес. Вместо живых людей, которых встречают в пути герои повести В. Аксенова, Иван соприкасается, главным образом, с монстрами, чертями и животными, да и, если разобраться, цель похода Ивана иная — он не ищет Хорошего Человека, а пытается доказать, что сам есть Человек. Венчает цутешествие Ивана за правдой встреча с Мудрецом, который, в отличие от Мудреца-Дрожжинина, не может дать даже каких-то предложений о том, как вести себя в земной жизни, ибо слабо разбирается во всем, что творится за пределами его Небесной Канцелярии.
Иван возвращается в библиотеку, и тут выясняется что весь поход быц в принципе, никоц/ не нужен.
Данный факт коренным образом отличает повести 1968 и 1974 годов. У персонажей Аксенова сохраняется надежда на встреч с Хорошим Человеком, у Шукшина же поиски человеком самого себя становятся абсолютно бессмысленными. Повесть В. М. Щукшина и повесть В. Аксенова красноречиво показали изменения, происшедшие в обществе и, соответственно, во взглядах писателей за весьма непродолжительный период, оказавшийся, однако, весьма губительным для че.
63 ловеческого самосознания .
Подведем итог. Литературный ряд, обозначенный здесь, несомненно, расширяет и углубляет семантическое поле повеети В. Аксенова «Затоваренная бочкотара». Он придает новое, а в исключительных случаях и иное звучание ряду решающих эпизодов и раэъ -4 ясняет некоторые темные, на первый взгляд, места. Становится очевидной как личностная, так и национальная специфика повести В.Аксенова. Важно и то, что с помощью контекста возможно проследить шрадищу того или иного образа. Например, «загадочное заглавие^ повести «с преувеличениями и сновидениями» становится более понятным, если мы обратим внимание на творчество уникального ирландского писателя Джонатана Свифта. Конкретнее — его антиклерикальный памфлет «Сказка бочки» .
Заглавие произведения примечательно само по себе — «Сказка бочки, собственно говоря, это труднопереводимая на русский язык идиома, которая в Англии ХУП-ХУШ вв. означала «бабушкины сказки», забавные выдумки, погудки, побасенки и т. д.(Некоторые исследователи считают, что адекватной структурой в русском языке является «Сказка про Белого Бычка»). Свифт верцул этоцу выражению его первоначальный смысл морского термина. «У моряков существует обычай» — пишет он, — когда они встречают кита, бросать ему для за-баш пустую бочку и тем отвлечь от нападения на корабль. Он напи.
• сал свою «Сказку бочки», чтобы отвлечь бездарных, но злобных критиков своего патрона У. Темп ля от допущенных им в его паллете («О Лревней и новой образованности», 1690 г.) грубых историко-фмлологических ошибок" *.
Представляется, что избранное название Аксеновым, во-первых, своего рода литературная «обманка» для цензуры и критики, подобная той самой «бочке, которую бросали киту». Во-вторых, если иметь в виду один из вариантов перевода выражения на русский язык, а именно — «Сказка про Белого Бычка», то подразумевается в этом случае бесконечность процесса поиска Хорошего Человека.
Итак, можно сказать, что повесть-притча «Затоваренная бочкотара» стала этапным и одновременно переходным произведением в творсестве В.Аксенова. В ней произошел выход к иным, чем прежде, идейным и образным основам. В данном тексте писатель прибегает к несвойственно^ ранее в таком масштабе философствованию щабстра-гированию, кроме того, активнейшим образом используется миф и мифологизация.
Повесть оказалась этапной не только в плане развития образной системы писателя, но и в плане отражения эволюции общественных отношений.
Хрестоматия по зарубежной литературе ХУШ века.-М., 1973. -С.146.
Затоваренная бочкотара" - умный и тонкий гимн 60-м, — пшцут П. Вайль и А.Генис. — В этой повести последний раз выразился оптимистический пафос эпохи. «Бочкотара» во многом перекликалась с «пражской весной». Аксенов. хотел заставить работать лозунги, вернуть банальному штамцу первоначальное содержание. Человек — добр. И если ему не мешать, если ему объяснить, он свободно и осознанно шберет цуть к добру, цуть, указанный «Хорошим Человеком». «Хорошего Человека» раздавили на улицах Праги. После ?1 августа «Бочкотара» с ее просветительским идеалом рассыпалась на глазах." 31.
1.3 •.
Г РАССКАЗЫ.
Есть еще один жанр в творчестве В. Аксенова, который в шестидесятые годы также укреплял литературную славу автора. Это рассказы.
Сейчас уже мало кто помнит, что дебютировал писатель именно рассказами, в Ж? журнала «Юность» за 1959 год появились его два рассказа — «Наша Вера Ивановна» (позднее — «Полторы врачебных единицы») и «Асфальтовые дороги». В 1962 году (как раз между «Звездным билетом» и «Апельсинами из Марокко») в «Новом мире» (№ 7) публикуются еще два произведения «малого жанра» :" На дояцути к Луне" и «Папа, сложи!». Рассказы «выручили» В. Аксенова и в непростом для жизни и творчестве 1964 году.
Вайль П., Генис А. Культ личности: Прага//Искусство кино.-1989.
— № 10. — С.135−136.
Сначала выходит из печати сборник «Катацульта», а в двенадцатом номерё «Юности публикуются разнообразные по стилю и творческой г направленности рассказы:» Дикой", «Местный хулиган Абрамашвили», ' «Маленький кит — лакировщик действительности». Наконец, в 1965 году («Юность», JP6) печатается «рассказ с преувеличениями» «Победа», а в 1966 году — сборник «На полцути к луне», вобравший все лучшее в жанре рассказа, что было сделано литератором в 60-е годы. Однако все это не более, чем библиографическая справка. Гораздо важнее проанализировать концепцию рассказа в творчестве В. П. Аксенова 60-х годов.
В 1969 году в журнале «Вопросы литературы» (.Ж?) была проведена небольшая дискуссия о проблемах современного рассказа. Среди вовлеченных в нее прозаиков оказался и В.Аксенов. В своем выступлении он говорил:" Настоящая проза должна дать читателю то, чего он н©найдет ни в одной хронике, вцутренню жизнь факта. Это может быть выражено либо в форме исповеди, в форме напряженной и даже сверхнапряженной психограммы, почти ошеломляющего социального открытиялибо открытием нового героя, социально-психологи- ' ческого типа, либо цутем смыва видимой действительности поворота к гротеску, фантасмагорий. Рассказ — школа прозы*.
Можно сказать, что писатель фактически сформулировал собственную концепцию в малом жанре, й, следовательно, целесообразно сопоставить авторскую теорию с его же практикой. Действитеяь- > но, факт как самоценное явление никогда не интересовал автора. То или иное конкретное проявление действительности занимало.
Аксенов Василий. Школа прозы// Вопросы литературы. -1969.. -С.
84−85.
В.Аксенова только с точки зрения исследования первопричин, психо—логической подоплеки, поведения людей и т. д., то есть именно «внутренность» или «физиологичность» становилась важнейшей. Сам же феномен действительности либо отодвигался на задшй план, либо растворялся внутри «физиологии» .
Приведем два конкретных примера. В рассказе «С утра до темноты» фабула отталкивается от. конкретного факта — внезапной болезни отца героша повествования. Но это кощретное обстоятельство оказывается моментально оттесненным на задний план. Главным становится исследование состэяния человеческой души и внешнего мира сквозь прнзцу такого состояния. Иными словами, В. Аксенов заставляет читателя осознать внутренние психологические пружины происшед-(шего события. Казалось бы, что для героя рассказа болезнь, цусть даже смертельная, практически незнакомого ему человека?(«Гекуба. Что щу Гекуба?»). И, скорее всего, в любой другой ситуации ничего не изменилось бы для молодого человека. Но обостренное чувство, присущее герою в настоящий момент, и психологическая атмосфера вокруг совершенно иначе раскрывают произошедшее событие. В реэультаV те происходит переосмысление нравственных основ личности и прежде всего таких понятий, как любовь я время. Герой, вероятно, вперяые задумывается над стремительностью, необратимостью жизни, ее бренностью и неизбежной конечностью. Личность, таким образом, перехо дит на новую ступень миросозерцания. Окружающий мир не кажется таким уютным и комфортным, как было еще в начале дня. Ощущается дисгармония и неустроенность: «На улице продолжается солнечный ветрешйдень.
Публика толпится возле автоматов с газированной водой. Тяжелый грузовик с прицепом везет бетонные плиты. Всюду на лотках мае-• са клубники. Темно-красные горы клубники. Афиша летнего мюзик-холла. Дзинь-дзинь падают монеты. Кто-то цедуется" *. Эффект дискомфорта достигается через резкие короткие предложения, построенные так, что каждая последующая предикативная единица не раскрывает смысл предыдущего, но несет в себе новую информацию. Финал этого небольшого рассказа приоткрывает внутреннее состояние.
64 человеческой психики, уже по сути другого человека .
Рассказ «С утра до темноты», таким образом, несмотря на некоторую фрагментарность или очерковость, достаточно отчетливо подтверждает сверхидею, заложенную в нем, — за каждым (даже на первый ч" взгляд незначительным) событием стоит определенная, зачастую психологически обостренная ситуация, которая мотивирует конкретные человеческие поступки, и за каждым происшествием стоит не просто человек или его судьба, но, как в данном случае, трагедия, сродни софокловской или шекспировской.
Несколько иначе, более разверцуто, исследуется: психика героя в рассказе «На полпути к дуне». Отправной точкой размышлений становится факт, свидетели которого был сам автор:" .в Хабаровске в сильный мороз я сел в самолеттам парень очень таежного вида был в. двух пальто: внизу — драповое., а сверху таежный тулуп.
Когда в самолете он снял тулуп и положил в ноги, подошла стюардес 1 са, взяла тулуп, понесла куда-то и повесила. Он был так этим по — трясен, что только изумленно выдохнул:" Понял? Тулуп мой понесла!." .
Аксенов Василий. С утра до темноты/ Катацульта.-М., 1964.-G.12−13.
И от этого сразу возник характер героя будущего рассказа «На полцути к Луне» 5*. Но в рассказе данное событие не играет решающей ро ли, оно оказывается «растворенным» в действии. Центром сюжета ста новится фигура Валерия Кирпиченко. Он работяга, живущий «Чадной жизнью, денег вагон. На руку был скор, а на работе передовик. И считал, что все нормально. Нормально и точка» /*.
Й, вероятно, ничего бы с этим «нормальным» человеком не случилось, если бы не два события, следующих одно за другим. Сначала грязная пьянка у «передовика «Ванина, а затем — по контрасзувстреча с прекрасной стюардессой. Причем очевидно, что без часов, проведенных в доме Ванина, знакомство с прекрасной девушкой не произвело бы такого впечатления. Однако при всей своей «нормальности» у Валеры Кирпиченко, в отличие от таких же нормальных, типа Банина, есть душа. Она придавлена, затенена грязью и бессмысленностью существования, она спит. Но сначала Лариса (сестра т.
Банина) приводит в движение какие-то неведомые струны, в результате чего и появляется фотокарточка со знаменательной надписью: «Ларисе на добрую и долгую память. Вез слов, но от души (выделено мной — Д.Х.) (Аксенов В. На полцути к Луне.-С.§ 60). ч.
Настоящее же духовное пробуждение произойдет не здесь, на грешной земле, а там на прекрасной и чистой высоте. Здесь используется прием, получивший позже свое развитие в «Бочкотаре» .Имеется в виду создание писателем некоего сказочного пространства, где •. gg может преобразиться даже герой с фамилией Кирпиченко .
Аксенов Василий. Росляков Василий. Недостоверная достоверность// Лит.газета.-1974.-20 марта.-С.12 хАксенов Василий. На полцути к Луне/Право на остров.-М., 1990.-С. 545 (далее цитируется по этоыу изданию).
Но, безусловно, мифологичность и условность пространства еще скры ты, а внешнее их проявление достаточно жестко мотивируется действительностью. Поэтому, с одной стороны, можно утверждать, что душа Валерия просцулась из-за любви к стюардессе, а с другой, — в образе Тани может увидится образ прекрашой феи, растопившей «ледяное сердце героя». Как бы то ни было, вдруг возникает" ровное и широкое оцущение счастья" и необычайная радость по поводу сочившегося. Такое состояние и обозначило полное пробуждение души. Именно душа заставит затем искать эту эфемерцую девушку и совершить поистине чудесный и удивительный поступок — весь отцуск v cry пролетать из Хабаровска в Москву и обратно с одной только целью — просто (1) взгляцуть на стюардессу Таню хотя бы еще раз. Парал-/ лельно раскрываются ранее не изведанные грани индивидуальности: «Никогда он в жизни столько не думал, Никогда в жизни он не плакал. (Аксенов В. На полети к Луне.-С. 564). •.
Эти строчки писатель выделяет из общего текста, стремясь подчеркнуть разительные изменения в герое.
Финал рассказа полностью раскрывает смысл заглавия. Валера Кирпиченко теперь всегда будет находиться «на полцути к Луне», т. е. в вечном движении к очень близкому, но одновременно и бесконечно далекому своему счастью.
И последнее. Ёсли рассматривать структуру повествования, то без особого труда можно сделать вывод о том, что в основу дейст-* вия положена известйШная оппозиция между «верхом» (Божественной и духовной сферой) и «низом» (областью земной и грешной).
Критика придирчиво изучала текст^®и, по мнению А. Макарова, «многие верно усмотрели в нем. полемику с теми, кто и счастье и моральную чистоту характера ставит в прямую зависимость от производственных показателей. И не столько. Аксенову нужно было показать, какая взыскующая красота душ живет в этом грубом парне, сколько поставить своего читателя перед вопросом: «так ли прожиты тобою добрые тридцать лет, не пора ли задуматься, если не о будущем, так хотя бы над настоящим (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С.677).
Рассказ «На нолцути к Луне», по сравнению с предыдущим, построен таким образом, что автор в большей степени сосредоточен на масштабном и всестороннем раскрытии образа главного героя. Его душевное состояние в каждый момент не просто обозначается, но скрупулезно мотивируется и анализируется. Психологическая атмосфера вокруг и внутри «факта» прорисована объемно и во всей своей сложности. Фактически художественно-эстетнческое исследование конкретного проявления действительности играет в «На полцу-ти к Луне» важнейщую роль. Само же жизненное событие оказывается оттесненным вглубь (и едва ли не «за кадр») повествования^.
Внутренняя жизнь факта в «чистом» виде только одна сторона творчества в. Аксенова в «малом жанре». Не меньше внимания он уделял «исповедальному» (по его же определению) рассказу.
Таков Маленький кит — лакировщик действительности", где повествование ведется от лица главного героя по имени Анатолий. Мы узнаем, что рассказчику необходимо «совершить» телефонный звонок значительному лицу. По мере развития сюжета как-то постепенно ощущается все большая условность звонка.
Он становится своеобразной экзистенцией, которая выявляет философию героя:" Еще я думал., что. в голове у меня одна суета, не до приключений мне сейчас и не до романтики, как я хочу спокойствия, а спокойным за целый день я был только среда фанерных чудовищ «Мира фантазий» *. Эта философия заключается в бегстве от реальной жизни в мир иллюзии, и как следствие — неспособность героя сделать вполне конкретный шаг в нужный момент. Ныне можно утверждать, что изложенная героем жизненная позиция являет собой нерв «шестидесятничества» в тот момент, когда «оттепель» пошла на убыль. Так же с известной долей уверенности, возможно увидеть в «исповеди» главного действующего лица душевное состояние самого писателя после всех бурь и злоключений («Не до приключений 1 мне сейчас и не до романтики, как я хочу спокойствия.» (Аксенов В. Маленький кит — лакировщик действительности.-С.44). И вот звонок состоялся. Кажется, он должен безвозвратно уничтожить иллюзорный дарок, но тут находится внезапный выход:". в момент величайшего унижения. в нем (Анатолии) пробуждается чувство рыцарского гордости и чести.
Пережита крайняя степень унижения. перед самш собой, и обретено спокойствие и равновесие духа, душа героя над кроваткой улыбающегося сына наполняется радостью, светом, добром. Чистый бестревожный мир младенца. это и есть подлинный мир." -так определил этот своеобразный катарсис критик А. Макаров (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С.695). В рассказе писатель умело использует второй план, что делает его произведение.
Аксенов Василий. Маленький кит — лакировщик действительности/ На полпути к Луне. 41., 1966.-G.37 похожим на притчу, придает ему болыцую философскую значимость.
Рассказ «Маленький кит — лакировщик действительности» удач-н© сочетает в себе философское осмысление действительности и художественное воплощение. Многоплановость повествования способствует созданию необходимой атмосферы и стимулирует более глубинное осмысление произошедшего.
Не менее интересны в изображении писателя «напряженные и сверхнапряженные психограммы». Эти определения можно отнести к рассказам «Завтраки 43 года» и «Победа» ." Завтраки 43 года" привлекли внимание и читателей, и критики. Б. Аксенов тонко прочувствовал конфликт Са в чем-то пафос) эпохи «поздней оттепели» между. бывшим оскорбителем (абсолютным негодяем) и бывшей жертвой, вынужденных сосуществовать теперь в одном купе поезда. В таком подходе прочитывалась аллегория общественного состояния в стране, когда после массовой реабилитации вынуждены были уживаться палачи и их жертвы. Удачно выбрана писателей и форма повествования, исключительно «собранная и жесткая». Действие выглядело простым и понятным — перед наш два разных человека — два врага". Жертва вынашивает план мести, а для оправдания такой мести апеллирует к своецу детству, передавая картины кучений, причиненных рассказчику его врагом. Рассказ строится по восходящей. Внутреннее противостояние, психологическое напряжение возрастает от эпизода к эпизоду, и соответственно от фрагмента ко фрагменту в воспоминаниях рисуются все больше и большие мерзости, на которые оказывался способен сцутник героя.
Буря должна была разразиться во время обеда, но. ничего не происходит.
Обидчик выскальзывает из расставленных сетей, а герою остается перевести разговор на нейтральную тещ. Такая концовка вновь поднимает вопрос о психологии шестидесятничества как феномена, заключеющегося в нежелании (а может быть, — и это хуже — неумении) сделать решающим шаг и назвать вещи своими именами (ведь нечто подобное происходило и с Анатолием из «Маленького кита.») Герой «Завтраков.» раз за разом откладывает решающее действие, пока, наконец, не появляется спасительная соломинка — Он оказывается не Им. Если же рассматривать фигуру оппонента повествователя (или, как квалифицирует Ст. Рассадин, — «тягостного сцутни-ка») то можно сказать однозначно — он плох. И здесь нельзя, вероятно, согласиться с критиком, когда он утверждал, что в «Завтраках.» так и неизвестно, в самом ли деле сцутник плох. И насколько плох." (Рассадин Ст, Шестеро в кузове, не считая бочкотары. -С.104). С меей точки зрения, «плохость» или негативность этого самого сцутника очевидна, и кроется ©-на в формуле:" Вы мне аппетита не испортите!" Данная сентенция универсальна для всех безнравственных типов, ибо за насыщением своей утробы они не замечают бед и горестей человеческих, а сами деградируют д©уровня млекопитающего. Мшено привести и дополнительные доказательства тезиса. В одной из сцен романа «Ожог» его герой, Телик фон Штейнбок, в обеденный перерыв попадает в здание магаданского МГБ, и мы становимся свидетельствами того, как с веселым гамом служащие этого страшного учреждения расходятся для принятия пищи, а затем следует эпизод, собственно иллюстрирующий приведещую форь^улу бытия. Один следователь спрашивает другого (который в этот момент зверски избивает подследственного):" Обедать пойдешь, Борис?" (Бот ©-н@: «Бы мне аппетита не испортите!»).
Фшал «Завтраков.» «сообщает © веединмчности, таких, как. „тягостный сцутник“ (Рассадин Ст. Шестеро в кузове, не считая бочкотаре» .-С.104), — утверждает Ст. Рассадин, и здесь с ним невозможно не согласиться. Словом, зло разлито по шру, а противостоять ецу некому, ибо герой — рассказчик слишком снедаем рефлексией, а других борцов на сегодняшний день не осталось. Пессимистичный мотив финала придает ординарному конфликту неординарное звучание. В. Аксенов одним из первых обратил внимание на из менение общественной обстановки, на откат к «холодному прошлому», к «зиме», не только социально-политическими катаклизмами, н©и человеческой аморфностью, готовностью к унизительным компромиссам.
Если «Завтраки 43 года» определялись как «напряженная психограмма», т©вышедший в 1965 году рассказ «Победа» можно смел©отнести к сверхнапряженным психограммам". Сверхнапряженность достигается через жесточайшее противостояние между шахматным Гроссмейстером и его оппонентом Г. О. Внешне конфликт между ними.
JF происходит за шахматной доской, однако на самом деле все оказывается горазд©глубже. Во-первых, как писал М. Лобанов, «в портретах обоих героев — грубом, примитивном Г. О. и духовно-утонченном гроссмейстере, в самой психологической заостренности есть и жестокость авторского раздумья © сущности этих двух характеров. В. Аксенов хочет подчеркнуть драматичность самочувствия своего гроссмейстера в примитивной компании. Приведенная точка зрения наталкивает на мысль о том, что «Победа «есть продолжехЛобанов М. Личность истинная и личность мнимая//Молодая гвардия. -1966. -Ш. -С. 300−301 ни©дискуссии, ©-^означившейся в «Завтраках 43 года», но в переводе «на условный язык», как ©-б этом писал Ст. Рассадин (Рассадин Ст. Шестеро в кузове, не считая бочкотары.-С.104). И здесь следует сказать, что «условный» язык возникает неслучайно.
Разразившийся в середине 60-х творческий кризис заставил писателя резко пересмотреть свои традиционные способы изображения. Рассказ «Победа» стал попыткой реализации новых замыслов. Автор не успел еще, однако, отдифференцировать ноше и старые образные структура. В итоге они наложились друг на друга, смешав критикам все карты. Так, главные действующие лица рассказа: гроссмейстер и Г. О. — изразных творческих систем. Гроссмейстер — ли.
70 цо уже новой формации, а Г. О. еще старой .
Рассказ «Победа» тем самым, с одной стороны, продолжил нравственный поиск, начатый «Завтраками 43 года», в новых исторических условиях, а с другой, вывел его на более глубокие философские, обобщения. Рассказ аккумулировал в себе основное из того, что ш узнали о герое Аксенова из его рассказов и романа, он стал как бы скептическим авторефератом художественной диссертации о том характере, который долгое время был источником его вдохновения. И, может быть, в какой-то мере признанием краха иллюзий своего героя и собственного разочарования в нем.
Двойственность и сложность рассказа — результат серьезный душевной драмы писателя, его двойственного отношения к, тем, в ком на заре своей творческой деятельности он узрел силу, но^ьи претензии на значительную роль далеко не соответствовали ни их удельному весу в обществе, ни их беспорядочным воззрениям" (Макаров А. Идеи и образы Василия Аксенова.-С.690), написал по этому поводу один из критиков. Обратим внимание на еще один тип, который выделял Б. Аксенов в малом жанре — «почти ошеломляющее со-Ераяьное открытие». Такое «открытие» и состоялось в рассказе" Дикой" .
Начнем с того, что это «хитрый рассказ». Он начинается с" хитрой" крестьянской поговорки, и ей же повествование завершается. Но дело не только, и, безусловно, не столько во внедаей организации текста. Здесь писатель в традиционной внешней канве, скрытно, нетрадиционно расставив акценты, разрабатывает тему поисков смысла жизни на фоне истории.
Один из двух главных действующих лиц — Павел Петрович Збай-ков, сцустя 40 лет едет навестить свою «мадую Водицу». По дороге ему вспоминается вся жизнь. Но это лишь формальный план. За этим.
V. формальным планом спрятан внутренний конфликт между личностью и ег! фжвш. В процессе развития действия В. Аксенов в конечном итоге сталкивает Андрияна Тимохина, по прозвищу «Дикой», и того самого £&-йхова. Личности, на первый взгляд, абсолютно разные. Павел Петрович болыцую часть своей жизни провел в водовороте величайшх исторических событий — от участия в гражданской войне на стороне, естественно, красных, до сталинских лагерей и последующей реабилитации. Андриян же всю жизнь провел в Рязанской глут (он по болезни не воевал). Казалось бы, эти люди из разной систеш координат ,*и какое-либо взаимодействие между ними невозможно, несмотря на то, что они вроде бы общаются, разговаривают. От. Рассадин об этом писал так:" В рассказе сведены два мира — мир Збайкова, в котором вечный двигатель невозможен, и мир Дикого, в котором он возможен.
Автору горько, что два значительных человека разобщены. существуют в разных измерениях, не могут даже соприкоснуться как землянин и марсианин в известном рассказе Бредбери (Рассадин Ст. Шестеро в кузове, не считая бочкотары.-С.105). Однако у данного конфликта есть глубинный план, о котором в ту пору едва ли могла сказать критика. Рассказ, с современных позиций, возможно трактовать и следующим образом. Писатель уравнивает Збайкова и Дикого. Т. е. оба фактически не создали ничего. Насколько бессмисле и к тому же условен «вечный двигатель» Дикого, настолько бессмысленной и условной была жизнь «революционера» Збайкова. Ни тот, ни другой не создали ничего полезного для людей. В этом собственно и заключается «ошеломляющее социальное открытие», пощадуй, никем до Аксенова в подцензурной печати не сделанное.
Смысловая неоднозначность мотивирована всей художественной, тканью рассказа, так, в воспоминаниях Збайкова воссоздается сцена формирования Красной Армии из дезертиров и мародеров.(Полки из «бегунцов», мародеров и даже" |рок", составляли поначалу костяк революционного войска). С одной стороны, называя этих людей «революционными» бойцами, красный комиссар поднимает этот сброд до уровня нормальных людей. Но с другой — данное явление выглядит ужасным. Становится очевидным, на кого делали упор большевики, а в дальнейшем мы понимаем, откуда взялись «осатаневшие» лейтенанты? допрашивавшие Збайкова с пристрастием. Рассказ носит заголовок «Дикой». Название вызывает реминисценции из «Грозы» А. Н. Островского и соответственно всю атмосферу классической пьесы. Данное" воспоминание" служит еще одним ключом к предложенной выше схеме рассуждений.
Можно сказать, что в «Диком» отчетливо проявилась нравственно-философская позиция писателя этого времени. Ему удалось в творческой форме выразить свое отношение к происшедшему и происходящему. С оригинальным замыслом органично сочеталась и строй ная система художественных приемов от построения произведения к развернутой многоплановой психологии конкретного эпизода до емких и образных определений и эпитетов. Следует также эаострить внимание ма динамике и собранности повествования.
Безусловно, рассказы в творчестве писателя — явление неординарное. Во-первых, в рассказах в концентрированной форме нашли свое отражение основные вопросы и проблемы шестидесятых годов XX столетия, волновавшие уш в нашей стране. Во-вторых, форма большинства произведений в этом жанре выгодно отличается от более крупных текстов (повестей и романов). Помимо динамизма и конкретности, которых неизбежно требует сам рассказ, необходимо обратить внимание на, как правило, четкую и дифференцированную образную систему. В-третьих, психологическое поле расскаэов (в от личие от тех же повестей) практически всегда напряженно и многопланово, что создает возможности для более глубокой прорисовки образа, мотивации его поступков и проч.
И последнее. «Опыты в малом жанре» середины шестидесятых годов создали предпосылки к преодолению кризиса и переходу к новым творческим рубежам.
ЗЕ 5 € ЗЕ.
Шестидесятые годы стали важнейшими для В. Аксенова на литературном поприще. В это время произошло становление творческого кре до писателя.
Произведения 1960;68 годов создавались на фоне подъема демократической мысли в стране. Молодежь искала свою «новую» идеологию, что обусловило напряженность поисков литературных ответов на поставленные временем проблемы. Специфическими признакми этого периода были приподнято-оптимистический пафос повествования. Ранние произведения (прежде всего «Коллеги», «Звездный билет», , «Апельсины из Марокко») носят в основе своей эмоционально-непосредственный характер. Аксеновская проза этих лет отчетливо тяготеет к реалистически-очерковоьу восцриятию людей, событий, мира вообще, которое, вместе с тем, отлично уживается (точнее сказатьдополняется) с романтическими элементами. Однако в тот момент писатель еще не создает, да и не желает создавать глубокую психологическую прорисовку образа. Душевное состояние чаще всего оттеняется лирической или сентиментальной тональностью, достигаемой час то рассказом от первого лица. Своеобразию лирическую настроенность создает обращение к пейзажным зарисовкам.
Четкость и достоверность реалистического рисунка сочетается с пародийно-заостренным изображением события или действующего лица.
Для выявления особенностей личности автор часто прибегает к внутреннему монологу илипотоку сознания.
Уже в первые года творческой практики В. Аксенову соцутетвовал успех в жанре рассказа. Автору таких рассказов, как:" На полпути к Луне", «Маленький кит — лакировщик действительности» /'Завтраки 43 года", «Дикой», «Победа» — удается передать гдубщу пси хологического состояния героя в экзистенциальный момент его жизни. Именно в «малом жанре» писателю удается в полной мере явить свои художнические способности и склонность к яркому и нетрадиционному восприятию феномена действительности.
Первый этап творчества В. Аксенова в соответствии с его же самохарактеристикой целесообразнее всего назвать романтическим.
Развитие писательской индивидуальности засвидетельствовано повеетью-цритчей «Затоваренная бочкотара», в которой решающими становятся притчево-аллегорическое, мифологизированное и даже модернистическое изображение окружающего мира." Затоваренная боч котара" фактически дала начало освоению новой творческой манеры.
• /" Y.
Однако выводы по проблемам во многих случаях перерастали в философские обобщения о судьбах не только и не столько художника, сколько простого человека.
В семидесятые годы писатель однозначно определил свою нравфтвенцую позицию. Задолго до Перестройки он провозгласил примат общечеловеческих ценностей над классовыми, а мировоззренческой основой его творчества стало христианство.
Важной в данный период была критика негативных явлений так называемого «развитого социализма». Писатель убедительно и точно изобразил перманентный кризис общества во всех сфеpax — от экономики до политики, а также нравственное и духовное одичание людей в «лагере социализма» .
В данный творческий период если не решающей, то важной становится «притчево-аллегорическое и мифологизированное изображение действительности. Подобныеьодходы позволили значительно боле©объемно разрабатывать тот или иной образ, ту или иную проблещу. Форма притчи, нацример, сразу настраивала^ читателя на философский лад и давала сочинителю право на более оригинальные, нестандартные и зачастую немотивированные ходы Аллегория же позволяла углубить литера1урный факт, делала его более выразительным, придавала конкретную направленность, конкретное звучание.
Миф, мифологизация в структуре аксеновского произведения были важны для возникновения в сознании читателя ощущения фундаментальности и значимости решаемой проблемы или создаваемого образа.
Несомненно, что на втором этапе творчества психологическая обрисовка персонажей (особенно главных действующих лиц) по сравнению с начальным этапом стала более глубокой и оригинальной. Важным становится и психологический образ окружающей действительности, с которой тот или инйй персонаж соцрикасается. Такое соприкосновение героя с окружающим миром в произведениях второго этапа почти всегда трагично. Герой фактически остается один на один с античеловеческой системой, которая беспощадно душит, подавляет, уничтожает. Трагизм вырастает из неспособности героя противостоять до конца системе, из неспособности изменить «злодеяния заведенного порядка.» .
При всех переменах в творчестве писателя на данном этапе сохраняется «фамильные мотивы и образы», отличавшие его еще в «оттепельные годы». Прежде всего , — типажность периферийлих действующих лиц, совмещения в рамках произведения различных по-. токов сознания и внутренних монологов, пародийность и цроч.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Литературно-эстетические искания Василия Аксенова, писателя, имя которого и по сей день ассоциируется с определенной исторической эпохой и судьбой целого поколения, чрезвычайно разнообразны, по проблемам, темам и формам, но при этом обладают несомненной внутренней органичностью и цельностью.
Основной мотив его лучших произведений — поиски героем смысла жизни и основ существования в жестких условиях тоталитарной системы. Человеческая жизнь, по В. Аксенову, есть непрерывный поиск себя, своей экзистенции, своего «жанра». Причем персонажи литератора ищут квинтэссенцию жизни и творчества не в райских садах и далеких мирах, а в условиях конкретно-исторических, конкретно-социальных — вот почему писатель в большинстве романов, повестей, рассказов чутко и рельефно изображает окружающую действительность. В. Аксенову интересен не просто конкретный факт как деталь внешнего пространства — он йеизменно стремится раскрыть его «физиологию», его внутренний смысл.
Важно отметить, что в творчестве писателя отразилось большинство проблем, стоявших перед той российской интеллигенцией, что начинала свой общественно-исторический цуть в период 50−60-х годов. В. Аксенов проводит своих героев (а большинство их — те самые" шести-десятники") через разные эпохи от «оттепели» до Перестройкииспытывая их гражданский и человеческий потенциал меняющимися историческими обстоятельствами.
Кроме проблем конкретного поколения, писатель обращает внимание на драматические и трагические явления советской действительности второй половины 60- конца 70-х годов.
Литератор доказывает губительность тоталитарного строя («Ожог», «Остров Крым», «В поисках грустного бэби»), предупреждает об угрозе нравственного разложения в обществе «всеобщего равенства» («Завтраки 43 года», «Победа», «Поиски жанра»), указывает на болевые точки общества («Затоваренная бочкотара», «Дикой» ," Московская сага"), настойчиво пропагандирует общечеловеческие ценности и демократические идеалы («Ожог», «Свияжск», «В поисках грустного бэби»). В. Аксенову удалось заострить внимание (задолго до печальных событий последних лет) на сложности вопроса («Ожог», «Остров Крым»). Писатель первым из своих литературных сверстников обозначил конфликт поколений как общественно значимый.
В своем творческом развитии В. Аксенов, как было выявлено выше, прошел несколько этапов. Первый этап (1959;1968 годы). Подъем демократической мысли в стране и «новая молодежная идеология обусловили напряженность литературного поиска ответов на главные проблемы бытия. Ранние произведения (прежде всего „Коллеги“, „Звездный билет“, „Апельсины из Марокко“) носят в основе своей эмоционально-непосредственный и оптимистический характер.В.Аксенов создает реалистическую картину действительности. Такая прорисовка, тем не менее, уживается с приподнято-романтическими элементами. В названных фактах отразилось мировидение генерации» шестидесятников" в оттепельные годы.
В данный период писатель еще не стремится к развернутой психологической обрисовке мыслей, чувств и поступков своих персонажей. То или иное душевное состояние чаще всего оттеняется лирической или сентиментальной тональностью, достигаемой часто рассказом от первого лица.
Своеобразную лирическую настроенность создает обращение к пейважным зарисовкам. Четкость и достоверность реалистического рисунка сочетается с пародийно-заостренным изображением события, факта или действующего лица.
Как отмечалось, уже в перше года своей творческой практики писатель добился успеха в жанре рассказа. Такие произведения" ма-лого жанра" ," На пояцути к Луне", «Маленький кит — лакировщик действительности», «Завтраки 43 года», «Победа», в отличие от повестей и романов В. Аксенова тех лет, передают гдубину психологического состояния героя в переломный или экзистенциально значимый момент его жизни. Именно в «малом жанре» В. Аксенов смог в полной мере проявить свои творческие способности, склонность к яркоцу и нетрадиционному взгляду на человека и действительность.
По отличающему данный период аксеновского творчества напору, задору, пафосу, направленному на компрометацию догматических канонов искусства соцреализма данный этап логично назвать (как определял, кстати, и сам В. Аксенов) — «романтическим» .
В 60-е годы писатель в своих литературных опытах обозначил нерв и проблемно-смысловые узлы «шестидесятничества», так или иначе показал все плюсы и минусы данного общественного явления.
Второй этап (1968;80 годы). Изменение социально-политической ситуации в стране не могло не повлиять на литературно-философскую позицию В.Аксенова. Советские танки в Праге раздавили" оттепель-ные" надежды и миражи. Нужно было приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам, искать из них выход. Поэтоцу во многих произведениях в данный период писатель размышляет о поисках цути праведного существования в неправедное время.
В сравнении с ранним творчеством литературные тексты В. Аксенова, обретают теперь куда более резкий, а зачастую конфронтационный характер по отношению к власти. Естественно, что меняется тон и направленность романов, повестей, рассказов. Они обретают фило-софско-мировоззренческое звучание, и приоритетной проблемой в них становится поиск новых жизненных основ в условиях краха прежних идеалов. Писатель одним из первых обозначил обращение интеллигенции к религии, к Богу, причем автор изображает разные ступени в обретении Божьего Промысла не верующими ранее людьми. Обращение к религии сопровождают мысли о необходимости решительных демократических перемен на Родине, сближения с остальным миром.
Важной в тот период была и жесткая критика негативных моментов так называемого «развитого социализма». Литератор отчетливо отразил всеохватывающий перманентный кризис советского общества.
На данном этапе углубляется психологическая прорисовка образов. Значительным становится и образ действительности, с которой соприкасается персонаж. Соприкосновение оборачивается драматическим или даже трагическим конфликтом.
Романтический оптимизм сменяется притчево-аллегорическим, философским и мифологизированным изображением внешнего мира. Подобный подход позволил значительно более объемно разрабатывать то или иное явление, ту или иную проблему. Однако сохраняются и «фамильные» черты прозы — «исповедальность», использование комических элементов, пародийность, саркастичность и т. п.
В.Аксенов в своем литературном поколении опять-таки наиболее полно и психологически тонко обрисовал положение сверстников в годы «застоя» Он отметил в среде своей генерации и хцэедательстйа, и стоицизм, и абсолютное безразличие ко всему. Однако лучше люди, по его мнению, сохранили устремления к свободе и торжеству общечеловеческих ценностей.
Этот этап осознанного противостояния художника системе в политическом, философском, эстетическом планах возможно назвать" диссидентским". Ведя разговор о творческой эволюции В. П. Аксенова, нельзя не упомянуть об эмигрантском этапе развития художника, остающемся вне хронологических рамок данной работы. Здесь выделяется несколько щюиэведений.
В 1981 году писатель создает свою первую в изгнании вещьповесть «Свияжск», где развивает религиозную линию «Ожога». В «Свияжске» автор пристально исследует заявленное в своем программном романе образное осознание религии. Именно так приходит к Бо-iy Олег Антонович Шатковский — тренер по баскетболу, человек далекий от духовных терзаний творческой интеллигенции. Такая смена ролей (не писатель, не художник, а спортсмен) проведена умышленно. С ней связана авторская мысль о том, что в религию рано или поздно цридет любой человек, если хотя бы на мгновение задумается над своим мрачным, безысходным и бессмысленным существованием. Обретение же Высшей Истины принесет и раскаяние, и очищение, и искупление одновременно.
Пятью годами сцустя В. Аксенов издает цублицистический роман «В поисках грустного бэби», с подзаголовком «Роман об Америке» Срав-нительно небольшой срок многое изменил в темах и мотивах произведения, в подходе к изображению окружающего мира.
Писатель попытался повести обстоятельный разговор о взаимоотношениях России и Америки в духовно-гуманитарных сферах, а также осмыслить «изцутри» американский образ жизни Можно выделить немало интересных творческих находок. В. Аксенов создает образ некой чудесной страны, где все разумно, целесообразно," где плещутся рифы в янтарний волне" и т. д. Такое видение Штатов происходит в значительной степени из-за тоге, что инотв «шестидесятники» воспринимали Соединенные Штаты «как ночую альтернативу древнее и тошнотворному деду социальной революции» *. В. Аксенов последовательно касается разных проблем, свойственных американское обществу середины 80-х годов. Это и расовые вопросы (точнее, изменение их звучания), и политические (электронный бюрократизм), и социально-экономические. На последних стоит остановиться подробнее. Писатель, размышляя над «живой жизнью» народов в Америке, подчеркивает, что она стала возможной потое, что людьми управляют не идеологические догмы, а законы свободной экономики. И даже ведется речь о благотворном. неравенстве! Именно неравенство (по мнению художника, да) так, мне кажется, оно и есть?) заставляет лго дей напряженно и упорно работать, именно Неравенство стимулирует желание достичь высот благосостояния, именно неравенство способствует всеобще^ и всестороннее развитию общества.
Не мог не коснуться В. Аксенов и темы «американской мечты». Этот феномен общественной жизни исследуется всесторонне и, в конечном итоге, формулируется так:" В Америке в обществе неравен ства, в хаосе экономической свободы, где-то здет тебя твой шанс.Аксенов Эасилий. В поисках грустного бэби/Донец века.-1991.-M. С. 16 (далее цитируется по этому источнику).
Пусть ты его не поймаешь никогда, но его присутствие всю жизнь твою окрашивает иначе" («В поисках грустного бэби» .-С.31).Но особенно важно, что автор «Грустного бэби» все-таки остается писате-I лем, а не политологом, философом или кем-то еще. Каждый штрих, каждый факт, каждую сентенцию он подкрепляет художественными аргументами. И приведенная мысль литературно выражается так:" Взгляните,-говорит эмигрант, — раньше я жил в городе Ворошилограде, в Ленинском районе, на улице Дзержинского — какая безнадежность. А сейчас, взгляните, я живу на земле Мери, у Серебряного ручья, по улице Сад Роз — какие паруса!" (В поисках грустного бэби" .-С.31). Важную роль в «Грустном бэби» играют «Штрихи к ромацу». Они внешне не более чем декорация, изображающая упомянутую уже «живую жизнь» .Глубинное же, философское значение состоит в том, что, по мнению литератора, такая жизнь и разрешает все мировые и исторические проблемы. Имен-но она априорно целесообразна и органична.
Книга стала важным этапом в становлении В. П. Аксенова как писателя-космополита в чистом виде. Не эмигранта, а именно космо полита, к чецу, кстати, всегда стремился он и его поколение). Художник в результате постепенного овладения иной культурой, иного языка, оказался в состоянии выйти на новые рубежи творчества.
Последние публикации — «Московская сага» (1991;92 годы) и «Алхимический лимон, или Зимние воспоминания о летних впечатлениях» (1993) лишь подчеркивают это.
В первом случае была предпринята попытка создать адаптированную под западного читателя эпопею о советской власти от НЭПа до на-• ших дней, во втором же — прозаик стремится проследить, как «семи мильными шагами» движется по Восточной Европе американская модель существования, как описанный в «Бэби» шанс на ВСЁ" согревает уже не только сам Запад, но и Полыцу, Чехословакию, Венгрию и даже I Москву.
За годы эмиграции, кроме названных произведений В. Аксенов создает еще романы «Бумажный пейзаж» (1983)и «Скажи Изюм» (1985), наконец, «Желток яйца» (1987), написанный на английском языке., «» •? Итак, третий этап творческой карьеры оказался периодом обре* тения новых тем и идей художественного творчества. Происходит постепенное приспособление писателя к западной действительности. На первое место выходят такие качества прозы, какп цублицистичность, склонность к мецуарности и внешней описательности. Литератор ухо- ' дит от объемного психологизма, заостряя внимание лишь на отдельных чертах персонажей. Резко снижается «удельный» вес внутренних конфликтов — коллизии становятся предельно выраженными и действенными.
Вместе с тем, ключевые нравственные и мировоззренческие критерии не претерпели существенных изменений. В. Аксенов остался приверженцем ценностей, выработанных еще в шестидесятые годы.
Данный творческий этап, по приведенным выше сообраяениям, целесообразно назвать «эмигрантским» .
Если говорить о литературном наследии писателя в целом, то можно обратить внимание на следующее. Вокруг В. Аксенова не сложилось школы и не возникло явных последователей, он лишь наметил ряд цутей в своем творчестве, которые разрабатывались совсем дру-. гими по литературным и идеологическим устремлениям художниками.
А.Кабаков, В. Пелевин, В. Чуманов и др.).
В.Аксенову удалось коснуться практически всех литературных жанров от сценариев и драматургических произведений до романа-эпопеи и в этом тоже отличительная черта его. литературного наследия. Главное же, что В. Аксенов создал такое, что оказалось не под силу многим, — свою неповторимую АКСЕНОВСКУЮ МАНЕРУ, свой фирменный творческий почерк.
Отмеченная аксеновская манера (впрочем, как артефакты 6090-х годов вообще, к которым тяготеют произведения писателя) в качестве составной части подразумевают ориентацию на творческое переосмысление национальнойf и зарубежной традиции XIX—XX вв.еков. В этой связи существенным становится освоение фактов литературного процесса, позволяющих более полно и системно обозначить место того иди иного произведения, несомненно также, что изученные связи с другими сочинениями позволили по-новомУ взглянуть на многие художественные приемы и тенденции прозы В.Аксенова.
Открытие ряда литературных взаимодействий создает перспекти-, вы для более детального изучения как генеалогии и генетического развития образов в текстах писателя в целом, так и конкретных или даже частных влияний литературных тенденций на возникновение вполне определенных тем, идей и образов аксеновских произведений. Наконец, представляется интересной дальнейшая разработка таких особенностей прозы писателя, как драматизация и кинематографичность.
Бесспорное значение творчества Василия Аксенова подтверждается множеством литературных и экстралитературных фактов.
Один же из них представляется наиболее важным — аксеновские произведения как никакие другие, открыли миру такое явление, как «шестидесятничество» во всей его сложности и многообразии. Писатель сумел через пространство и время пронести идеалы, воспринятые им и его сверстниками в «оттепель», что позволило еьцу стать полноправным литературным выразителем идей поколвния" шес-тидесятников" .
Список литературы
- Аксенов Василий Аефажьтоные дороги. Наша Вера Ивановна//Юность.-1999.-Г?.-С.57−63 Z. Аксенов В. Разговор в сочельник// Новнй мир.-1961.-№ 1. -G.258-^61
- Аксенов Б. Не отставая от быстроного|'о//ДйТ.газета.-1961.- 1 5 июня mi).
- Аксенов Василий Коллеги.-М., I96I.- 208 с.
- Аксенов Василий Звездннй бйлет//Юность.-1961.-№ 6.-С./-34- Г7.-С.38−66
- Аксенов В. На пожпутп к Луне, Папа, сложи!// Ношй мир.- 196Е.-^Р?.-С. 86−107
- Аксенов Василий 0тветственность//Правда.-19бЗ.- 3 апр.
- Аксенов В.П. Мне дороги судьбы романа//Лйт^ газ^ - 1963.- W03 (27/ЗШ1)
- Аксенов В.П. Пора, мой друг, пора!//Молодая гвардия.-1964.-М.-С. 48−94- № 5.-С .53−146. 1. Аксенов Б. П. Катапульта.-М., 1964.- 264 с.
- Аксенов Василий Дикой. Мествдй хулиган Абрамашвили. Товарищ Красивый фуражкии. Маленький кит — лакирощик действительности// Шесть.-1964,-№ 12.-С.4−22.
- Аксенов В. Сешщветная радуга/Дит.газета.-1964.-21ноября (№ 138).
- Аксенов В. Тущ1 нашего детства// Лит. Россия,-1965.-22янв.(М).-С.10−11 15.^ Аксенов Василий Жаль, что вас не было с наш//Москва.1965.-J^.-С.97−115 16i Аксенов Василий Победа//Шность.-1965.-.^.-С.12−18
- Аксенов В.П. Рыжий с того двора//Лит.Россия,-1966.26 авг.-.*3.-С.12−14
- Аксенов В, Непривычный американец//Иностранная лит.1966.-Ш.-С.262−264
- Аксенов В. Писатели о критике//^опросы лит.-1966.-)Й.С.9−10
- Аксенов В. П, Двор в фонарном переулке/Дит.газета, 1966.-31 дек. 2 1. Аксенов В. Духовное здоровье Гвидо Мелли/Д'Агата Дж. Дети Гиппократа.-М., 1967.-С.230−238
- Аксенов В. Затоваренная бочкотара//Юность.-1968.-^3.0.37−63
- Аксенов 3″ Любовь к электричеству//Юность.-1971.-.*3,С.30−67- M.-G.33−63- Ji5.-0.23−59.
- Аксенов В.П. Мои дедушка — памятник.-М., 1972.-133 с.
- Аксенов Василий, Росляков Василий. Недостоверная -3^остоверность//Лжт.газета.-1974.-20 марта
- Аксенов В. На площади за рекой//Юность.-1966.-15.G.36−41
- Аксенов Василий В свете подготовки к предстаяще! весне//Л Юность.-М.-1969.-С.141
- Аксенов В. Непрерывная линия//Неделя.-1978.-Л.-U.67
- Аксенов В. Я, по сути дела, не эмигрант//Юность.-19Ь9.1*4.-0.79−83
- Аксенов Василий Золотая наша Железка//Лность.-1989.^ .16.-С.10-ЗЬ- ]^7.-G.lb-4b
- Аксенов Василий Оера|-'йм Второй, падший//Нева.-1989.-.§ 9.и.бЬ-68
- Аксенов В.И. Взгляц на нас и на себя//Аврора.-1990.-ill.0.86−90
- Аксенов В. иБИяжск//Аврора.-1990.-М.-С.91−117
- Аксенов В, Право на свой OGTpoB//0roHeK.-1990.-i^.0.18−19 4-^. Аксенов Василий Капитальное перемещение//Вопросы лит, 1990.-№ 8.-С, 66−80
- Аксенов В. «Ив основном пишу для русских читателей»//i'iCKyc^ TBO кино.-199и.-#3.-и, Ы-60
- Аксенов Василий Ожor.-М., 1991 .-500 с.
- Аксенов В, П. Окажи изюм.-Рига, 1991
- Аксенов В.Л. В поисках грустного бэби/Донец века.-1991.М.-0.5−132- Ш.-0.209−333
- Аксенов Василий Право на остров.-М., 1991.-520 с.
- Аксенов В. Московская сага//Юность.-1991.-15.-0.15−34,16.-0.35−54, 17.-0.9−30, ^Ю.-G.12−26, 19.-G.49−65, М0.-С.23−34, 111.-0.3−22
- Аксенов В. О социализме, простите, говорить не буду//Независ.газета, 1991 — 20 и для
- Аксенов В. Праздник, который пытались украсть (К историисоздания и разгрома лит. альманаха «Метрополь».)//Огонек.-1991,110.-0.18−19
- Аксенов В. Остров Крым.-0й1/(ферополь, 1992.-356 с.
- Аксенов В. На остаток жизни я осяду в России//Известия.1992.-17 июня
- Аксенов Василий Антракт И. Ничтрусы — туда//0толица.-1992 .130.-C.9−62
- Аксенов В, П. Звездный билет в оба конца//Известия.-1992.3 июля
- Аксенов Василий Московская сага. &.2 Война и тюрьма//Юность .-1992 .-19 .-0.2−19
- Аксенов Василий Война и тюрьма (отрывок)//Труд.-1992,3 октября
- Аксенов Василий Сложные отношения с Родиной/Домсомольекаяправ да.-1993 .-12 августа
- Алфеева Валерия 1жвари//Новый мйр.-1989.-17.-0.65л
- Аодайк Джон Кентавр.-М., 1966.-С.16−17
- Белль Генрих Бильярд в половине десятого.-М., 1961.-302 с.
- Битов Андрей Пушкинский дом.-М., 1990.-412 с.
- Буковский В. И возвращается ветер. Письма русского путежествевника/М., 1990.-0.110−128
- Вознесенский Андрей Плач по двум нерожденным поэмам/Ахиллесово сердце .-М., 1966.-С.7
- Войнович В. Отщ)ытые письма/Хочу быть честным.-М., 1989, С.296−303
- Высоцкий Владимир Нерв.-М., 1988.-е.200−201
- Гладшшн Анатолий Дым в глаза//Йность.-1959.^12.-С.29−70
- ГладйЛйн А. Т. Идущий впереди.-М., 1962.-239 с.
- ГладйЛйН Анатолий История одной компаний//Юность.-1965.J9.-G.3−15- МО.-С.15−30
- Гладйлин А. Хроника времен Виктора Подгурского, составленная из дневников, летописей, исторических событий и воспоминаний современников .-М., 1958.-133 с.
- Гарпожакс Гривадий Джин Грин-неприкасаемый.-Баку, 1990.416 с.
- Горький М. Коноважов/ПСС в 25 томах.-М., 1969.-Т.2.-С.2:а
- Грюн фон дер М. Два письма Поспишилу.-М., 1972.-220 с.
- Достоевский t.M. Бесы/Собр.соч. в 10 томах.-М., 1957.Т.7.-С.679- Братья Карамазовы/Собр.соч. в 10 томах.-М., 1958.Т.10.-С.519
- Евтушенко! Цвут белые снеги.-М., 1969.-0.409
- Жрофеев Вен. Москва-Петушки и пр.-М., 1989.-С.16^ 101−102
- Искандер Фазиль Кролики и удавы//Юность.-1987 .-№ 9.-0.20−62
- Кабаков А. Невозвращенец//Искусство кино.-1989.-№ 6.-С. 123Л-196
- Кузнецов Анатолий Продолжение легенды/Д)ность.-1957.-№ 7.С.6−14- Ш.-С.4−13 81. Зигфрид 1енп- Урок немецкого.-М., 1971.- 480 с.
- Манн Томас Доктор § аустус//Собр.соч. в 10 томах.-М., 1960.Т.5 .-С.251
- ОруэллДжорж 1984.-м., 1989.-0.190
- Осборн Джон Оглянись во гневе/Пьесы.-М., 1978.-С.3−97
- РекшанВ. Кайф//Нева.-1988.-Ш.-0.111−130
- Светов Феликс Отверзи ми двери//Новый мир.-1991 .-МО.-С.17
- Селинджер Джером Д. Над пропастью во ржи//Селииджер ДжеромД. Повести и рассказы. Веннигут Курт Колыбель для кошки. Бойня номер пягь.-М., 1983.-0.25−192
- Тургенев И. А, Отцы и дети/ПСО и писем в 30 томах.-М., 1981, T.5.-G.34, 49, 196
- Шэлохов М.А. Поднятая целина/Собр.соч. в 8 томах.-М., 1981.Т.5 .-С.121 90. 1%кшинВ. До третьих петухов/Собр. соч. в 3 томах.-М., 1985 .-С.496−545 91. %к111йнВ. Чудик/Собр.соч. в 3 томах.-М., 1985.-Т.2.-С.293−29- П
- Авдеенко Ал. Здесь был Вася//Экран и сцена.-1992.-4130/31.G.8−9
- Анастасьев И. А, Продолжение диалога.-М., 1987,-430 с .
- Аннинский. 1. Жанр-то найдется//Лит. обо зрение .-1978 .-№ 7.G.44−46 ^
- Аннинский Л.А. Зеркало экрана.-Минск, 1977.-150 с.
- Аннинский Л.А. Дёстидесягники и мы.-М., 1992.-0.8−43,116−152
- Аннинский Л.А. Я, дро ореха.-М., 1965.-223 с.
- Аре Г. Из воспоминаний о ЧеховеДеатр и искусство.-1904,J"28.-C.521
- Балаш Ю. На Сащг Зеленина они не похожи. .Дюлодая гвардия, 1961.-M.-G.201−206
- Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского.-М., 1972.-472 с.
- Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле.-М., 1963.-528 с .1(2, Березнипкий Ян. Время антигероев//Искусство кино .-1968.i9.-G.123
- Блинкова М. Саша Зеленин и его друзья//Новый М1ир.-1960.Y № 11.-0.248−253
- Боброва И. Наши новые, друзья//Юность.-1957.-J4.-0.72−731СБ. Бовин А. Перестройка: правда о социализме и судьба социализма/Иного не дано.-М., 1988,-0.519−550
- Бондарев Ю. Поиски семнади, атилетних//Лиг .газета.-1961.29 ноля
- Бочаров А. Расвдет.. посредством обеднения//Лит.газета.1964.-20 февраля
- Бровман Г. Из критического дневника. Зам1етни о художественной прозе минувшего года/Д1осква.-1962.-М.-0.196−199
- Бровман Г. «Кинематографические уроки» и уроки жизни//Лиг газета.-1964.-27 августа л V эмигранта//Нов. время.-1988.-148.-С.46−47
- Ваь’ьль Петр, Генис Александр. Культ личности. Прага//Искусствокино .-1990 ,-m.Q .-С. 132−136
- Ва:йдь Петр, Генис Алексан,.1ф. Шстидесягые. Мир советскогочеловека//Театр.-1992. -М.-С. 132−152
- Виноградова И. Ргогбу.яьские уроки Зигги Ёепсена//Ленц ЗивфридУрок немецкого.-М., 1971 .-С.469−470
- Время дарит надежду. Беседа с Фазилем Искандером//СоветскаяАбхазия.-1988.-14 октября
- Гейденко В. Перед слелущим maroM//JaHT.ra3eTa.-1964.6 июня (J67)
- Голубков М. Из дальних странствий./АЬскБа.-1992.-М.С.201−203
- Гольдин Л. В поисках жанра/Дн. Обо эр.-1990 .-16 Февр. 07).С. 10
- Громова А, Удивительные прйкяючения//Л1Т .обозрение .-1978.ЩО.-С. 32−34
- Давыдов Олег Круглые сутки ожог//Независ.газета.-1992.7 (^евр.-С.7
- Дарк О, Миф о прозе/Дружба народов.-1992.-1*5.-0.219−234
- Дементьева М. Жизнь без преград//Театр, жизнь.-1990.-*8.G.22−24
- Доклад Первого секретаря Щ товарища И.О.Хрущева/ХХ съездКоммунистической, партии Советского Союза: Стенографический отчет.М., 1962.-Т.1.- 88 Y
- Дремов A. Деиатвительность-идея-идеализация//Октябрь.1964.-м .-С.192−200
- Дымшщ А, И впрямь — пора//Лит.Россия.-1965.-20 августа (.§ 34).-С.10−1Х
- Евтушенко Е. Необходимость чудес//Лйт.обозрение.-1978.17.-0.42−44
- Елкин Анатолий Перед кем снимет шляпу Шкспир//Москва.1968.-M0.-G.192−200
- Ефимова Н.А. Интертекст в религиозных и демонических мотивах В.П.Аксенова.-М., 1993.-134 с.
- Жак К Покоя не будет//3наш.-1965 .-11.-0.229−231
- Ждем встречи с современником. Письмо главному редакторужурнала «Юность» Б. Н. Полевому//Лит. газета.-1963 .-4 апреля
- Жлуктенко Н.Ю. Бунт внутри традиции.-Киев, 1977.-175 О,
- Зверева А. Блюзы четвертого поколения//1ит.обозрение.1992,-^11/12.-0.9−17
- Золотусский И. Рапира 1амлета/Навстречу будущему.-М., 1962.-0.142−144, 146, 149−151, 165−169
- ЙЬанова Н. Воскрешение нужных вещей.-М., 1990.-0,6−10
- Иванова Н. Омех против страха, или Фазиль Искан-дер.М, 1990.-С.19−33
- Идашкин Ю. Об исканиях и правде жизни//0ктябрь.-1962,13.-194−198 с.
- Казинцев А. Придворные диссиденты и «погибшее поколение»//Наш современник.-1991.-С, 171−176
- Как Никита поссорился с пиоателями//Аргументы и факты.1991.-J*45.-G.6 V t 1992.-21 апр.
- Кля1/жин И. Какая улща ведет к храму//Новый мир.-1987.№ 9.-0.150−175
- Коржавин Н. Истоки и психология исторической задержки/Погруже ние в тряс ину.-М., 1991.-С.6
- Коровин В. Эстетический идеал и положительный герой/Книга ведет в жизнь.-М., 1964.-0.96−99
- Краулинь К. Раз, думья о молодых//Дружба народов .-1962.*2 .-0.220−230
- Крячко Л. Поистине — пора!//Москва.-1964.-.^9.-0.213−215
- Крячко Л. Оуть и видимость//Октябрь.-19 66.-Ш.-0.191−192
- Кузнецов t. Молодой писатель и .КЙЗНЬ//10НОСТЬ.-1963.-15.0. 74, 76−77
- Лалдиков А, «Исповедальная» проза и её герой//Октябрь.1968.-Ш.-С.189−190, 198−200
- Левада Л., НоткинаТ., 1Шйнжс В. Оекрет нестабильностисамой стабильной эпохи/Пэгружение в трясину.-М., 1991.-0.28−30
- Ленобль Г. Рождение образа/Писатель ж его работа.-М., 1966.-0.16165 Y
- ЛинецкийВ. Аксенов в KOBOIV. свете//Жева.-1992.-^8.G.24&-252. 157. Лобанов М. Внутренний и внешний человек//Мол.гвардия.1966.-1*5.-0.298−302
- Лосев А.Ф. Бнак. Символ. Миф.-М., 1982.-0.429−452
- Макаров А. Ицеи и образы Вазилия АкоеноваДакаров А.Идущим вослед. Полемика.-М., 1969.-0.647−704
- Макаров А. Серьезная жйзнь//Ьнамя.-1961.-М.-С.188−211
- Макаров А. Через пять лет/Д-наь/.я.-1966.-17.-С.201−219-.Ш.-С .217−227
- Максимова В. Похожие — и другие//Лит. газета.-1962.9 авг.
- Малухин В. Покоренье Крыма, дубль ДБа//Зна^:я.-1991.i*2 .-0.232−234
- Маслин И. Красивая молодость//1/1лсква.-1961.-i*2.-С.200−201
- Марков Г. Отчетный доклад Секретариата Сооза писателейС ССР/1У съезд Писателей СССР: Стенографический отчет.-М., 1968.G.18
- Маркулан Я.К. Кино Польши.-Л.-М., 1967.-С.63−82
- Марченко А. И «мерд», и омары в «Абрау-jtopco».. / /Лит.газ.M., 1990.-18aiip,(M6).
- Медведев Р. А, Н. С. Хрущев: Политическая биография.-М., 1990.-302
- Меженков Вл. Странная проза//0ктябрь*-1972.-Л!7.-С. 189−203Y
- Мжх.ажлов 0. Лоди труда и ьыс4и//3наь/1я.-1961,-Л4.-С. 195−208
- Молева Нина Манеж. Гдд 1962. — М., 1989.-272
- Мяло К. Г, Под знаменем бунта.-М., 1985.-287
- Немзер Андрей. Странная вещь, непонятная вещь//Новый мир.1991.-Н1.-С.243−249
- Немзер А. Очень своевременная книга//Не3aBHCHivая газета.1992.-29 февраля
- Новгородова А. Цена апельсинов/Дюлодой коммунист.-1963,JM.-C.119−122
- Освободитель языка//Независимая газета,-1992 .-20 августа
- Осетров Е, Дарование и игра//Лит.газета.-1963,-9 февраля
- Осетров Е, О повести В. Аксенова «Апельсины из Марокко"/Д1ность,-1963.-М.-С.З-5
- Папава М. Разговор через десятилетие//Искусство кино, 1968.-16.-С.6−16
- Панков В. Годы-десягилетия-эпоха//Знамя.-1972.-кн.2.С.217−232
- Панков В. Право на звездный бвдет//Дитература и жизнь.1961.-25 авг.(М01)
- Пияшева Л. Тяжелая колесница истории проехала по нашемупоколению//Дружба народов .-1988 .-j7.- 179−227 т ч кнЛ0.-С.210−213
- Радов Г. Прав доха и «модерн». Полемические заметки//Лит.газета.-1961.-16 ноября (136)
- Рассадин G. Будем ли читать Ш1утарха//0ктябрь.-1991.-Л, G.196−208
- Рассадин Ст. Мягкое темечко//Дем.Россия.-М., 1991.-Ш0(20−27 окт.).'-С.14
- Рассадин lifeстидесятники. Книги о молодом современнике//Юность.-1960.-112.-С.59−60
- Ришина М. Когда мы были молодые//Лят, газета.-М., 1990.10 января {Ш)
- Рожновский С, В. Генрих Бёлль.-М., 1965.-103
- Росляков В. Дорогой револоции//Лиг.газета.-1971.-)^2.-С.6
- Руденко А. Без остановок//Дружба народов.-1976.-i^l2,С.266−267
- Русские советские писатели-прозаики.-Бжблиогр.указ., М., 1972.-т.7.-Ч.2.-С.32−53
- Рюриков Ю. Три влечения//Вопросы лит ературы.-1965.-Ш. — .С.37
- С кого Вы пишите портреты? Письмо ударников котунистжческого труда, (коллектива Ялтинского таксомоторного парка) писателю В. Аксенов у//Известия.-1965 .-13 авг.
- СелонинВ. Истоки//Новы1 мир.-1988.-16.-С.152−190
- Светов Ф. О молодом герое//Новый мир.-1967.-.*5.-С.22,3−224• <
- Светов Феликс Григорьевич Поиски и свершения. SaivieTKH осовременности искусотва.-М., 1965,-126
- Сергованпев М. Миражи//0ктябрь.-1966.-.*3.-С.209−210
- Сидоров 1. На пути к Хорошему Человеку//Юность.-1968,j'*3.-C. 63−64
- Сидоров 1. Рэгтайм в стиле Аксенова//Юность.-М.Д989.i7.-G.44−45
- Славкин В. О чем поет саксофон//^Оность.-1991.-16.С.35−57- .#7.-С.68−78 Y 209. Смоляков О героях выдуманных и невыдуманных//Дш.ьниж Восток — Хабаровск, 1963.-S3.-С.177−182
- Соболев Р. Встреча с польским кино.-М., 1967.-0.38−44
- Соловьева И. Материал и прием//Новый ь/шр.-1963.-М.С.258−262
- Соловьева И. С преувеличениямиии сновидениямй//1ит.газета.-1968.-1 мая
- Стуруа Мг Василий Аксенов: «Остаюсь русским писателем"//Неделя.-1990.-27 авг.-2 сент. (J35).-G.3, 16
- Турбин В. Товарищ Время и товарищ Искусство.-М. Д961 .180
- Туровская М. Цена звездного билета/Туровская М. Да и нетО кино и театре последнего десятилетия.-М., 1966.-0,60−70
- Хромова Л.И. Два произведения о молодом современнике//Уч.зап. (Петрозаводский ун-т).-1961 .-Т. 10.-Вып.2.-С. 19−30
- Чарный М. О свободе от серьезного в л.обвж//Звезда.< 1962 .-ЩО,-С.193−199
- Черненко М.М. Авджей В айда.-М., 1965.-148
- Чудаковй М. и Чудаков А. Современная повесть ж юмор//Новый winp.-1967.-i7.-С.229−231
- Щербаков К. С желанием истины: Об одном поколении в искусстве.-М., 1988.-C.7−15, 85−87, 134−135
- Шкловский 1. Ускользающая реальность//Лиг.обозрение.1991.-412.-0.10−18 ^ 4. Шохина В. Таинственный остров//Октябрь.-1990.-Л11,* 200−202
- Эльяшевич Арк, Нерушимое единство//Звезда.-1963.-№ 8,С.185−202 i