Ингушское просветительство. У истоков становления национальной литературы: Конец XIX — начало XX века
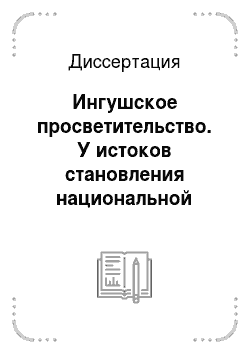
Диссертация
Первым шагом в развитии ингушской художественно-этнографической прозы стали произведения А. Базоркина. Художественный элемент в его очерковой прозе проступил еще более явственно. При всей своей этнографичности проза А. Базоркина заметно тяготеет к художественной литературе. А. Базоркин нарушил устоявшиеся традиции научно-этнографического исследования и развил элементы художественного… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. ПУБЛИЦИСТИКА КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ ИНГУШЕЙ
- 1. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ, ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ. ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПАМЯТНИКОВ УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА (Ч. АХРИЕВ, А. БАЗОРКИН, М. ДЖАБАГИЕВ, О. МУРЗАБЕКОВ, И. ДОЛГИЕВ)
- 2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ (Ч. АХРИЕВ, А. БАЗОРКИН, В.-Г. ДЖАБАГИЕВ, О. МУРЗАБЕКОВ, И. БАЗОРКИН)
- 3. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (А.-Г. ДОЛГИЕВ, М. КОТИЕВ, X. АРСАМАКОВ, И. БАЗОРКИН, 3. МАЛЬСАГОВ)
- ГЛАВА II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- 1. ПРОЗА НАЧАЛА XX ВЕКА. ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ОБРАЗЫ (О. МУРЗАБЕКОВ, А.-Г. ГОЙГОВ, С. ДОЛТМУРЗИЕВ, Ш. АХУШКОВ, ТЕМБОТОВ (М. КОТИЕВ), С. МАЛЬСАГОВ, ХАНИЕВ,
- X. ОСМИЕВ)
- 2. ИНГУШСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ 20 — 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА. КОНФЛИКТЫ И ХАРАКТЕРЫ (3. МАЛЬСАГОВ, Х.-Б. МУТАЛИЕВ, О. МАЛЬСАГОВ, Б. ДАХКИЛЬГОВ, Д. МАЛЬСАГОВ,
- X. УЖАХОВ, А. ШАДИЕВ)
Список литературы
- Айдаев Ю.А. Чечено-ингушская советская драматургия (20 — 40-е гг.). -Грозный, 1968.-285 с.
- Ахмедов Х. На путях развития дагестанской советской прозы. — Махачкала: Дагкнигоиздат, 1978. — 135 с.
- Ахриева Н.Г. Воспоминания об отце // Яндаров А. Д. Ингушский просветитель Чах Ахриев. — Грозный: ЧИКИ, 1968. — 51−53.
- Васильев В. Современная ингушская драматургия. Творчество Д. и О. Мальсаговых // Известия Второго Северо-Кавказского пединститута.- Орджоникидзе, 1933. — Т. 10. — 21−38.
- Вишневская И. Драматургия в идеологическом воздухе Октября // Нарадокс о драме. Перечитывая пьесы 1920−1930-х годов / Отв. ред.Е. И. Стрельцова. — М.: Наука, 1993. — 7−56.
- Возвраш-ение к истокам. История Ингушетии в лицах и фактах / Сост. А. Хамчиев. — Саратов: Детская книга, 2000. — 574 с.
- Газиков Б.Д. Взгляд в прошлое / Статьи по истории Ингушетии. — Назрань: 2002. — 78 с.
- Голубева Л.Г. Владеющий пером // Дружба народов. — 1963. — JVb 9. — 261−268.172
- Горький A.M. Письма к А.Н. Тихонову // Горьковские чтения. 1953- 1957.-м., 1959.-С. 5−99.
- Грабовский Н.Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушского округа // ССКГ. — Тифлис, 1870. — Вып. III. Отд.1.-С.1−28.
- Дахкильгов И.А. М. Джабавагиева вай багахбувцамах баьча балхах // Маьтлоам. — 1992. — .№ 1. — 90−99.
- Дахкильгов И. А. Дзейтова X. Г1алг1ай меттахи багахбувцамахи французски меттала баь тохкам // Маьтлоам. — 1991. — № 1. — 154−174.
- Дахкильгов И.А. Он стоял у истоков ингушской науки // Чах Эльмурзиевич Ахриев. Избранное. — Пазрань, 2000. — 243−254.
- Дахкильгов Ш.А. А.-Г.О. Долгиев: борец, мыслитель, поборник просвеш-ения // Слово о родном крае. — Грозный: ЧРПСИ, 1989. — 37 с.
- Джусойты Н.Г. Сека Гадиев / Зачинатель осетинской прозы. 1855- 1915 / Очерк творчества. — Сталинир, 1958. — 192 с.173
- Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических жанров (Очерк. Фельетон). — М.: Мысль, 1969. — 253 с.
- Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Назрань-Москва, 1999. — Т. I. — 450 с.
- Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Назрань-Москва, 2000. — Т. II.-686 с.
- Исмаил Гаспринский — просветитель народов Востока / Материалы Международной научной конференции / Отв. ред. и сост.СМ. Червонная. — М.: НИИ теории и истории изобразительныхискусств PAX, 2001. — 280 с.
- История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. — 1917 г.) / Отв. ред. А. Л. Нарочницкий. — М.: Наука, 1988. — 664 с.
- Карачаево-балкарские деятели культуры конца XIX — начала XX века: Избранное в 2-х тт. / КБНИИ истории, филологии и экономики.- Нальчик: Эльбрус, 1993.-Т. I (Сост., предисл. статьи об авторе икомментарии Т.Ш. Биттировой). — 262 с.
- Карачаево-балкарские деятели культуры конца XIX- начала XX века. — Нальчик: Эльбрус, 1996. — 236 с.
- Кошев М.А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказа в XIX — начале XX века. — Нальчик: Эльбрус, 1991.- 158 с.
- Кумыков Т.Х. Кази Атажукин (Жизнь и деятельность). — Нальчик: Эльбрус, 1969.- 172 с.
- Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях. — М.: АН СССР, 1946. — 168 с.
- Куркиев А.Б. Т1оахбаь-Ерды. Интерпретация названия храма Тхаба- Ерды // Ч. Э. Ахриев. Избранное. — Назрань, 2000. — 291−308.
- Лисаковский И.Н. Художественная культура. Термины. Нонятия. Значения. Словарь-справочник. — М.: РАГС, 2002. — 240 с.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. — СПб.: Искусство — СПб., 2000. — 704 с.
- Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. — М.-Л.: Гослитиздат, 1952. — 544 с.176
- Мальсагов А.О. Нарт-орстхойский эпос вайнахов. — Грозный: ЧИКИ, 1970.-287 с.
- Мальсагов А.У. О книге и ее авторе // А.-Г.С. Гойгов. Пробуждение. — Грозный: ЧШШ, 1981. — 216 с.
- Мальсагов А.У. Его делам не позабыться // З. К. Мальсагов. Избранное / Сост., автор пред. и примеч. А. Мальсагов. — Нальчик: Эль-Фа, 1998.-С. 5−9.
- Мизес Ф.Л. Теория и история. Интерпретация социально- экономической эволюции. — М.: Юнити, 2001. — 167 с.
- Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. — М.: Госполитиздат, 1955. — 799 с.
- Озиев СИ. Озиев Абдуррахман Актолиевич / Рукопись. — 1995. — 20 мая.177
- Парадокс о драме. Перечитывая иьесы 1920−1930-х годов / Отв. ред. Е. И. Стрельцова. — М.: Иаука, 1993. — 496 с.
- Пришвин М.М. О творческом новедении / Сост. сборника, иодг. текста, вступ. ст. и нримеч. Ф. И. Сетина. — М.: Советская Россия, 1969.-169 с.
- Семенов Л.П. Чах Ахриев. Первый ингушский краевед. — Владикавказ, 1928. — 12 с.
- Симонов П.И. Пазрановская горская школа // Известия Ингушского ПИИ краеведения. — Орджоникидзе, 1934. — Т. IV. Вып. П. — 71−97.
- Смирнов Н. Михаил Пришвин. Очерк жизни и творчества. — М.: Детгиз, 1953.-47 с.
- Танкиев А.Х. Об истории и культуре ингушского народа // Ингуши (Сборник статей и очерков по истории и культуре ингушскогонарода). — Саратов: Детская книга, 1996. — 3−13.
- Тресков И.В. Этюды о Шоре Ногмове. 2-ое доп. изд. — Нальчик: Эльбрус, 1974. — 198 с.
- Хаджи-Мурат. «Перелом» Д. и О. Мальсаговых — зеркало революционных сдвигов в Ингушетии // Революция и горец. — 1932. —№ 6 — 7. — С. 76−81.
- Хакуашев А.Х. Адыгские просветители. — Нальчик: Эльбрус, 1978. — 259 с.
- Хашагульгов Б., Шамсудинов Р. «Он любил свой народ…» // Комсомольское племя. — 1987. — 16 анреля.
- Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители XIX — начала XX в.: В помощь учителю. — Нальчик: Эльбрус, 1993. — 182 с.
- Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители второй половины XIX — начала XX века. — Нальчик: Эльбрус, 1983. — 244 с.
- Хашхожева Р.Х. Деятели адыгской культуры дооктябрьского периода: Избранные прозведения / Вступ. ст., биобиблиогр. очерки иподг. текстов к печати Хашхожевой Р. Х. / КБ НИИ ИФЭ. — Нальчик: Эльбрус, 1991.-288 с.
- Чах Эльмурзиевич Ахриев. Избранное / Сост., отв. ред. и автор примеч. А. У. Мальсагов. — Назрань, 2000. — 314 с.
- Шаханов Б. Избранная публицистика / Нредисл., сост. и коммент. Т. Ш. Биттировой / КБ НИИ истории, филологии и экономики приСовмине КБ АССР. — Нальчик: Эльбрус, 1991. — 287 с.
- Яндаров А.Д. Ингушский просветитель Чах Ахриев. — Грозный: ЧИКИ, 1968.-56С.
- Яндиева М.Д. Заурбек Куразович Мальсагов. К 100-летию со дня рождения // Сердало. — 1994. — 1 июня.
- Яндиева М.Д. Вассан-Гирей Джабагиев: возвращение забытого имени // Материалы Международной научной конференции «ИсмаилГаспринский — просветитель народов Востока». — М., 2001. — 179−185.
- Яндиева М.Д. Возвращенное имя // Сердало. — 1992. — 18 июня.
- Яндиева М.Д. О Вассан-Гирее Джабаги // Ас-Алан. — 2001. — Ш 2 (5).-С. 315−318.
- Яндиева М.Д. Но кодексу чести. Ингушское зарубежье // Новости Грозного. — 1 9 9 1. — 2 сентября.
- Яндиева М.Д., Газиков Б. Д. Ингущская политическая публицистика 50-х гг. В.-Г. Джабагиев на страницах журнала «Свободный Кавказ».- Назрань — Москва, 2003. — 49 с.
- Яндиева М.Д., Мальсагов А. В Северокавказском Союзе // Ингушетия и ингуши. — Назрань — Москва, 2001. — Т. П. — 14−29.
- Арсамаков X. Несколько слов об ингущах // Терские ведомости. — 1911.-№ 211.
- Ахриев Ч.Э. Песколько слов о героях в ингушевских сказаниях // ССКГ. — Тифлис. — 1870. Вып. IV. Отд. П. — 1−33.
- Ахриев Ч.Э. Сказания «Орхустойцы и Ботоко-Ширтка» и «Шестьдесят орхустойцев и Цазик» // ССКГ. — Тифлис. — 1871.Вып. V. Отд. П. — С. 38−46.
- Ахриев Ч.Э. Ингушевские праздники // ССКГ. — Тифлис. — 1871. Вып. V. Отд. I I I. -С. 1−16.
- Ахриев Ч.Э. Об ингушевских кашах (фамильных склепах знатных родов) // Терские ведомости. — 1871. — № 17.
- Ахриев Ч.Э. Присяга у ингушей // Терские ведомости. — 1871. — № 20.
- Ахриев Ч.Э. О характере ингушей // Терские ведомости. — 1871. — № 30.
- Ахриев Ч.Э. Об ингушевских женш-инах // Терские ведомости. — 1871.-№ 31.
- Ахриев Ч.Э. Этнографический очерк ингушевского народа с приложением его сказок и преданий // Терские ведомости. 1872. —№ 27−35,39,42, 43,45−46- 1873. — № 3,21, 22, 24−26.
- Ахриев Ч.Э. Ингуши (Их предания, верования и поверья) // ССКГ. — Тифлис. — 1875. Вып. VIII. Отд. I. — 1−40.
- Ахушков Ш. Ибрагим и Ахмед. Рассказ // Сердало. — Владикавказ. — 1926. — № 57 (на инг. яз.).
- Ахушков Ш. Три кавказских рассказа // ЦГАЛИ. Ф.613. Оп.1. Д. 4977.182
- Ахушков Ш. Чудова китаянка (соя) / Сценарий. — Харьков, 1931. — 8 с. (на укр. яз.).
- Базоркин А.Б. Горское паломничество // ССКГ. — Тифлис. — 1875. Вып. VIII. Отд. П. — С. 1−12.
- Базоркин А.Б. Воспоминания из путешествия по Чечне // Терек. — 1883.-^2 20−21.
- Базоркин А.Б. Из недалекого прошлого // Терек. — 1883. — № 22.
- Базоркин И.Б. Врачу: исцелися сам // Казбек. — 1905. — JSTo 2211.
- Базоркин И.Б. Панисламизм и русские мусульмане // Каспий. — 1906.-№ 64.
- Базоркин И.Б. Ответ Обш-еству казачьей старины // Терек. — 1911. — № 3917.
- Базоркин И.Б. Неурядицы среди ингушей? // Терек. — 1911. — № 3926.
- Гойгов А.-Г.С. Избранное / Вст. статья, подг. текста и примеч. В. Б. Корзуна. — Грозный: ЧИКИ, 1961. — 218 с.
- Гойгов А.-Г.С. Утро свободы. Избранное. — Грозный: ЧИКИ, 1973. -135 с.
- Гойгов А.-Г.С. Пробуждение. Повести и рассказы. — Грозный: ЧИКИ, 1981.-216 с.
- Горчханов Х.-М. К открытию начального училиш-а в селе Плиево // Терские ведомости. -1911.-№ 215.
- Дахкильгов Б.Х. Через трупы // Сердало. — Владикавказ. — 1926. — № 4, 5, 6 (на ИНГ. яз.).
- Дахкильгов Б.Х. Знахарка. -Владикавказ: Сердало, 1930.
- Джабагиев В.-Г.И. Британская миссия в Кабуле // Санкт- Петербургские ведомости. — 1905. — № 88.
- Джабагиев В.-Г.И. Разбой и ингуши // Санкт-Петербургские ведомости. — 1905. — № 117.183
- Джабагиев В.-Г.И. Доверенные лица ингушского народа перед лицом представителя наместника Его Императорского Величествана Кавказе // Санкт-Петербургские ведомости. — 1905. — № 156.
- Джабагиев В.-Г.И. Мусульмане в России // Санкт-Петербургские ведомости.- 1905.-№ 181.
- Джабагиев В.-Г.И. Что нужно Кавказу? // Санкт-Петербургские ведомости. — 1905. — № 236.
- Джабагиев В.-Г.И. Февральские события в Баку в освещении армянских революционных кружков // Санкт-Петербургскиеведомости. — 1905. — .№ 267.
- Джабагиев В.-Г.И. Император Вильгельм и ислам // Санкт- Петербургские ведомости. — 1905. — Х" 283.
- Джабагиев В.-Г.И. Ингуши и грамотность // Правда. -1906. — Ш 29.
- Джабагиев В.-Г.И. По поводу закрытия Военно-грузинского тракта // Санкт-Петербургские ведомости. — 1906. — JVfo 85.
- Джабагиев В.-Г.И. К англо-турецкому конфликту // Санкт- Петербургские ведомости. — 1906. — К2 94.
- Джабагиев В.-Г.И. Кавказ, автономия и национальный вопрос // Санкт-Петербургские ведомости. — 1906. — № 120.
- Джабагиев В.-Г.И. Низшее сельскохозяйственное образование в Германии // Санкт-Петербургские ведомости. — 1906. — № 282.
- Джабагиев В.-Г.И. К вопросу о высших учебных заведениях на Кавказе // Санкт-Петербургские ведомости. — 1906. — JVb 283.
- Джабагиев В.-Г.И. Распространение ислама со времен падения арабского владычества // Каспий. — 1906. — № 219−220.
- Джабагиев В.-Г.И. По поводу польской политики Пруссии // Санкт- Петербургские ведомости. — 1907. — JN" 36.184
- Джабагиев В.-Г.И. Персия и конституция // Санкт-Петербургские ведомости. — 1907. -JSTo 174.
- Джабагиев В.-Г.И. Инородцы и Россия // Санкт-Петербургские ведомости. — 1907. — № 224.
- Джабагиев В.-Г.И. К аграрному вонросу. Земельная и земледельческая реформы // Санкт-Петербургские ведомости. —1907.-№ 242.
- Джабагиев В.-Г.И. К аграрному вопросу. Низкие цены на хлеб и борьба с ними // Санкт-Петербургские ведомости. — 1907. — }к 244.
- Джабагиев В.-Г.И. Низкие и высокие цены на хлеб // Санкт- Петербургские ведомости. — 1907. — № 250.
- Джабагиев В.-Г.И. Султан Абдул-Хамид // Санкт-Петербургские ведомости. — 1908. — № 161.
- Джабагиев В.-Г.И. К вопросу об индивидуализации крестьянской земельной собственности // Санкт-Петербургские ведомости. -1908.-№ 278.
- Джабагиев В.-Г.И. Сельскохозяйственная агентура в Соединенных Штатах Америки // Санкт-Петербургские ведомости. — 1909. — N2151.
- Джабагиев В.-Г.И. Пробуждение мусульманского мира // Санкт- Петербургские ведомости. — 1909. — № 200.
- Джабагиев В.-Г.И. О реорганизации сельскогхозяйственного кредита // Санкт-Петербургские ведомости. — 1909. — № 277.
- Джабагиев В.-Г.И. Колонизация Дальнего Востока // Россия. — 1911.-№ 1697.
- Джабагиев В.-Г.И. Сельские дополнительные школы в Германии. — СПб., 1913.185
- Джабагиев В.-Г.И. Внешкольное сельскохозяйственное образование в 1912 // Земледельческая газета. — 1914. — Х" 1. — 11−12.
- Джабагиев В.-Г.И. Зимние курсы в Нидерландах // Сельскохозяйственное образование. — 1914. — JVfo 2. — 58−60.
- Джабагиев В.-Г.И. Начальная школа и сельскохозяйственные знания // Сельскохозяйственное образование. — 1914. — № 4. — 199−204.
- Джабагиев В.-Г.И. Нренодавание сельского хозяйства в народных школах Боснии и Герцеговины // Сельскохозяйственноеобразование. — 1914. — № 4. — 228−229.
- Джабагиев В.-Г.И. Высшие народные школы в скандинавских государствах // Сельскохозяйственное образование. — 1914. — № 5.- С. 258−264.
- Джабагиев В.-Г.И. Нромышленная сушка картофеля. — Петроград, 1915.
- Джабагиев В.-Г.И. Свободная земельная собственность и техника сельского хозяйства в Европе. — Нетроград, 1915.
- Джабагиев В.-Г.И. Очередные задачи отечественного производства сельскохозяйственных машин и орудий и торговля ими //Земледельческая газета. — 1915. — № 38. — 1068−1069.
- Джабагиев В.-Г.И. К вопросу о реформе местного самоуправления и управления в Терской области // Горская жизнь. — 1917. — JVfo 1.
- Джабагиев М.И. Галгайские (ингушские) народные публикации. — Владикавказ, 1889−1897 (рукопись).
- Джабагиев М.И. Ингуше-чеченская азбука. — Владикавказ, 1908.
- Джабагиев М.И. Ингушские народные песни // Фольклор Азербайджана и прилегающих стран. Т. 3. — Баку, 1930. — 196−202.186
- Джабагиев М.И. Ингушские народные тексты / Перевод, комментарии и введение в ингушскую грамматику Ж. Дюмезиля. -Париж, 1935.
- Джабагиев М.И. Ингуши — большие политики. О февральских днях 1917 г. во Владикавказе // Эхо гор. — 1992. — № 3.
- Долгиев А.-Г.О. Несколько слов о Пазрановской горской школе // Терские ведомости. — 1870. — ЛГа 35.
- Долгиев И. Смерть Мехти Идриса // Терские ведомости. — 1911. — № 269−270.
- Долтмурзиев Красный Верден // Сердало. — Владикавказ. — 1926. — № 69−71, 74−75, 77, 80, 83−86.
- Котиев М.Ч. Есть ли ингуши-учителя? // Терские ведомости. — 1911.-№ 157.
- Котиев М.Ч. Голос учителя-ингуша // Терские ведомости. — 1911. — № 158.
- Мальсагов Д.Д., Мальсагов О. А. Перелом. Драма в 4-х действиях. — Ростов-на-Дону: Северный Кавказ, 1931. — 40 с.
- Мальсагов Д.Д. Поток Армхи. Поэма. — Владикавказ, 1933.
- Мальсагов Д.Д. Современное состояние искусства в Ингушетии // Революция и горец. — 1933. — .№ 2−3. — 99−104.
- Мальсагов Д.Д. К постановке изучения чечено-ингушского фольклора // Революция и горец. — 1933. — № 5 (56). — 58−64.
- Мальсагов Д.Д. О некоторых непонятных местах в «Слове о полку Игореве» // Известия Чечено-Ингушского НИИ. — Грозный, 1959. -Т. 1.-Вып. 2. — С. 120−167.
- Мальсагов Д.Д. Избранное / Сост., автор предисл. и примеч. А. У. Мальсагов. — Нальчик: Эль-Фа, 1998. — 504 с.
- Мальсагов З.К. Нраздник Ингушетии // Горская правда. — 1923. — <�№ 96.
- Мальсагов З.К. Похиш-ение девушки (Йо1 йодаяр). Одноактная пьеса. — Владикавказ, 1923.
- Мальсагов З.К. Вайнаьха дешар // Сердало. — 1924. — № 4 (12).
- Мальсагов З.К. Вайнаьха йоазув хьехарашка // Сердало. — 1924. — JNTs 4(12).
- Мальсагов З.К. Наьна мотт // Г1алг1ай абат. — Владикавказ, 1924. — 42−45.
- Мальсагов З.К. Вай деза ди // Сердало. — 1925. — № 17.
- Мальсагов З.К. Ингушская грамматика со сборником ингушских слов. — Владикавказ: Сердало, 1925. — 153 с.
- Мальсагов З.К. Кровная месть (Нхьа). Четырехактная пьеса. — Владикавказ, 1927.
- Мальсагов З.К. Культурная работа в Чечне и Ингушетии в связи с унификацией алфавитов. — Владикавказ: Сердало, 1928. — 14 с.
- Мальсагов З.К. К вопросу о классных элементах в нахском языке // Известия Ингушского научно-исследовательского институтакраеведения. — Владикавказ, 1930. — Т. 2−3.
- Мальсагов З.К. Очерк аккинского (ауховского) языка // Известия Ингушского научно-исследовательского института краеведения. -Грозный, 1936. — Т. 1 (4). — Вып. 1. — 72−90.188
- Мальсагов З.К. Чеченский народный стих // Известия Ингушского научно-исследовательского института краеведения. — Грозный, 1936.-Т. 4.-Вып. 2. — С. 192−201.
- Мальсагов З.К. Избранное / Пер. Ф.Г. Оздоевой- вступ. ст. В. Б. Корзуна. — Грозный, 1966.
- Мальсагов З.К. Избранное / Сост., автор предисл. и примеч. А. У. Мальсагов. — Нальчик: Эль-Фа, 1998. — 376 с.
- Мальсагов О. А. Налет на Плиево // Сер дало. — 1927. № 33.
- Мальсагов О.А. Югассовая борьба в ауле. Пьеса. — Владикавказ: Сердало, 1930.
- Мальсагов О.А. Салихат. Пьеса. — Владикавказ: Сердало, 1930.
- Мальсагов О.А., Мальсагов Д. Д. Перелом. Драма в 4-х действиях. — Ростов-на-Дону: Северный Кавказ, 1931. — 40 с.
- Мальсагов А. Адский остров // Сегодня. — Рига. — 1925. — № 271- 274, 276−280, 288−290, 292−293.
- Мурзабеков О.Т. Перед сном // В мире мусульманства. — 1911. — >Г2 9.
- Мурзабеков О.Т. Пробуждение // В мире мусульманства. — 1911. — № 28.
- Мурзабеков О.Т. Старик Дамба // Мусульманин. — 1911. — JST" 5. — 224−230.
- Мурзабеков О.Т. Примерный мулла // Мусульманин. — 1911. — № 5. — С. 231−232.
- Мурзабеков О.Т. Эривань // Мусульманин. — 1911. — № 8−10. — 376−378.189
- Мурзабеков О.Т. Возрождение ингушей // Мусульманин. — 1911. — № 22−23.-С. 933−938.
- Мурзабеков О.Т. Триста злотых // Фольклор Азербайджана и прилегающих стран. Т. 2. — Баку. — 1930. — 168−173.
- Муталиев Х.-Б. Око за око, зуб за зуб. Пьеса в 3-х действиях // Сердало. — Владикавказ. — 1928. — № 20.
- Осмиев Х.С. Семь дней борьбы // Сердало. — Владикавказ. — 1925. — № 77 (на ИНГ. и рус. яз.).
- Осмиев Х.С. За власть Советов // Сердало. — Владикавказ. — 1928. — № 11,23,25.
- Осмиев Х.С. Отец и дети. Рассказ // Сердало. — Владикавказ. — 1928. — № 6 (на ИНГ. яз.).
- Темботов (Котиев М.Ч.). Советская власть на Тереке. Революция и ингуши // Вольный горец. — Тифлис. — 1920. — № 64−66.
- Тутаев А. Скачки «Мархий ц1ей» // Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Пазрань-Москва, 2000. — 232−233.
- Тутаев А. Г1алг1ай мархий бутт ц1ей // Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Пазрань-Москва, 2000. — 230−232.
- Тутаев А. Тушоли ц1ей // Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Пазрань-Москва, 2000. — 234−235.
- Тутаев А. Царь Аландий // Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Пазрань-Москва, 2000. — 236.
- Тутаев А. Галгаевцы // Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Пазрань-Москва, 2000. — 236−239.
- Тутаев А. Приезд грузинской царицы Тамары в горную Ингушетию // Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Пазрань-Москва, 2000.-С. 239−241.
- Тутаев А. Галгаевцы в Санибе // Ингушетия и ингуши / Сост. М. Д. Яндиева. — Пазрань-Москва, 2000. — 241.190
- Тутаев А. Князь Бексултан Бораганов // Сердало. — 1997. — № 83−89. -1998.^^01−2.
- Ужахов X. Шейх // Сердало. — Владикавказ. — 1925. — 9 декабря (на ИНГ. яз.).
- Ханиев. Распространение «Сердало» // Сердало. — Владикавказ. — 1923. -?^2 2 (на ИНГ. яз.).
- Ханиев. В Ангуште // Сердало. — Владикавказ. — 1923. — ХаЗ (на ИНГ. яз.).
- Ханиев. Молодежи надоели отжившие обычаи // Сердало. — Владикавказ. — 1923. — JST" 7 (на инг. яз.).
- Ханиев. Пистолет Хизира // Сердало. — Владикавказ. — 1923. — № 9 (на ИНГ. яз.).
- Чахкиев, Ужахов X. Несчастный брак. Пьеса // Сердало. — Владикавказ. — 1928. — № 77 (на инг. яз.).
- Шадиев A.M., Гайсанов А. Мюрид. Пьеса в 4-х действиях. — Владикавказ: Сердало, 1930 (на инг. яз.).191