Миф о кавалерист-девице и «Записки.. .» Н. А. Дуровой: на пути к утопии как реальности
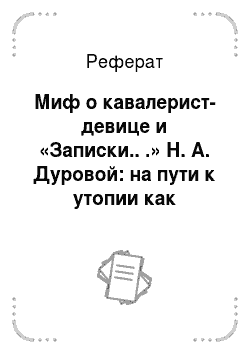
Тогда ее имя могло бы стать известным повсюду. Но, зная принципиальное желание Надежды Андреевны всеми способами скрыть свой пол и настоящее имя, трудно представить, чтобы она пожертвовала своим инкогнито ради суетного желания стать «героиней», получив официальное признание. Ведь и без того история «кавалерист-девицы» стала объектом самых чудовищных вымыслов и грязных сплетен. Упоминание о них… Читать ещё >
Миф о кавалерист-девице и «Записки.. .» Н. А. Дуровой: на пути к утопии как реальности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Биография Н. А. Дуровой до сих пор изучена недостаточно. Документальные свидетельства, касающиеся тех или иных сторон ее жизни, относятся главным образом ко времени ее военной службы, то есть периоду 1806−1816 гг. Эти документы начали собираться и систематизироваться еще в 30-е гг. XIX в., когда Дуровой официально заинтересовался императорский двор в связи с «подношением» ею двух экземпляров своих «Записок» императору Николаю I. Зато много сложностей возникает с другими периодами ее жизни, о которых практически не сохранилось документальных свидетельств. Это долгое время заставляло исследователей или обходить эти периоды молчанием, или пускаться в область фантазии. Особенно это относится к 1817−1835 гг., то есть к промежутку времени между отставкой Дуровой и началом ее литературной деятельности.
Много трудностей связано также и с первым периодом ее жизни до ухода в армию. Долгое время единственным «документом», где можно было почерпнуть сведения об этом периоде, были «Записки» самой Дуровой. Между тем, еще А. Сакс в своей работе замечал, что «относиться к этим сведениям приходится очень осторожно» [Сакс, с. 5].
Гораздо лучше освещен пятилетний (1836−1840) период ее литературной работы, от которого до нас дошли автобиографические свидетельства самой писательницы, отзывы современников, переписка Н. А. Дуровой, а также период 1848—1866 гг. (жизнь в Елабуге), о которых достаточно подробно писали биографыисследователи Т. Кутше и Ф. Лашманов.
Надо признать, что и при жизни писательницы о ней было известно до обидного мало. Так, ее двоюродный брат И. Г. Бутовский, достаточно известный в свое время переводчик, писал историку А. Михайловскому-Данилевскому в 1837 г., рассказывая об удивительной судьбе своей родственницы: «Писать обо всем этом (между прочим, и о причине отставки) при жизни сочинительницы нельзя, хотя и очень интересно» [Письмо Бутовского И. Г. генераллейтенанту Д. И. Михайловскому-Данилевскому].
Бутовский пережил Дурову на восемь лег (он умер в 1874 г.), но так и не раскрыл нам «тайн» своей двоюродной сестры. Сама же Дурова достаточно энергично пресекала все попытки выяснения обстоятельств ее жизни помимо тех сведений, которые она сообщила в «Записках кавалерист-девицы».
Когда в 1861 г. издатель «Русской патриотической библиотеки» В. М. Мамышев просил Дурову дать ему свою полную биографию для его серии «Георгиевские кавалеры», она опять же отослала его… к своим «Запискам», заявив: «В истинности всего нами написанного я удостоверяю честным словом и надеюсь, что Вы не будете верить всем толкам и суждениям, делаемым и вкривь и вкось людьми-сплетниками» [Цит. по: Сакс, с. 22]. Эта забота Дуровой о том, чтобы ее имя не стало поводом для сплетен и пересудов, была отнюдь не праздной. О том, что подобные попытки предпринимались еще в бытность ее в Петербурге в 1836—1840 гг., неопровержимо свидетельствует сама Дурова. Достаточно вспомнить ее автобиографическую повесть «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» или письмо к А. Краевскому от 2 ноября 1838 г., в котором она жалуется на клевету со стороны некоего Герсеванова: «Этот человек вскинулся на меня с остервенением, написал какую-то подлость» [Письмо Дуровой Н. А. А. А. Краевскому…][1].
Данное обстоятельство обязывает нас осмотрительно и взвешенно относиться к каждой детали биографии Дуровой, исходя из того, что конечной задачей любого исследования является не создание или, наоборот, разрушение мифа о «кавалерист-девице», но беспристрастное установление истины.
Традиционно считается, что Надежда Андреевна Дурова родилась 17 сентября 1783 г. вблизи города Херсона на Украине в семье небогатого гусарского офицера Андрея Васильевича Дурова. Лишь в 2011 г. писательница и замечательный знаток истории русской кавалерии эпохи Наполеоновских войн А. Бегунова на основе работы с архивами установила, что «отец „кавалерист-девицы“ Андрей Васильевич Дуров никогда в гусарах не служил» [Бегунова, с. 12]. Следовательно, «слова о покорившем сердце юной красавицы гусарском ротмистре» лишь «придают рассказу некий романтический флер» [Там же]. На самом деле в 1781—1782 гг., когда происходит знакомство А. В. Дурова с семейством Александровичей, он был армейским пехотным капитаном, командуя ротой в Белевском пехотном полку. Об этом свидетельствуют три его послужных (формулярных) списка, датируемых 1786, 1807 и 1825 гг. Только лишь полтора года с марта 1787 г. по июль 1788 г. он был ротмистром Полтавского легкоконного полка, командиром которого в 1793—1796 гг. был отец легендарного партизана 1812 г. Дениса Давыдова В. Давыдов.
Род Дуровых был дворянским родом Уфимской губернии. Сам Андрей Васильевич считал основателями рода смоленско-полоцких шляхтичей Туровских, которые в середине XVII в. служили в гарнизоне города Смоленска. После того как Смоленск был взят русскими войсками царя Алексея Михайловича, пленных шляхтичей общим числом 250 человек, среди которых были и Туровские, было велено поселить около реки Камы, дав им надел земли, но заставив взамен принять православную веру. Уже к XVIII в. род Туровых-Дуровых разорился, так что отец Надежды Андреевны владел лишь одной деревней Вербовкой в Сарапульском уезде со 125 душами крестьян.
Мать писательницы Надежда Ивановна, урожденная Александрович, происходила из богатой семьи малороссийских помещиков, ведущих свой род от казаков Запорожской Сечи. Жили Александровичи в имении Великая Круча, расположенном в Полтавской губернии в семи верстах от города Пирятина. Семья была патриархальная, большая и дружная. Кроме Надежды Ивановны, у ее отца Ивана Ильича Александровича, подкомория (полкового казначея) Лубенского повета, было еще четыре дочери и два сына.
Настоящее имя матери Дуровой вызывает сомнения. В росписи Сарапульского Вознесенского собора за 1797 г. ее имя приводится как Анастасия Ивановна. Что касается публикаций XIX в., то Е. Некрасова в своей статье «Надежда Андреевна Дурова», напечатанной в «Историческом вестнике» за 1890 г., называет ее даже… Марфой Тимофеевной. Примечательно, что сама Надежда Дурова имя своей матери в записках не называет ни разу.
Брак родителей Дуровой был заключен по страстной взаимной любви, напоминающей страницы романтической повести: невеста, получив отказ со стороны своих родителей, убежала из дома, молодые венчались тайно, в результате чего отец проклял непокорную дочь. Но несмотря на это романическое начало брака, его сложно назвать однозначно счастливым. Трудная кочевая жизнь армейского офицера, находящегося в невысоком чине, тяжелые материальные условия жизни — все это разительно отличалось от того спокойного обеспеченного существования, которое Надежда Александрович вела в родительском доме. Сложности, с которыми постоянно сталкивалась юная женщина, которой к моменту заключения брака едва исполнилось 16 лет, в сочетании с ее пылким неуравновешенным характером способствовали созданию тяжелой нервозной атмосферы в домашнем быту Дуровых. Со временем эта атмосфера лишь усугубилась изменами Андрея Васильевича, человека доброго, но слабохарактерного, непостоянного в своих привязанностях и часто меняющего предметы своих увлечений.
В отечественной исследовательской литературе отношение к матери Надежды Андреевны традиционно отрицательное. Ей ставились в вину ее капризность, вспыльчивость, жестокость и деспотизм по отношению к старшей дочери. Да и сама Надежда Андреевна в своих мемуарно-автобиографических произведениях не скупится на «черные краски» в изображении мелочной дотошной опеки матери, буквально ни на минуту не спускавшей с нее глаз. Так, в «Добавлениях к запискам кавалерист-девицы», в главе «Детские лета мои», описывается эпизод, когда мать Дуровой наблюдает за проделками дочери в подзорную трубу из окна своей спальни! Таких примеров можно найти очень много и в «Записках», где Дурова настойчиво подчеркивает строгий неусыпный надзор матери, не дозволявшей ей ни одной «юношеской радости».
Между тем, обращение к документам тех лет, сохранившимся в архивах Сарапула, заставляет усомниться даже в физической возможности для матери Дуровой таких постоянных целенаправленных наблюдений и опеки исключительно за старшей дочерью.
Как известно из «Записок…», до шестилетнего возраста юная Надежда находилась на руках отцовского ординарца Астахова, ставшего для нее «дядькой». В это время между 1783 и 1788 г. Надежда вместе с семьей кочует по южным губерниям России за полком, в котором служит ее отец. Именно в этот период юная Дурова и приобрела те «гусарские» замашки, которые будут так сердить в дальнейшем ее мать и окажут такое большое влияние на последующую жизнь Надежды. Мать взялась за воспитание дочери, когда той уже исполнилось шесть лет. Причиной такого необыкновенного факта стал необдуманный и страшный поступок Надежды Ивановны, когда та, раздраженная неумолкающим плачем дочери, выбросила ее из окна кареты, едва не убив грудного ребенка. После этого отец Дуровой надолго запретил своей жене заниматься дочерью.
К этому времени ее отец уже оставил военную службу. Бедность и общая неустроенность быта заставляют его торопиться с определением на службу гражданскую. Отправив жену с детьми в Малороссию, Дуров едет в Санкт-Петербург хлопотать о месте. Этим местом оказывается должность городничего в уездном городе Сарапуле Вятской губернии.
Можно с полной уверенностью сказать, что события до 1789 г., как они описаны в «Записках» Дуровой, полностью согласуются с истинным положением дел. Супруги Дуровы с дочерью Надеждой приехали в Сарапул осенью 1789 г. Семья городничего поселилась на пересечении улиц Большой Покровской и Владимирской (ныне ул. Труда и ул. Седельникова) вблизи речки Юрманки, которая впадала в Каму. Факт переезда Дуровых в Сарапул подтверждается записью в метрической книге Вознесенского собора от 3 августа 1790 г., где говорится о рождении у секундмайора дочери Евгении, восприемницей которой стала его дочь Надежда.
Что же касается периода с 1790 по 1796 г., года отъезда Надежды Дуровой на Украину, то тут возникает множество вопросов и сомнений. Главный из этих вопросов — взаимоотношения матери и дочери и то, как эти отношения могли повлиять на позднейшее решение Дуровой уйти в армию.
Жизнь матери Дуровой в Сарапуле не была легкой: суровый климат, так отличающийся от мягкого климата ее родной Малороссии, частые простуды, которые вскоре вызовут серьезное заболевание легких, переросшее в чахотку, хлопоты по большому хозяйству, необходимость играть роль первой дамы города.
Судя по сохранившимся архивам Вознесенской церкви, только за первые шесть лет пребывания четы Дуровых в Сарапуле у молодой городничихи родилось пятеро детей. Дочь Евгения в 1790 г., Клеопатра — в октябре 1791 г., Евгения — в июне 1793 г., Варвара — в январе 1795 г., Анна — в октябре 1796 г. Из всех детей в живых осталась только Клеопатра, остальные умерли в младенческом возрасте. Уже в это время Андрей Васильевич начинает изменять своей жене.
Красавица-малороссиянка, оставившая ради бедного незнатного армейского офицера богатство, почет, спокойный обеспеченный образ жизни, почувствовала себя смертельно оскорбленной. Ревность к мужу, которого она продолжала любить, участившиеся семейные сцены, несомненно, ожесточили ее характер, сделав его еще более нетерпимым. Но, вместе с тем, эти же обстоятельства вызывают недоверие к мемуарным свидетельствам Дуровой. Она ни словом не упоминает в своих «Записках» о семейных разладах 1790−1796 гг., равно как и о рождении у нее в 1790—1796 гг. многочисленных сестер, в то время как неоднократно рассказывает о детях, родившихся у ее матери еще до переезда в Сарапул, на которых Надежда Ивановна якобы переносит всю свою нежность, лишив этой нежности старшую дочь. Между тем, трудно предположить, что постоянные роды, смерть детей, измены мужа, болезни, большое хозяйство, необходимость играть роль первой дамы города занимали Надежду Ивановну гораздо меньше, чем непокорность старшей дочери, не желавшей сидеть за коклюшками, и она находила время буквально для ежеминутного надзора за ней.
Вообще, в воспоминаниях Дуровой чувствуется настойчивое желание подчинить все факты своей биографии одной единственной цели — оправданию своего ухода в армию. Этому, без сомнения, служит и описание ее жизни в родительском доме как постоянной цепи страданий от деспотизма матери.
Тем не менее, нельзя не признать обоснованности точки зрения И. Савкиной, отмечавшей, что «в каком-то смысле мать оказывается для Надежды образцом и даже двойником» [Савкина, с. 207]. Для доказательства этого странного, на первый взгляд, вывода достаточно обратиться к кольцевой композии части записок, посвященной детским годам героини. Повествование о детстве «начинается и заканчивается эпизодом женского бунта и побега из родительского дома» [Там же]. В первом случае из дома бежит ее мать, чтобы против воли отца соединить свою судьбу с Андреем Дуровым, во втором случае сама Надежда Андреевна бежит из дома, чтобы избавиться от ставшей ненавистной для нее обычной женской судьбы. В обоих случаях героини находятся в одном и том же возрасте: мать Дуровой бежит из дома в конце пятнадцатого года своей жизни, Дурова, в соответствии с хронологией записок, в тот момент, когда ей едва минуло 16 лет. И. Савкина отмечает, что в сцене побега матери Дуровой «нарратор практически отожествляет себя с героиней: она подробна, переполнена фактическими и психологическими деталями („В одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати“, а в конце отрывка грамматическое прошедшее время сменяется настоящим» [Там же, с. 208]. Трудно представить, чтобы Дурова могла просто придумать все эти детали побега матери. Можно предположить, что она не один раз слышала от матери этот рассказ. И то, что мать в данной сцене вела себя как романтическая бунтарка, безусловно, могло восприниматься дочерью как гендерный образец для подражания.
Даже на уровне текстологического анализа «Записок» совершенно очевидно, что, рассказывая историю двух побегов, Дурова не может избежать естественных параллелей между ними даже на лексическом уровне. И в том, и в другом случае действие разворачивается темной и ветреной осенней ночью, героини тихо выскальзывают из родительского дома, затворив за собой двери, поспешно убегают от него: одна — чтобы сесть в коляску, где ее поджидает нетерпеливый любовник, другая — чтобы сесть верхом на любимого коня Алкида.
Кроме того, по мнению М. Голлер, Дурова «чувствует сильную идентификацию с матерью», описывая сцены измен ей со стороны отца [Goller, s. 85]. Именно в этих эпизодах, упоминая о том, что «батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвращался к матери моей» [Дурова, 1983а, с. 39][2], Дурова, говоря о матери, в первый и последний раз использует оценочные определения «несчастная мать моя» (с. 38), «бедная мать моя» (с. 273).
Второй важный тезис, который Дурова выдвигает и защищает при каждом удобном случае, подчеркивая те глубокие корни, которые пустило в ней гусарское воспитание в раннем детстве, когда она уже к четырем годам «знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей», «с плачем просила, чтобы она [мать] дала мне пистолет пощелкать» (с. 29), — стремление смотреть на военную службу как на судьбу, предопределенную ей свыше с самых юных лет.
Несомненно, что полученное Дуровой в раннем детстве воспитание, давшее особый поворот ее мыслям, и тяжелая обстановка в родительском доме, отсутствие должного понимания со стороны самого близкого ей человека, матери, были теми первыми толчками, которые заставили ее думать об изменении своей участи. Однако причины, указанные выше, оказались бы бессильны подвигнуть Дурову к такому решению, если бы не соединились с врожденной неукротимостью ее натуры, постоянно приходящей в столкновение с узаконенными моралью и обычаями представлениями начала XIX в. о том, какой должна быть благовоспитанная барышня, дочь городничего.
Свободолюбивая и независимая, с решительным мужским характером, Надежда проявляет полнейшее равнодушие и даже пренебрежение к обычным женским занятиям и интересам, предпочитая им верховую езду, опыты с порохом, шумные подвижные игры. Чего стоит описание ее экспериментов с порохом, когда она начиняет им найденную на улице полую гусарскую пуговицу и бросает в печь! В результате вылетевшая из печи, подобно снаряду, пуговица стала со свистом летать по избе, в конце концов лопнув близ ее головы и повредив кожу на макушке, отчего «капли крови вмиг разбрызнулись по всем локонам» (с. 272). Достаточно своеобразными для юной барышни были и ее забавы на природе, во время которых она любила влезать на «тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками», соскакивать вниз, чтобы «молодое деревцо легонько ставило меня за землю» (с. 32).
В ней удивительным образом сочетаются доброта и отзывчивость натуры, готовность придти на помощь и замкнутость, привычка полагаться только на себя, скрывать свои мысли и чувства от окружающих ее людей. Любовь к животным, проявившаяся уже в юные годы, часто также становилась причиной рискованных шалостей. Жертвами этих «шалостей» могли стать дворовые девушки бабушки на Украине, все эти Гапки, Хиври, Марты, за которыми она бегала, держа в руке настоящую змею, и которые «с неистовым воплем старались укрыться куда попало от протянутой вперед руки моей, в которой рисовалась черная змея!» (с. 261). Иногда жертвой подобных розыгрышей становилась даже мать Надежды, как это произошло в истории с филином, которого девочке принесли из леса и которого она несколько дней кормила в саду, прежде чем принесла в горницу и, «выставив из-за печи 26.
одну только голову птицы, едва было этою фарсою не перепугала насмерть свою мать" (с. 265).
До 14 лет Дурова жила в Сарапуле, в родительском доме, а в 1796 г. мать отправляет ее к родственникам в Великую Кручу (Украина). Очевидной причиной этого поступка было желание уберечь подрастающую дочь от участившихся семейных сцен, безнравственного поведения отца, почти открыто взявшего на содержание девушку-мещанку. Это подтверждается еще и тем фактом, что спустя некоторое время Надежда Ивановна в порыве отчаяния сама оставляет мужа и вместе с детьми уезжает на родину на Украину. Сама же Дурова указывала в «Записках» совсем другую причину своего удаления из родительского дома в Сарапуле. По ее словам, ненависть к ней матери в это время так усиливается, что та решает отправить ее подальше с глаз долой.
В Великой Круче в это время жили бабушка Дуровой Ефросинья Григорьевна, дядя Порфирий Иванович и незамужняя тетушка Ульяна. Жизнь у родственников, горячо любивших и баловавших ее, благотворно повлияла на характер девушки, смягчила его. В отличие от матери, которая неустанно твердила ей о горькой женской судьбе, рисуя положение женщины даже привилегированного сословия в самых мрачных тонах, родственники сумели показать Надежде и светлые стороны женской судьбы. Находясь в гостях у тетушки А. Значко-Яворской, она танцует на балах, пользуется определенным успехом у местных молодых людей. Именно тут, в Малороссии, она переживает свое первое романтическое увлечение — любовь к сыну местной помещицы Киряковой. Правда, увлечение это закончилось самым прозаическим образом. Мать жениха узнала о бедности невесты, и дело расстроилось. Крушение своей первой девичьей любви Дурова переживала очень тяжело. Жизнь как бы доказывала ей, что и простое женское счастье для нее заказано: она фактически бесприданница, да к тому же нехороша собой. В десять лет Дурова перенесла оспу, испортившую ее лицо.
Между тем, в жизни Дуровой опять назревали перемены. Мать, отправившая ее на Украину, теперь настойчиво звала ее обратно в Сарапул. Причиной этого были события, разыгравшиеся в 1798 г. В этот год между супругами Дуровыми произошел решительный разрыв, после чего Надежда Ивановна уехала на Украину. Однако в конце концов Андрею Васильевичу удалось вымолить у жены прощение, и мать Дуровой вернулась в Сарапул. В январе 1799 г. в семье рождается долгожданный наследник — сын Василий, а в 1801 г. — еще одна дочь Евгения. Ко времени возвращения Дуровой в отеческий дом ей уже исполнилось 16 лет, возраст, в котором она в «Записках» уходит в армию. На самом деле в этом возрасте мемуаристка ведет размеренную жизнь девушки на выданье. Вскоре по возвращении Надежды в родной дом мать начинает думать о ее будущем. Приняв во внимание историю с молодым Киряковым, она пришла к выводу, что Надежда может сделать хорошую партию только здесь, в Сарапуле, где ее отец в качестве городничего имел вес и значение.
В «Записках», повествуя о своей жизни дома в этот период, сама мемуаристка признается, что уже смирилась со своей участью уездной барышни. Именно поэтому гак неубедительно выглядит ее неожиданное решение уйти в армию, своей немотивированностью напоминая или минутный каприз или же, чего более всего хотелось Дуровой, следование своему предназначению, определенному для нее роком.
Выпавшее звено было восстановлено священником Вознесенского собора города Сарапула отцом Н. Блиновым на основе церковного архива. Им был найден документ о венчании Надежды Андреевны 25 октября 1801 г. с дворянским заседателем сарапульского Нижнего земского суда Василием Степановичем Черновым, имевшим по Табели о рангах самый низший 14-й чин коллежского регистратора и соответствующее жалование — 200 рублей в год. Помимо самого факта замужества «кавалерист-девицы», Блинов не забыл приложить к найденному им документу и свою версию о причинах ухода Дуровой в армию. По этой версии выходило, что Дурова ушла в армию за неким есаулом казачьего полка. В Гродно он ее бросил, и она поступила вольноопределяющимся, то есть товарищем, в Коннопольский уланский полк.
О замужестве Дуровой много писали сразу же после опубликования блиновской статьи, которая дала повод к двусмысленным ироническим замечаниям. Так, Д. Мордовцев, ранее посвятивший Дуровой свой исторический роман «1812 год», теперь писал в статье «Маленькое открытие»: «Ах, Надежда Андреевна! Зачем вы нас обманывали? Мы так любили милый образ 16-летней девушки, совершившей столько подвигов. Сколько хороших, чистых слез умиления пролито на страницы ваших записок юными читателями и читательницами, а знай они, что вы не шестнадцатилетняя девочка, может быть, ни одной бы слезинки не пролили» [Мордовцев, с. 126].
Надо признать, однако, что для большинства исследователей биографии Дуровой установленный факт замужества «кавалеристдевицы» все же не стал поводом для сочинения романических историй, но превратился еще в одно доказательство проявления родительского деспотизма по отношению к мемуаристке. Рассмотренное в подобном контексте, замужество должно было стать последней каплей, которая заставила Надежду Андреевну думать о побеге.
Так, А. Сакс писал: «Родители, как это часто делалось в те времена, просто выдали ее замуж, не считаясь с ее желаниями. Предположение же, что она вышла замуж просто по влечению к молодому Чернову, менее правдоподобно, если мы примем во внимание особенности характера Дуровой» [Сакс, с. 6].
Еще более категоричен в этом вопросе Б. В. Смиренский, который заявляет: «Пришло время, и мать выдала непокорную дочь замуж. Этот брак был заключен без любви, по настоянию родителей» [Смиренский, с. 4]. И уж совсем душераздирающую картину рисует писатель В. А. Клементовский: «Несчастная Надя горячо умоляла родителей не выдавать ее за этого толстого, ехидного крючкотворца и взяточника, но ничто не тронуло их» [Клементовский, с. 179].
Думается, что рассуждать подобным образом у нас нет никаких оснований. Брак вполне мог быть заключен не только против воли невесты, но и по ее сердечной склонности к жениху.
Во-первых, несмотря на свои «гусарские» замашки, Дурова в юности совсем не была принципиальной противницей брака. Даже в своих «Записках» она подробно рассказывает о романтическом происшествии с Кирияковым, которое вполне могло завершиться браком, если бы мать жениха не узнала о бедности невесты. Таким образом, если мог состояться брак с Кирияковым, почему не мог состояться брак с В. Черновым?
Во-вторых, трудно поверить, чтобы столь сильная натура, какой была Дурова, примирилась с замужеством против ее воли, если учесть, что даже в детстве мать не могла ее заставить сесть за рукоделие. Тем более, Надежда была любимицей своего отцагородничего, который вряд ли бы позволил столь явное насилие над своей старшей дочерью.
Наконец, в-третьих, брак с молодым, незнатным и нечиновным В. Черновым, имеющим 14-й чин по Табели о рангах, вряд ли мог считаться такой уж хорошей партией для старшей дочери городничего. Именно молодость и нечиновность Чернова как нельзя лучше убеждают в отсутствии каких-либо расчетов и выгод со стороны родителей невесты.
Косвенным доказательством этого предположения служит повесть Дуровой «Елена, т-ская красавица», произведение во многом автобиографическое. Есть все основания предполагать, что образ Лидина, мужа главной героини, имел в качестве прототипа В. Чернова. Дурова пишет о нем: «Он был собою молодец, довольно ловкий с дамами, довольно вежливый со старухами, довольно образованный, довольно сведущий по тамошнему месту, довольно буйный, довольно развратный» (с. 310−311). Что касается двух его последних качеств, то он их «тщательно скрывал».
7 января 1803 г. в Сарапуле у Дуровой родился сын, названный при крещении Иваном. Тем не менее, брак Дуровой был неудачным с самого начала. Чернов оказался совсем не тем человеком, за которого он выдавал себя перед невестой. Если в Сарапуле он еще сдерживал себя, опасаясь гнева отца жены, то, отправившись в длительную командировку в Ирбит, куда поехала с ним и Дурова, он, видимо, решил привести жену к повиновению. Возможно, он даже поднял на нее руку, как это происходит и с героиней повести «Елена, т-ская красавица». Но как в повести героиня, обладающая немалой силой, скоро начинает давать мужу отпор, отвешивая ему полновесные оплеухи, так и Дурова, видимо, скоро начала настоящую войну со своим супругом. Однако жить вместе с человеком, которого она не любила, она уже не могла. Поэтому, не прожив в браке и двух лет, она возвращается в Сарапул, в дом отца.
О дальнейшей судьбе В. А. Чернова мы ничего не знаем. А. Бегунова установила, что в «Месяцеслове с росписью чиновных особ…» за 1803, 1804, 1805, 1806 гг. среди чиновников российских губерний его фамилии уже не значится [Бегунова, с. 59]. Это обстоятельство дает возможность предположить, что В. Чернов к этому времени или умер, или пропал без вести, или находился в бегах, например, за растрату или какое-нибудь уголовное преступление, возможно, даже был осужден. Судя по тому, что в 1808 г. старик Дуров хлопотал о помещении своего внука Ивана Чернова в казенное военное заведение для детей-сирот, это кажется более чем вероятным. Можно предположить, что в этот период Иван уже постоянно жил в доме городничего[3][4][5][6].
Возвращение Дуровой домой было воспринято в семье как позор. Поскольку официального развода с мужем она, естественно, не получила, живя с ним «в разъезде», то ее положение в родительском доме было весьма двусмысленным. Мать Надежды Андреевны, занятая младшей дочерью Евгенией, которой не исполнилось еще пяти лет, уже тяжело больная, вела в это время почти затворнический образ жизни, не появляясь в обществе. Она пыталась лечиться, ездила в Вятку к известному лекарю Аппелю, а также к доктору Граалю в Пермь.
Все существующие в семье трудности только усугублялись теперь неудавшимся замужеством старшей дочери, ее присутствием в доме, которое вызывало сплетни и пересуды.
Для самой Дуровой это было крахом всех ее мечтаний и надежд. Теперь ей уже не из чего было выбирать. Даже обычная женская судьба с замужеством, маленькими семейными радостями, детьми для нее была теперь заказана.
Несомненно, только сейчас, в 1804—1805 гг., она начинает серьезно думать об изменении своего гендерного статуса, о возможности «социального изменения» своего пола, что давало бы ей возможность «сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить» (с. 40). Прирожденная страсть к свободе теперь ложится на уже подготовленную почву. Только сейчас, в 1805 и начале 1806 г., она начинает серьезно думать о побеге, то есть находит для себя единственно приемлемый в сложившейся ситуации выход, когда все пути назад оказываются отрезанными. В 1805 г. соединяются воедино и объективные, и субъективные предпосылки ее решения. Так, если бы Дурова ушла в армию в 1798 или 1799 г. в 16 лет (возраст ухода в армию героини «Записок»), то она столкнулась бы с массой трудностей, которые помешали бы ей в исполнении ее желания. Сложности возникли бы прежде всего с ее оформлением в полк, так как у Дуровой не было с собой никаких документов, подтверждающих ее личность, а, тем более, ее дворянское происхождение. В условиях же начинающейся войны, концентрации русских войск на западной границе вся процедура ее зачисления в полк была значительно упрощена.
- 17 сентября 1806 г., в день, когда ей исполнилось 23 года, Дурова уезжает из родительского дома, воспользовавшись присутствием в окрестностях Сарапула казачьего полка, присланного для борьбы с разбойничьими шайками. А. Бегунова на основе архивных документов установила, что это был Донской казачий майора Балабина 2-й полк, который прибыл в Сарапул еще в конце
- 1802 г. Таким образом, полк пробыл в Сарапуле почти четыре года, за которые офицеры полка, включая их командира, должны были хорошо познакомиться с семьями местных дворян, и прежде всего с семьей городничего.
Исходя из этого, трудно предположить, чтобы казачьи офицеры «не узнали» присоединившуюся к их полку дочь городничего, пусть и одетую в мужское платье. Уход Дуровой в армию с казачьим полком стал поводом для создания романических историй. Одну из них сочинил уже неоднократно упоминавшийся отец Н. Блинов. По его версии, Дурова влюбилась в полковника казачьего полка, «поступила к нему денщиком-конюхом и под этой личиной жила потом в его доме на Дону» [Блинов, 1887, с. 53−54]. По второй версии, которая была озвучена Блиновым в «Историческом вестнике» за 1888 г., Дурова влюбилась в молодого казачьего есаула и «сблизилась с ним; отчего, очевидно, и произошли те семейные несогласия, по которым она принуждена была скрыться из дому» [Блинов, 1888, с. 416].
А. Бегунова, изучив формулярные списки офицеров и урядников Донского казачьего майора Балабина 2-го полка за 1803−1806 гг., пришла к выводу, что к моменту побега Дуровой на весь полк, состоящий из пяти сотен казаков, было только два есаула, оба женатых и имеющих отнюдь не юношеский 38-летний возраст. Что же касается самого полковника Степана Федоровича Балабина, то ко времени его встречи с Дуровой ему исполнилось 44 года, он был женат и имел четверых детей. Поэтому представить себе побег Дуровой с этим человеком на Дон, где жила его семья, с которой кавалерист-девица впоследствии близко познакомилась, можно с большим трудом.
Гораздо более вероятным представляется следующее предположение: полковник Балабин был посвящен в тайну кавалеристдевицы, равно как и его супруга Доминика Васильевна, у которой Дурова прожила зиму 1806 г. Именно этим можно объяснить, что Дурова, всегда очень обязательная в выражении благодарности людям, оказавшим ей помощь, не называет полковника в своих «Записках» полным именем, боясь нескромности. Ведь ее зз тайну, связанную не только с ее полом, но и с историей ее неудачного замужества и рождения сына, знал не только полковник, но и, вероятно, его старший сын Филипп, которого Дурова называла «шалуном».
Побег из дома был совершен тайно, ночью. Чтобы избежать городских сплетен и пересудов, Дурова имитирует утопление, оставив на берегу реки свое женское платье. Присоединившись к казачьему полку, Дурова называет себя Александром Васильевичем Соколовым, то есть меняет и отчество, и фамилию, тогда как в «Записках» она утверждает, что поступила в полк под своей собственной фамилией. Принятые предосторожности, несомненно, преследовали одну цель — затруднить ее поиски, если таковые будут предприняты. Мнимое утопление Дуровой вряд ли могло обмануть ее отца, тем более, что Надежда отправилась в армию на своей верховой лошади и в казачьей форме, недавно подаренной ей А. Дуровым.
Всесторонняя продуманность всех деталей побега неопровержимо свидетельствует о том, что уход в армию готовился ею давно, а вовсе не был «неожиданным, эксцентричным поступком», как это утверждала Е. Некрасова [см.: Некрасова]. Да и сама эксцентричность этого поступка весьма проблематична для начала XIX в. Выросшая в потомственной военной семье, Дурова никогда не думала о возможности для себя другой судьбы. Как справедливо писал В. Муравьев: «Утвердившись в намерении выйти из сферы, назначенной ей природой, Дурова естественно приходит к мысли выдать себя за мужчину, и так же естественно для себя — мужчины она выбирает единственный род деятельности — военную службу в кавалерии, ни о чем другом она просто не имела представления. Конечно, тут сыграли свою роль и патриотические порывы, и традиции семьи, и свойства характера» [Муравьев В., с. 9].
Остается решить еще один важный вопрос: что же было основной причиной, побудившей ее уйти в армию, и какую роль играли при этом собственно патриотические побуждения. Выше, говоря о детских годах Дуровой, мы уже упоминали, что Надежда Андреевна называла две основные причины своего ухода в армию: деспотизм матери и прирожденную любовь к военной службе. Причины, вполне справедливые уже для периода ее жизни 1798−1799 гг. За четыре года неудавшегося замужества добавилась еще одна — разочарование и ненависть к обычной женской судьбе. Это направление мыслей Дуровой поддерживалось и примером несчастной судьбы ее матери, которая, по воспоминаниям Дуровой, «неоднократно говорила в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве» (с. 34).
Избавившись от этого «рабства», став «товарищем» (пока еще не офицером, а юнкером) в Литовском коннопольском полку, «размахивая целое утро тяжелою пикою — сестрою сабли, маршируя и прыгая на лошади через барьер», Дурова, тем не менее, будет счастлива, так как теперь сможет ходить «по полям, горам, лесам бесстрашно, беззаботно и безустанно!» (с. 56). Более того, обращаясь к своим будущим читательницам, она напишет в записках: «Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восхищение! Одни только вы можете знать цену моего счастья! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения! Которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечною защитою, бог знает от кого и от чего! Вы, повторяю, одни только можете понять, каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев и при мысли, что по всем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения, я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: ты, девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться!» (с. 57).
Подобный «гендерный» аспект свободы будет встречаться в женской мемуарной литературе на протяжении всего XIX в. Яркий образчик подобного мышления дает нам М. Башкирцева в своем знаменитом «Дневнике». Родившаяся на 75 лет позднее Дуровой, принадлежа к несравненно более богатой и знатной семье, чем семья «кавалерист-девицы», проведя большую часть своей жизни во Франции, где она будет профессионально заниматься живописью в мастерской Жюлиана и в конце концов станет достаточно известной художницей своего времени, чьи полотна выставляли в парижском Салоне, Башкирцева, тем не менее, будет постоянно выплескивать на страницы «Дневника» гневные инвективы, посвященные жалкому положению женщины, особенно незамужней девушки, в современном обществе. Так, 2 января 1879 г. она напишет: «Чего мне страстно хочется, так это возможности свободно гулять одной, уходить, приходить, садиться на скамейки в Тюильри и особенно в Люксембургском саду, останавливаться у художественных витрин, входить в церкви, музеи, по вечерам гулять по старинным улицам; вот чего мне страстно хочется, вот свобода, без которой нельзя сделаться художницей. Думаете вы, что всем этим можно наслаждаться, когда вас сопровождают или когда, отправляясь в Лувр, надо ждать карету, компаньонку или всю семью?
А! Клянусь вам, в это время я бешусь, что я женщина!" [Башкирцева, с. 385]. М. Башкирцева умерла в возрасте 25 лет, так и не насладившись в полной мере той славой и свободой, о которой она страстно мечтала с детства. Дуровой в большей степени удалось воплотить в жизнь свой замысел.
Что же касается утверждения многих исследователей, особенно советского периода, что Дурова ушла в армию сражаться с Наполеоном, то оно вовсе не представляется нам столь очевидным. Обратимся к фактам. Дурова уходит в армию в сентябре 1806 г., когда Россия не только не вела войны с наполеоновской Францией, но еще даже не началась война между Францией и Пруссией, закончившаяся фантастическим разгромом последней под Йеной и на помощь которой Россия выступит в 1807 г. Из этого следует, что Дурова ушла на войну не в прямом смысле слова, она хотела служить в армии. Другое дело, что военные действия в начале XIX в. велись Россией почти беспрерывно. В этих условиях уход в армию был почти тождественен уходу на войну.
Очевидно, что Дурова ушла бы в армию, даже если бы никакой войны не предвиделось вовсе. Это нисколько не умаляет ее гражданского подвига, совершенного в одиночку, без посторонней помощи, без средств. При внимательном чтении «Записок» легко убедиться, что мотив защиты Родины там совершенно отсутствует, хотя Дуровой было бы очень выгодно представить себя пылкой русской патриоткой. Это полностью соответствовало бы духу времени, особенно состоянию русского общества после разгрома России под Аустерлицем, когда идеи военного реванша охватили широкие круги дворянской молодежи. Дурова же стремилась в армию, чтобы обрести свободу, стать независимым человеком. Этот мотив явственно звучит в ее «Записках». Она пишет: «Итак, я на воле! Свободна! Независима!.. Свобода! Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим, и наградою!» (с. 43−44).
Это упоение свободой является важнейшей составляющей пафоса «Записок кавалерист-девицы», хотя в XX в. в отечественной исторической и литературоведческой традиции поступок Дуровой чаще всего объясняли ее патриотизмом, стремлением на войну с Наполеоном, чтобы защищать свою родину. Этот устоявшийся литературный миф о Дуровой, утвердившийся в 50−60-е гг. XX в. на волне официально-казенного патриотизма и борьбы с космополитизмом, на деле не выдерживает никакой критики.
Присоединившись к казачьему полку и не имея достаточных средств, чтобы самостоятельно ехать на западную границу и вступить в кавалерийский полк, Дурова принимает приглашение полковника С. Ф. Балабина провести зиму на Дону. Здесь она в первый раз переживает сложности своего гендерного положения, вынужденная выступать в роли мужчины, пусть и юноши, почти мальчика, перед женщинами. Она достаточно откровенно говорит об этом в «Записках»: «…ко мне подкралась одна из женщин полковницы: „А вы что же стоите здесь одни, барышня? Друзья ваши на лошадях, и Алкид бегает по двору!“ Это сказала она с видом и усмешкою истинного сатаны. Сердце мое вздрогнуло и облилось кровью; я поспешно ушла от мегеры» (с. 50).
Затем вместе с казаками она едет в Гродно, где 9 марта 1807 г. поступает вольноопределяющимся, «товарищем», по герминологии того времени, то есть рядовым, принадлежащим к дворянскому сословию, в Коннопольский полк (с 1812 г. — Польский уланский полк). Шефом этого полка с 1803 г. был генерал-майор Петр Демьянович Каховский, сподвижник А. В. Суворова.
При определении в полк Дурова сохраняет свое инкогнито, взяв фамилию Соколов и назвавшись сыном мелкопоместного дворянина Пермской губернии, убежавшим от отца, который не хотел отпускать его на военную службу. При поступлении в полк был измерен ее рост и дано описание ее внешности: рост два аршина пять вершков (165 см, то есть средний рост для солдата, служившего в легкой кавалерии), «лицом смугл, рябоват, волосы русые, глаза карие».
На военную службу Дурову, нс имеющую никаких документов, удостоверяющих ее личность, принял ротмистр Мартин Валентинович Каземирский, к которому кавалерист-девица на всю жизнь сохранила необыкновенное уважение. В своих записках, написанных спустя почти 30 лет, она скажет о нем: «Ротмистр Каземирский… имеет благородный и вместе с тем воинственный вид; добродушие и храбрость дышат во всех чертах приятного лица его» (с. 54). Ротмистр, на слово поверив в дворянское происхождение юного вольноопределяющегося, разрешил Дуровой после учений запросто приходить к нему обедать на квартиру, где он экзаменовал ее с «отеческим снисхождением», спрашивая, «нравятся ли мне мои теперешние занятия и каким нахожу я военное ремесло» (с. 56).
Однако, несмотря на то, что Дурова с восторгом отзывалась о военной службе, тяготы солдатского быта превзошли все ее ожидания. Принадлежа к дворянскому сословию, она была избавлена от грубостей со стороны офицеров, но не была свободна от изнурительной муштры, которой подвергались вновь навербованные в полк волонтеры. Она писала в «Записках»: «Мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надеюсь, однако ж, привыкнуть; но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть — так это к тиранским казенным сапогам! Они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! Ах, Боже! Я точно прикована к земле тяжестию моих сапог и огромных брячащих шпор!» (с. 57−58). А ведь в подобном обмундировании Дуровой надо было не просто ходить или ездить верхом, но вести военные действия, то есть профессионально владеть саблей и пикой. Дурова честно признается: «…я устаю смертельно, размахивая тяжелою пикою — особливо при этом вовсе ни на что не пригодном маневре вертеть ею над головой: и я уже несколько раз ударила себя по голове; также не совсем покойно действую саблею; мне все кажется, что я порежусь ею; впрочем, я скорее готова поранить себя, нежели показать малодушную робость» (с. 56).
В это тяжелое время ее поддерживает только одно — сознание обретенной СВОБОДЫ, которая «сделалась наконец уделом моим навсегда!» (с. 56).
Вскоре начинаются военные действия. В начале мая 1807 г. коннопольцы переходят русскую границу вместе с основными силами русской армии, которая спешила на помощь побежденной Пруссии. Первые дни Дурова всецело захвачена новыми для нее ощущениями, почти счастлива: она воин и может сражаться наравне со всеми. 22 мая она, судя по записям в ее записках, впервые участвует в боевых действиях под Гутштадтом, развенчивая для себя многие кавалерийские мифы о первом сражении: «Как много пустого наговорили мне о первом сражении, о страхе, робости и, наконец, отчаянном мужестве! Какой вздор!» (с. 62). Правда, исследователь А. Бегунова на основе изучения боевых действий Коннопольского полка по архивам приходит к выводу, что эта дата ошибочная. В этот день полк не воевал, как и другие воинские части, лишь двигаясь к месту, где должно было произойти сражение, случившееся на самом деле 24 мая 1807 г. Однако, учитывая тот факт, что Дурова вела в это время дневник урывками, вполне возможно предположить, что у нее произошла аберрация личной памяти мемуариста.
После Гутштадта были сражение под Гейльсбергом, проигранная битва под Фридландом, заключение Тильзитского мира, возвращение русских войск на родину. В общей сложности военные действия, в которых принимала участие Дурова, продолжались не более месяца: Тильзитский мир между Россией и Францией был заключен уже 25 июня 1807 г.
За время военных действий своей первой кампании Дурова не только не успевает совершить героических поступков, но, напротив, делает массу оплошностей и промахов, о которых не без юмора повествует в своих «Записках». Так, она теряет свою любимую лошадь, Алкида, отстает от своего полка, спит во время похода, под Гутштадтом по незнанию ходит в атаку с каждым эскадроном, так что ее в конце концов отсылают в обоз, в вагенбунг. Примечательно, что, несмотря на ее искреннее желание «совершить ряд блистательных подвигов», а заключение мира воспринимать как «конец надеждам, мечтам», Дурова остается удивительно скромным человеком, никогда не стараясь представить себя в роли русской Беллоны или новой Жанны д’Арк.
Этого нельзя сказать о тех, кто писали о ней и кто вольно или невольно способствовали созданию мифа о «кавалерист-девице», представляя ее в качестве патриотического эталона, а ее сложную многообразную жизнь рассматривали лишь как пример беззаветного служения Отечеству. От подобного подхода не была свободна даже такая серьезная исследовательница как Е. Некрасова, которая писала: «Каким храбрым, неустрашимым воином рисуется эта женщина во время битв, перестрелок, в самый разгар сражений. В этой неукротимости чувствуется что-то стихийное, необычное, чему можно удивляться, но не подражать» [Некрасова, с. 600].
Между тем, в кампании 1807 г. ей не удается ни выдвинуться, ни получить каких-либо отличий (впрочем, в ее положении любое «выдвижение», которое могло бы привлечь к ней дополнительное внимание, было опасно). Единственный подвиг, о котором она повествует в записках достаточно подробно, это подвиг, совершенный более из человеколюбия, чем из героизма: Дурова спасает раненого офицера, поручика Финляндского полка Панина, за что впоследствии получит Георгиевский крест из рук Александра I. А. Бегунова подвергает уничижительной критике весь эпизод спасения поручика Панина из рук неприятельских драгун, исходя из двух обстоятельств. Во-первых, невероятности самого эпизода: Дурова спасает поручика вблизи собственного эскадрона, но никто из ее товарищей этого почему-то не видит. Во-вторых, изучение архивов Финляндского полка, проведенное еще А. И. Григоровичем в 1914 г. в «Историческом очерке Финляндского драгунского полка. 1806−1860 годы», приводит исследовательницу к ошеломляющему выводу: «Не было человека в таком чине и с такой фамилией ни в полковом расписании за 1806−1808 годы, ни в списках всех раненых офицеров, которые публиковались в то же самое время в газете „Санкт-Петербургские ведомости“» [Бегунова, с. 136]. Наконец, историю с раненым поручиком опровергает официальный документ — «Список награжденных знаком отличия Военного ордена за 1807−1808 гг.», из которого становится очевидным, что Дурова получила знак отличия Военного ордена № 5723 не за спасение офицера, на чем она настаивала в своих записках, а «за оказанную отличность» при преследовании неприятеля до реки Пассаржи в сражении под Гутштадтом, Гельсбергом и Фридландом.
Исходя из этого А. Бегунова делает вывод, что Дурова просто сочинила свою героическую историю: «Похоже, что никаких французских драгун не было и в помине. Был какой-то раненый, которому Надежда Андреевна, поддавшись порыву жалости и сострадания, отдала свою верховую лошадь» [Там же, с. 136]. Насколько справедливо это безапелляционное суждение? Зная природную скромность Надежды Андреевны и ее принципиальное нежелание выставлять себя героиней Наполеоновских войн, невозможно представить, чтобы она могла просто придумать «сцену спасения» русского офицера с описанием таких психологических деталей поведения неприятельских драгун и русского офицера, что делает этот эпизод одним из самых запоминающихся в «Записках». Тем более невероятно, чтобы она осмелилась вложить эту ложь в уста героини своих записок при разговоре с императором Александром I. Уж чего-чего, а комплекса барона Мюнхгаузена за Дуровой никогда не водилось.
В «Записках» Дурова пишет: «Я еще раз была у государя! Первые слова, которыми он встретил меня, были: „Мне сказывали, что вы спасли офицера! Неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне это обстоятельство'“ . Я рассказала подробно все происшествие и назвала офицера; государь сказал, что это известная фамилия и что неустрашимость моя в этом одном случае более сделала мне чести, нежели в продолжение всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей — сострадание!» (с. 92−93). Примечательно, что в данном случае Дурова выделяет в тексте слова императора курсивом. Одно это обстоятельство, если знать натуру Надежды Андреевны, делает маловероятным факт прямого подлога с ее стороны.
Сам же спорный эпизод спасения офицера в «Записках» Дуровой выглядит следующим образом: «Разъезжая, как я уже сказала, вблизи своего эскадрона и рассматривая любопытную картину битвы, увидела я несколько человек неприятельских драгун, которые, окружив одного русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели рубить его лежащего. В ту ж минуту я понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались врознь; я прискакала к раненому и остановилась над ним; минуты две смотрела я на него молча; он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни; видно, думал, что над ним стоит неприятель; наконец он решился взглянуть, и я тотчас спросила, не хочет ли он сесть на мою лошадь? „Ах, сделайте милость, друг мой!“ — сказал он едва слышным голосом» (с. 62−63).
Если рассмотреть эту сцену в контексте первых военных приключений Дуровой, то в ней нет ничего необычного для ее личного опыта. Именно в сражении при Гутштадтом Дурова «отличилась» тем, что, не зная кавалерийского устава, ходила в атаку с каждым эскадроном своего полка. Следовательно, все время пребывая не в своем строю, она вполне могла оказаться настолько вблизи своего полка, чтобы не терять его из вида, но достаточно далеко, чтобы оказаться вовлеченной в перипетии борьбы другого соседнего коннопольцам Финляндского драгунского полка. Не случайно Дурова упоминает, что в тот момент, когда она отдавала своего коня поручику Панину, к ним подскакал солдат Финляндского драгунского полка и помог посадить раненого верхом. Кстати, предположение А. И. Григоровича, что Дурова неправильно поняла фамилию раненого офицера, подтверждается фактом, на который не обращает внимания А. Бегунова. Фамилию Панин называет не сам раненый офицер, но солдат Финляндского полка, который вполне мог ошибиться. Наконец, не исключено, что Дурова сознательно не совсем верно назвала фамилию раненого офицера, не желая компрометировать представителя известного дворянского рода. Ведь его поведение в данной сцене далеко не безупречно. Пообещав вернуть рядовому коннопольцу его боевого коня, офицер тут же продает этого коня казакам, тем самым подведя своего спасителя под большие дисциплинарные неприятности. Одно дело, если бы этим спасителем оказался обычный рядовой коннополец-мужчина. Но в «Записках» шла речь о юной девушке-дворянке, пострадавшей таким образом от поручика Финляндского полка, принадлежащего, по словам императора Александра I, к одной из лучших фамилий России.
Что же касается формулировки отличия Дуровой при вручении ей знака отличия Военного ордена, то назвать истинный повод — спасение офицера соседнего полка, с которым коннопольцы непосредственно нс соприкасались при ведении боевых действий, значило признать тот факт, что Дурова во время атак своего полка «болталась» где-то за его фронтом, вполне заслужив презрительную реплику своего командира эскадрона: «Пошел за фронт, повеса!» (с. 63). Те, кто заполняли наградной лист, прекрасно это понимали, поэтому и ограничились нейтральными формулировками, говоря об «оказанной ей отличности».
Отправившись на войну 1807 г., Дурова написала письмо отцу, прося его благословения. Она сообщила ему о своем решении посвятить себя воинской службе, а также свое новое имя и полк, в котором она будет служить. Получив письмо от дочери, А. Дуров предпринял ее энергичные поиски с целью возвращения домой. Тем более, что весной 1807 г. Андрея Васильевича постиг сильный удар. После тяжелой болезни в возрасте всего 40 лет умирает его жена, вину перед которой он горько переживал. Оставшись с тремя детьми, младшему из которых только-только исполнилось шесть лег, отец желал видеть старшую дочь хозяйкой в доме.
В Петербурге в это время служил чиновником его младший брат Николай Васильевич Дуров, которому сарапульский городничий сообщает о смерти жены и побеге дочери, прося помочь разыскать беглянку.
Фрагмент данного письма от 27 августа 1807 г. был впервые опубликован Н. Н. Мурзакевичем в журнале «Русский архив» в 1872 г. В нем Дуров писал: «Ради Бога, узнайте об Надежде и дайте ей об этом (смерти матери. — Е. П.) знать; она верно приедет домой, незамай (здесь — в значении „пусть“. — Е. П.) будет детям матерью, а мне другом; я ее очень люблю» [Мурзакевич, с. 20−43].
Получив такое письмо от брата, Николай Васильевич решился на крайние меры. 28 сентября 1807 г. на имя Александра I был сделан доклад, в котором сообщалось, что коллежский советник А. Дуров просит найти и вернуть ему его дочь, завербовавшуюся в Коннопольский полк под именем Александра Соколова. В этом докладе уход Дуровой в армию объясняется достаточно прозаически: говорится, что «коллежский советник Дуров, в Вятской губернии в городе Сарапуле жительствующий, ищет повсюду дочь Надежду по мужу Чернову, которая по семейным несогласиям принуждена была скрыться из дому и от родных своих» [Там же].
После этого доклада Александром I был предпринят официальный розыск беглянки. Письмо старого Дурова и доклад его брата на высочайшее имя, а также последующие действия императора полностью исключают версию Д. Мордовцева о случайном разоблачении Дуровой в 1807 г., которое якобы дошло до императора, так же как и версию самой Дуровой, приведенную в «Записках», где раскрытие ее тайны выглядело как простая случайность. Дядя показал письмо кому-то из знакомых генералов, а тот проговорился в присутствии императора.
На самом деле все было гораздо более официально. Получив доклад, Александр I приказал найти вольноопределяющегося Александра Соколова. Исполнение данного поручения было возложено на действительного тайного советника В. С. Попова. Попов адресовался прямо к главнокомандующему русских войск графу Ф. Ф. Буксгевдену. Тот, в свою очередь, поручил проведение непосредственного расследования инцидента своему адъютанту поручику А. И. Нейгардту, который отправился в Полоцк, где квартировал Коннопольский полк.
В начале ноября 1807 г. Нейгардт вместе с Дуровой прибыл в штаб-квартиру русской армии, которая располагалась в Витебске.
Нейгардт с 1829 г. стал генерал-лейтенантом, а через год генерал-квартирмейстером (то есть начальником. — Е. П.) Главного штаба, продемонстрировав верность царю и престолу во время восстания декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Современники давали не самые блестящие отзывы об этом человеке. Так, В. С. Толстой, давая характеристики русским генералам на Кавказе, видел в Нейгардте человека «низкопоклонного до подлости перед сильными и влиятельными личностями, но деспотически грубого со всякими подчиненными, не имевшими покровителей» [Толстой В. С., с. 232]. Эту черту молодого Нейгардта Дурова в полной мере испытала на себе и не преминула рассказать об этом в своих мемуарах, удивляясь «странности» поведения адъютанта главнокомандующего, который обращался с ней в высшей степени высокомерно: не приглашал ее обедать вместе с собой, не знакомил со своим семейством, заставлял, как простого солдата, стоять у повозки во время смены лошадей, пока сам адъютант пил кофе на станции, и т. д. Подобное отношение Нейгардта, разумеется, было вызвано двусмысленным положением Дуровой — женщины, сбежавшей в армию от мужа, которую разыскивал через императора родной отец.
Однако это отношение сразу изменилось после того, как Ф. Буксгевден, убедившись в «добропорядочном» поведении Александра Соколова в армии, проявил к нему участие и положительно охарактеризовал его в рапорте царю. Буксгевден, в свою очередь, ориентировался при составлении рапорта на формулярный список Соколова и рапорт шефа Коннопольского полка генерал-майора П. Д. Каховского.
Если Нейгардт вез Дурову как арестованного или, по крайней мере, находящегося под следствием «нижнего чина» (без сабли и без эполет), то Буксгевден, прочитав рапорт Каховского и поговорив с самой Дуровой, распорядился отправить ее в Петербург как военнослужащего, откомандированного из полка в Петербург по запросу начальства.
Из Витебска в сопровождении флигель-адъютанта императора А. П. Засса Дурова отправляется в Петербург. Засс представлял собой прямую противоположность Нейгардту. Историк А. Михайловский-Данилевский так характеризовал его: «Высокого роста, приятной наружности, нрава кроткого, скромный в своих желаниях и прямодушный» [см.: Михайловский-Данилевский]. Во время своего полуторамесячного пребывания в Петербурге в 1807 г. Дурова жила в доме Засса на набережной реки Мойки.
Во второй половине декабря 1807 г. происходят две личные встречи Дуровой с императором Александром I. А. Бегунова установила, что «Камер-фурьерский церемониальный журнал» за второе полугодие 1807 г. (СПб., 1906;1907), в котором описывается ежедневная деятельность монарха, ничего не сообщает об этих встречах. Это позволяет предположить, что встречи были неофициальные.
Без сомнения, первоначально Александр I хотел наградить Дурову за ее смелый патриотичный поступок и отправить домой. Однако во время аудиенции, уступая ее горячим мольбам, император изменяет свое решение и оказывает ей неслыханную милость, разрешив называться Александровым (по своему имени), переведя ее в один из лучших гусарских полков русской армии — Мариупольский и присвоив ей первый офицерский чин русской кавалерии — корнета.
Таким образом, можно сказать, что уже с января 1808 г. служба Дуровой была санкционирована царем. Высочайшим приказом от 6 января 1808 г. корнет Александр Андреевич Александров был зачислен в Мариупольский гусарский полк. Правда, в формулярном списке поручика Литовского уланского полка А. А. Александрова, составленном в 1815 г., было указано: «Принят корнетом в Мариупольский гусарский полк 1807 декабря 31-го». 31 декабря происходила встреча Надежды Андреевны с императором Александром I.
Новое назначение, тем не менее, не аннулировало полностью ее предшествующую службу. Несмотря на то, что официально Дурова числится на службе лишь с 1808 г., в ее формулярный список были внесены записки об участии в боях при Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде, в которых мариупольские гусары, кстати, не принимали участия. Вместе с этим, 15 января граф X. А. Ливен посылает предписание шефу Польского уланского полка генералмайору П. Д. Каховскому «выключить из полку» товарища Александра Соколова.
В «Записках» Дуровой рассказывается, что во время второй встречи с императором Александр I вручает ей орден Георгия IV степени за спасение раненого офицера на поле боя под Гутштадтом. При этом «государь взял со стола крест и своими руками вдел в петлицу мундира моего» (с. 93). Чувства, которые испытала при этом «кавалсрист-девица», навсегда запечатлелись в ее сердце. Спустя несколько десятков лет она напишет: «Клянусь, что обожаемый отец России не ошибется в своем надсянии; крест этот будет моим ангелом-хранителем! До гроба сохраню воспоминание, с ним соединенное; никогда не забуду происшествия, при котором получила его, и всегда-всегда буду видеть руку, теперь к нему прикасавшуюся!» (с. 93).
Однако вручив собственноручно Дуровой крест, Александр I не позаботился о том, чтобы был издан приказ о производстве Дуровой в первый офицерский чин — корнета. А. Бегунова иронизирует по этому поводу: «Так, вопреки государственным установлениям, по одной лишь воле монарха 17-летний дворянин из Вятской губернии Александр Андреевич Александров возник в России, точно призрак, как будто из воздуха и сразу — корнетом» [Бегунова, с. 179]. Можно предположить, что именно эта путаница с отсутствием данного приказа в инспекторском департаменте военного министерства стала одной из причин, почему Дуровой, в обход существующих правил, так долго не назначали военной пенсии.
Во время второй аудиенции Дуровой было разрешено в случае необходимости обращаться прямо на высочайшее имя. Прежде всего в случае денежных затруднений, что было неизбежно, учитывая то обстоятельство, что Дурова не получала никакой регулярной денежной помощи из дома, а служба в гусарском полку была дорога.
В то время как Дурова уже отправилась к новому месту службы в Луцк, ее отец, ничего не зная об аудиенции у Александра I, продолжал осыпать военно-походную канцелярию императора просьбами вернуть ему дочь. Так, в конце января 1808 г. в письме графу X. А. Ливену старый Дуров писал: «Прошу Ваше сиятельство внять гласу природы и пожалеть о несчастном отце, прослужившем в армии с лишком двадцать лет, а потом продолжавшем статскую службу также более двадцати лет, лишившись жены, или лучше сказать, наилучшего друга, и имея надежду на Соколова, что, по крайней мере, он усладит мою старость и водворит в недрах моего семейства спокойствие, но во всем вышло противное: он пишет, что в полк едет служить, куда — не изъясняя в письме своем. Нельзя ли сделать милость уведомить почтеннейшим Вашим извещением, где и в каком полку, и могу ли я надеяться скоро иметь ее дома хозяйкою» [Цит. по: Сакс, с. 22−23].
Действительно, сама Дурова не сразу сообщила отцу о своем новом назначении, опасаясь нескромностей с его стороны. Впрочем, она никогда не забывала о своей семье. При личной встрече с графом X. А. Ливеном она просила его по возможности оказывать помощь ее овдовевшему отцу. Об этом свидетельствует письмо графа X. А. Ливена военному министру графу А. А. Аракчееву от 21 февраля 1808 г. В этом письме Ливен, помимо того, что сообщал своему преемнику Аракчееву обстоятельства перевода дочери коллежского советника Андрея Дурова из Польского уланского полка в Мариупольский гусарский полк, подчеркивал следующее: «При отъезде ее просила она меня быть ходатаем об отце при Его Императорском Величестве, который служит городничим в Вятской губернии, в городе Сарапуле» [Там же]. Впоследствии именно граф Ливен сообщил старому городничему о решении императора разрешить его дочери продолжать военную службу в рядах русской армии.
Старый Дуров в полной мере воспользовался милостью императора, определив внука Ивана в кадетский корпус, а дочь Евгению — в Смольный дворянский институт. Только в просьбе относительно определения в соответствующее государственное учреждение сына самого А. Дурова Василия ему было отказано. Василий воспитывался дома. В прошении на Высочайшее имя сарапульского городничего коллежского советника Дурова, впервые опубликованном А. Бегуновой, говорится: «Я повергаюсь к стопам Твоим Всемилостивейший Государь! Прошу милосердного на судьбу сих малолетних воззрения. Все желание мое в том заключается, чтоб и они, подобно предкам своим, были полезны престолу Твоему и Отечеству.
Чрез дочь мою под именем Соколова оживлена уже старость моя и приятнейшая надежда, что Всемилостивейший Государь, изъявив благоволение оному Соколову лично, готов устроить счастие его семейству" [Прошение на Высочайшее имя Сарапульского городничего… ].
Данное прошение недвусмысленно свидетельствует о том, что к середине 1808 г. отец Дуровой наконец примирился с тем обстоятельством, что его дочь не вернется домой. В этом же году 54-летней городничий женился на 17-летней девице Евгении Васильевой, которая была дочерью его крепостных Степана и Марины. Через год у него рождается дочь Елизавета, к сожалению, оказавшаяся глухонемой.
Мариупольский полк, в который была определена Дурова императором, был создан в 1783 г. и до 1796 г. имел название Мариупольского легкоконного. В послужном списке боевых действий полка — участие во второй Русско-турецкой войне в сражении под Кинбурном, в войне с Польшей при штурме Праги, предместья Варшавы. Во время войн с Наполеоном мариупольцы успели проявить себя во время кампании 1805 г. при Аустерлице и в кампании 1807 г. при Остроленке и у города Ланцберга. Между этими двумя войнами был поход в Турцию 1806 г., во время которого мариупольские гусары были при сдаче города-крепости Хотин. Отличительной особенностью экипировки мариупольского гусара, имеющего офицерский чин, было наличие белого, шитого золотом доломана, что эстетически очень привлекало Дурову. На страницах своих записок она признавалась, что «очень любила это соединение белого цвета с золотом» (с. 108).
Приехав в Мариупольский полк, Дурова попадает в обстановку, совершенно не похожую на ту, которая окружала ее еще год назад. Вместо тяжелой солдатской службы во время военных действий — жизнь среди блестящего окружения польско-литовских помещиков, множество свободного времени, балы, общение с умными светскими людьми. Все эго, без сомнения, нравилось Дуровой. Но такая жизнь имела и обратную сторону. Жизнь, которую вели офицеры Мариупольского полка, с кутежами, любовными приключениями, рискованными шалостями и молодечеством, была, естественно, заказана для нее, женщины. При всем своем желании она вряд ли смогла бы следовать «гусарскому катехизису», который составлял основной закон поведения молодого офицера, о чем она с юмором повествует в «Добавлении к девицекавалерисг». В соответствии с этим катехизисом «лихой гусар должен так же хорошо играть на бильярде, направо-налево осушать бокалы, как рубиться и ездить верхом», должен «уметь отрывать голову быку, щелчком пальца сбивать с ног медведя, трое суток пробыть на лошади под дождем, снегом, ветром, градом, ливнем и всем, что только есть в природе разрушительного» (с. 264).
Дурову меньше всего можно было упрекнуть в робости перед лицом опасности. Она могла стойко переносить тяготы походов, но этого было мало для гусарского офицера, для которого удаль и презрение к требованиям гражданского общежития, молодечество составляли такие же необходимые черты характера, как храбрость и презрение к смерти. Отсутствие этих качеств воспринималось как порок, слабость, которую молодой человек должен непременно изжить в себе. С этой точки зрения беспокойная, трудная жизнь рядового улана была куда легче, чем «беззаботное» существование гусарского корнета в мирное время.
Будучи не в состоянии разделять компанию офицеров-сослуживцев, она была вынуждена искать уединения. Между тем, сделать это для Дуровой было трудно из-за того пристального интереса, который она вызывала в окружающих. Ее назначение в полк по личному приказу императора, более или менее регулярная финансовая помощь из Петербурга, переписка с начальником императорской военно-походной канцелярии графом X. А. Ливеном, а потом с его преемником А. А. Аракчеевым — все это вызывало любопытство. Привилегированное положение Дуровой породило даже слухи, что корнет Александров чуть ли не незаконнорожденная особа царской фамилии. По крайней мере, в «Записках» командир эскадрона майор П. С. Дымчевич засыпает ее нескромными вопросами о великом князе Константине Павловиче и его семье. Тем нс менее, в это время тайна Дуровой строго соблюдалась. Граф X. А. Дивен, оставляя свою должность, в письме к А. А. Аракчееву, говоря о «деле» Дуровой, не забудет прибавить: «К единому Вашему сведению» [Цит. по: Сакс, с. 22]. Поэтому с некоторым недоумением воспринимается мнение А. Бегуновой, что «тайна» кавалерист-девицы была в 1808—1810 гг. чуть ли не вопросом чести, корпоративной тайной всего Мариупольского полка, и «они даже гордились тем, что государь, своею волею поместив царскую крестницу именно в их полк, оказал им таким образом особое доверие, особую честь» [Бегунова, с. 218].
Такая точка зрения легко опровергается многочисленными «мемуарными проговорками» в тексте записок, где Дурова демонстрирует постоянный страх быть разоблаченной. Если уж говорить о корпоративной полковой тайне, то ее наличие можно предположить в последние годы службы Дуровой в Литовском уланском полку, о чем будет сказано ниже.
Однако, помимо специфики гусарской службы и обостренного любопытства по отношению к ее личности, была еще одна трудность, очень чувствительная для гордой и независимой натуры Дуровой, — это постоянные денежные затруднения. Служба в гусарском полку требовала средств, и немалых. Дурова же жила только на жалование корнета (200 рублей в год плюс деньги на «рационы» (питание), составляющие около 48 р.), естественно, недостаточное, и была вынуждена регулярно обращаться то к X. А. Ливену, то впоследствии к А. А. Аракчееву с просьбами о денежной помощи. Переписка Дуровой с Главной квартирой показывает, в каких тяжелых, часто даже унизительных условиях оказывалась она, выпрашивая денег для того, чтобы обеспечить себе существование, соответствующее ее новому социальному статусу.
Из справки, представленной столоначальником Кишевским генералу М. П. Позену в январе 1837 г., и официальной переписки Дуровой мы видим, как действовал этот механизм помощи. Так, в январе 1808 г. Александрову «было пожаловано на обмундировку, проезд к Мариупольскому полку 1050 рублей». Но уже в феврале 1808 г. Дурова обращается с письмом к графу X. А. Ливену, прося выслать ей еще хотя бы половину этой суммы. Она пишет: «Я не решился бы беспокоить Ваше сиятельство этой пустою просьбой, если бы мог надеяться жалованием исправить, что нужно, но жалованья нам скоро нс дадут, а 1 мая будет дивизионный командир смотреть полк, и я могу получить много неприятностей, если не буду иметь всего, что должен иметь офицер по униформе» [Письмо корнета Мариупольского гусарского полка Александрова генерал-адъютанту графу X. А. Ливену]. 15 марта высочайшим повелением ей выдадут 500 рублей, деньги эти Дурова получит уже от А. А. Аракчеева, которого благодарит за оказанную милость в письме от 7 мая 1808 г. Всего за период службы Дуровой в армии ей было пожаловано от казны 3 828 руб. 12,5 коп. Данная сумма была высчитана при назначении штабс-ротмистру Александрову пенсиона в 1824 г. Сумма немалая, если учесть, что майорское жалование в это время состояло 464 р. в год. Следовательно, Дурова за девять лет своего официального нахождения на службе получила от казны дополнительно к своему жалованию девять майорских окладов. При этом большая часть данной суммы — 2 850 р. была выплачена во время нахождения Дуровой на службе в Мариупольском полку.
Царская милость, по сути дела, оборачивается для Дуровой полной зависимостью от Главной квартиры, от военной канцелярии императора, от самого Александра I. Поэтому лишь с большими оговорками можно принимать утверждение о том, что время службы в Мариупольском полку было самым счастливым в ее жизни. Физически ей, без сомнения, было легче, но морально и психологически никогда за все время своей военной службы Дурова не была так несвободна в своих поступках, не чувствовала постоянной опеки над собой, как именно в это время.
Вынужденное одиночество, обилие свободного времени позволяют ей заняться самообразованием, восполнить тот недостаток знаний, который был для нее так чувствителен именно сейчас, когда она вынуждена была вращаться в светском обществе. За время службы в Мариупольском полку Надежда Андреевна основательно изучила французский язык, стала заниматься немецким и польским. Среди авторов, с которыми она впервые знакомится и которых увлеченно читает, Гомер и Ж. Расин, Т. Тассо и А. Радклиф. Из русских авторов это, безусловно, В. Жуковский, автор первых русских романтических баллад.
Служа в Мариупольском полку, Дурова начинает вести дневник, предназначенный вначале отцу и сестре, в котором она описывала некоторые любопытные моменты своей полковой жизни. Именно этот дневник ляжет потом в основу ее знаменитых «Записок». Пробует она писать и художественные произведения. Первым опытом в этой области станет отрывок из повести о несчастной судьбе молодой женщины Елены Г*, известной сарапульской красавицы, история которой была хорошо известна Надежде Андреевне. К этой истории Дурова вернется впоследствии, когда начнет профессионально заниматься литературным трудом. Повесть «Елена, т-ская красавица» будет вторым произведением, с которым Дурова выйдет к читателю в 1837 г. в журнале «Библиотека для чтения». Под заглавием «Игра судьбы, или Противозаконная любовь» Дурова поместит его в 1839 г. в четырехтомное издание своих «Повестей и рассказов».
Одним из самых дискуссионных вопросов, относящихся к службе Дуровой в Мариупольском полку, можно считать вопрос о причинах ее перехода в Литовский уланский полк. В отечественной критической литературе существуют две основные версии, обе основанные на свидетельствах самой Дуровой.
Первую версию Надежда Андреевна выдвигает в «Записках». В них она говорит, что жизнь в полку стала для нее слишком дорога, жалуется на скупость нового (с 1811 г.) военного министра М. Барклая-де-Толли, на свое собственное неумение распоряжаться деньгами. В «Добавлениях» к запискам Дурова признается, что причиной, заставившей ее думать о переводе, была любовь к ней дочери полковника Павлищева Ольги. Не желая компрометировать девушку, Дурова вынуждена была оставить полк. Обе эти причины одинаково часто приводятся в критической литературе, посвященной Н. А. Дуровой. Авторы ссылаются на них, не приводя никаких хотя бы косвенных доказательств справедливости любого из этих положений. Еще одна версия, высказанная А. Бегуновой в ее книге «Надежда Дурова» о том, что Дурова перевелась в Литовский полк, чтобы быть ближе к своему сыну, который в это время учился в Петербурге и, возможно, болел, не подтверждается ни прямыми, ни косвенными источниками, являясь психологическим домыслом автора книги.
Между тем, систематизировав все имеющиеся у нас сведения, касающиеся службы Дуровой в 1810—1811 гг., можно не только утверждать с большой долей основательности, что вызвало перевод Дуровой в Литовский полк, но и попытаться дать ответ на вопрос, который очень занимал исследователей XIX в.: была ли вообще открыта тайна «кавалерист-девицы», и если да, то когда именно.
В работе Н. Блинова мельком упоминался непроверенный эпизод, относящийся к первому, коннопольскому периоду ее военной службы. Н. Блинов высказал предположение, что тайна Дуровой была раскрыта в 1807 г., после чего об этом инциденте было доложено императору. Как мы видели, для 1807 г. эта ситуация нереальна. «Опознавание» Дуровой шло по официальным каналам. Но этот эпизод не был выдуман Н. Блиновым. Летом 1810 г. во время больших кавалерийских маневров под Луцком с Дуровой случилось несчастье. Она упала с лошади, получив сильные ушибы и даже на время потеряв сознание. Правда, как пишет Надежда Андреевна в «Записках», она вовремя пришла в себя, чтобы не быть разоблаченной. Далее, судя по «Запискам», события развивались так. Майор Дымкевич, разгневанный самим фактом падения гусарского офицера с лошади, отсылает ее в запасной эскадрон «учиться ездить верхом».
В местечке Туринске, где квартировал запасной эскадрон, произошло знакомство Дуровой с полковником Иваном Васильевичем Павлищевым, в семью которого она вошла на правах друга дома.
В «Записках» она напишет: «В семействе Павлищевых меня любят и принимают, как родного. Старшая дочь его прекрасна, как херувим! Это настоящая весенняя роза! Чистая непорочность сияет в глазах, дышит в чертах невинного лица ее. Она учит меня играть на гитаре, на которой играет она превосходно, и с детской веселостию рассказывает мне, где что видела или слышала смешного» (с. 102). В «Добавлениях» Дурова подробно описывает свои взаимоотношения с Ольгой 3., дочерью полковника, которая ради него, то есть корнета Александрова, отвергает предложение квартирмейстера майора Г. Ст-го, те обвинения, которые ей пришлось выслушивать от родных Ольги, и, наконец, рассказывает о своем решении выйти в отставку.
Следующим по хронологии моментом является командировка в Киев на два месяца, во время которой Дурова служит в качестве ординарца у генерала М. Милорадовича. Вернувшись в полк после командировки, Дурова почти сразу же уезжает в отпуск, который продолжается почти три месяца, с 19 декабря 1810 г. по 15 марта 1811 г., а уже с 1 апреля 1811 г. она официально зачислена в Литовский уланский полк, куда отправляется, даже не дождавшись нужных бумаг из Петербурга. Изучение «Справки о службе» открывает еще одну странность. Во время службы в Мариупольском полку Дурова достаточно часто находится в продолжительных отпусках. За три года она, по крайней мере, два раза уезжает домой на дватри месяца: в ноябре-январе 1809 г. и в декабре-марте 1810−1811 гг Время отпусков вполне объяснимо, если принять во внимание образ жизни Дуровой. Зима — наиболее свободное время офицеров-кавалеристов, время балов и развлечений, когда мариупольцы проводили свой досуг то у одного, то у другого польского магната. Дурова предпочитала проводить это время дома подальше от шумной суеты светской офицерской жизни.
Однако и жизнь дома приносила радость лишь на короткий срок. У отца к этому времени уже появляется новая семья, дети от второго брака. Старшая после Дуровой сестра Клеопатра — к этому времени уже взрослая 20-летняя девушка со своими интересами и тайнами. Отношения с младшей сестрой у Дуровой были натянутыми. Клеопатра, так и не вышедшая замуж, обвиняла в этом свою старшую сестру, указывая на то, что ее побег от мужа, а потом уход в армию компрометировали всю семью, и о девицах Дуровых шла дурная слава. Младший брат Василий, относившийся к сестре с истинным почтением, восхищавшийся ее поступком, был слишком мал, чтобы стать ее собеседником.
В «Записках» Дурова не говорит об этих моментах, но не скрывает того обстоятельства, что нс могла прожить дома более двухтрех недель, после чего отправлялась к дальним родственникам, старым знакомым Андрея Васильевича, жившим за 50−100 верст от Сарапула. В переезде из одного места в другое проходил весь отпуск, хотя, как правило, Дурова возвращалась в полк на одну-две недели раньше срока.
На протяжении 1808−1810 гг. Дурова получает очень скудную денежную помощь из Петербурга: с 15 марта 1808 г. по 19 декабря.
1810 г., то есть более чем за полтора года, она составила всего лишь 300 рублей. Зато с 19 декабря по 4 марта 1811 г., то есть менее чем за 3 месяца — около 1000 рублей, причем последние 500 рублей она получает, находясь в отпуске.
Сопоставление сведений, полученных из «Записок» Дуровой, из «Добавлений», а также из официальных документов тех лет (прежде всего «Справки по службе»), приводит к выводу, что с лета 1810 г. и до самого перехода в Литовский полк Надежда Андреевна почти не находилась на месте службы. Трудно представить, что все эти переводы, командировки и отпуска были простой случайностью, не преследующей цели хотя бы временного удаления Дуровой из полка. Более того, все события лета-зимы 1810 г., рассмотренные в хронологической последовательности (в «Записках» они переставлены местами), образуют логически связанную цепь. Это позволяет думать, что именно в 1810 г. произошло событие или несколько событий, из-за которых Дурова вынуждена была перевестись в другой полк. А таким событием для Дуровой могло быть только одно — разоблачение ее тайны, после чего пребывание ее среди мариупольских гусар оказалось весьма затруднительным.
Скорее всего, события развивались следующим образом. История с падением Дуровой с лошади, когда ее тайна могла стать известной нескольким офицерам из числа тех, кто оказывал ей первую помощь, могла быть настоящей причиной ее удаления из полка в запасной эскадрон. В Туринске же, вполне возможно, произошла описанная Дуровой история с дочерью полковника Павлищева, когда Надежда Андреевна была поставлена перед необходимостью признания, чтобы нс компрометировать девушку своим необъяснимым отказом сделать ей предложение. Кроме того, зная благородный характер Дуровой, можно предположить, что она могла пожертвовать своим инкогнито, чтобы примирить Ольгу Павлищеву с ее женихом, майором.
Таким образом, только за лето 1810 г. тайна Дуровой дважды оказывалась под угрозой разоблачения или, вероятно, была разоблачена. Во время двухмесячной «командировки» в Киев к М. А. Милорадовичу Дурова, скорее всего, пишет в Петербург, спрашивая совета, как ей быть, и обращается с просьбой предоставить ей длительный отпуск на родину. В ответ ей приходит 500 рублей и разрешение отбыть на родину. А уже в марте 1811 г. она едет в Петербург с просьбой перевести ее в какой-нибудь другой кавалерийский полк. Таким полком оказывается Литовский уланский полк.
Конечно, было бы неверным полагать, что только само по себе разоблачение заставило бы ее желать перемены полка, который выбрал для нее сам император. Разоблачение оказалось последним толчком к тому комплексу причин, который уже существовал раньше и упоминался нами: безденежье, вынужденное одиночество и вместе с тем необходимость постоянно находиться в центре внимания. Переход ее в менее известный и блестящий полк был закономерностью, а вовсе не неожиданностью ни для однополчан, ни, тем более, для императора, как это представляет Дурова в «Записках».
С 1 апреля 1811 г. Дурова становится офицером Литовского уланского полка. Служба в уланском полку была дешевле, хотя жизнь, которую вели уланские офицеры, мало чем отличалась от той, которую вели мариупольцы. Она переводится в другой полк с тем же чином, с той же фамилией. Если принять во внимание слова Д. Давыдова, высказанные в 1836 г. в письме к А. С. Пушкину, «что тогда (в 1812 г. — Е. П.) поговаривали, что Александров — женщина, но так, слегка» [Письмо Давыдова Д. В. А. С. Пушкину…, с. 151−152], а также одно свидетельство Дуровой из «Добавлений», где она рассказывает, как пряталась в корчме, нс желая встретиться с сослуживцами по Мариупольскому полку, то это еще более утвердит нас во мнении, что к 1812 г. тайны «кавалерист-девицы» в армии уже не существовало.
В 1812 г. перед самым началом Отечественной войны Дурова получила чин поручика. Однако в ряде исследований по биографии Дуровой утверждается, что она была произведена в поручики по вакансии 29 августа, то есть сразу после Бородинского сражения, в день массовых производств. Эго в точности подтверждает «Формулярный список» Дуровой за 1815 г. Между гем, «Справка о службе», основанная на архивных документах, собранных для Николая I, указывает другой день производства — 5 июня 1812 г. Этот же документ свидетельствует, что с 9 по 15 марта 1812 г. Дурова была в Петербурге. Официальных документов о ее встрече с царем в это время не сохранилось. Нет об этом упоминания ни в «Записках», ни в других ее автобиографических произведениях, например, в «Добавлениях» или «Годе жизни в Петербурге». Однако сама необычность такого внезапного «отпуска», его короткий срок, напоминающий скорее вызов по делам, позволяют предположить, что именно в марте 1812 г. произошла еще одна встреча Дуровой с императором Александром I. Вполне возможно, что, расспросив ее о подробностях службы с 1808 г., император пообещал произвести ее в поручики. Дурова, без сомнения, давно заслужила этот чин. Положительная аттестация ее со стороны полкового командира вполне соответствовала действительности, но первый толчок к производству, видимо, пришел из Главной квартиры. Для Надежды Андреевны с ее независимым нравом это было вдвойне обидно, так как доказывало, что она не может продвигаться по службе на общих основаниях. Только этим можно объяснить тот удивительный факт, что Дурова, так внимательно и ревностно относившаяся к своим успехам по службе, обходит совершенным молчанием факт своего производства в следующий офицерский чин в «Записках».
В начале войны 1812 г. Литовский уланский полк входил в состав 2-й Западной армии генерала П. И. Багратиона. При общем отступлении русских войск, находясь в арьергарде, он почти беспрерывно находился в сражениях. В формулярном списке Дуровой от 1815 г. читаем: «1812 году противу французских войск в Российских пределах в разных действительных сражениях (участвовал); июня 27 под местечком Миром, июля 2-го под местечком Романовым; 16−17 июля под деревней Дашковой; 15 при деревне Лужках; 20−22 под. гор. Ржацкой Пристанью; 23 под Колоцким монастырем, 24 при селе Бородине».
Участие Надежды Андреевны в войне 1812 г. изучено достаточно хорошо. Отрывок из ее «Записок» под названием «1812 год» был первым из всего творческого наследия Дуровой произведением, напечатанным в советское время. Отличительной чертой его является прежде всего безусловная правдивость, отсутствие какойлибо рисовки, желания представить себя героиней. Она без тени смущения рассказывает о своих промахах по службе: не всегда удачных распоряжениях по эскадрону, трусости ее солдат, убежавших от разъезда казаков, приняв их за французов, потере собственной фуражной команды. Она с трудом переносит тяжесть кампании: описывает постоянную усталость, жажду, голод, длительные, часто лишенные всякого смысла (как ей кажется) передвижения полка с места на место. Мечты о подвигах и отличиях уступают место спокойному и рассудительному отношению к военной службе, упоение каждой минутой своей «свободной» жизни — философскому осмыслению действительности.
Дурова со знанием дела рассуждает о Наполеоне, его политике, об обязанностях хорошего солдата, о мужестве как основе военного ремесла и о «скифской тактике русского командования, заманивающего неприятеля в глубь России» [с. 160−161]. Она чрезвычайно самостоятельна в подаче исторического материала и стремится донести прежде всего свой взгляд на вещи и события, не заботясь о том, что это может противоречить официальной линии правительства или устоявшемуся мнению. Например, это касается ее отношения к герою русской армии генералу М. А. Милорадовичу.
Глубина и самостоятельность суждений, острый, лишенный всякого пиетета взгляд на «сильных мира сего» при несомненной приверженности к идее монархической власти делают ее достойной современницей декабристов периода Отечественной войны, еще не знакомых с идеями Французской революции и, конечно, еще больше опровергают миф о «российской Беллоне», умеющей лишь владеть саблей и пикой. Особенно интересно в этой связи признание самой «кавалерист-девицы», с гордостью утверждавшей, что единственная кровь, которую она пролила за всю свою жизнь, была кровь… гуся, убитого ею по время фуражировки по приказу ротмистра Н. С. Подъямпольского. Дурова писала:
«Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии! Благородною саблей своей я срубила голову неповинной птицы! Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте, вы, которые будете когда-нибудь читать мои Записки, что воспоминание о ней тяготит мою совесть!» (с. 172). Заметим, что к этому времени Дурова уже шестой год служила в армии и принимала участие не в одном сражении. Эта предельная чувствительность героини делает странными заявления некоторых зарубежных исследовательниц ее жизни и творчества вроде Д. Ранкур-Лаферье, что по отношению к Дуровой можно говорить об испытываемой ею «зрелой агрессии против военного противника» [Rancour-Laferriere, р. 461].
В сражении под Бородино литовские уланы дрались на самом решающем участке фронта — у Багратионовых флешей, у Семеновского оврага. Несколько раз полк ходил в атаку на кирасиров французского генерала Э. А. М. Нансути. За два дня до Бородинского сражения под деревней Шевардино Дурова получила тяжелую контузию ядром в ногу. Для нее это был поистине роковой несчастный случай. Не имея возможности обратиться за помощью к полковому хирургу, она практически остается без медицинской помощи. Распухшая, почерневшая нога не давала ей возможности оставаться в строю. Положение усугублялось конфликтом с командиром полка О. Штакельбергом, который пригрозил расстрелять ее за потерю фуражной команды. Впоследствии выяснилось, что команда эта просто направилась по другой дороге.
Воспользовавшись ссорой с командиром полка как предлогом, Дурова оставляет полк и уезжает в Главную квартиру армии, к М. И. Кутузову. Она просит у него разрешения оставаться при нем в качестве ординарца. Примечателен ее разговор с Кутузовым, как он представлен в «Записках» Дуровой.
««Как ваша фамилия?» — спросил поспешно главнокомандующий.
«Александров!» — Кутузов встал и обнял меня, говоря: «Как я рад, что имею наконец удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал о вас»" (с. 182). Эти слова Кутузова лишний раз подтверждают известную «официальность» ее положения в армии как «кавалерист-девицы», история которой была хорошо известна высшему начальству.
Служба ординарцем Кутузова во время Тарутинского маневра русской армии была не намного легче службы строевого офицера. Скоро наступил момент, когда Дурова, ослабленная контузией, просто не имела сил держаться в седле. Кутузов своей властью разрешает ей взять отпуск и отправиться на излечение домой, дав ей курьерскую подорожную.
Осень 1812 — весна 1813 г. долгое время были «белым пятном» в биографии Дуровой. Было известно, что в это время Дурова находилась дома, но документов, подтверждающих, в качестве кого жила Дурова в Сарапуле — дочери местного городничего или офицера Литовского полка — не было. Особый интерес этот период жизни Дуровой вызывал еще и потому, что в «Справке по службе» отпуск по ранению, длившийся около девяти месяцев, зафиксирован не был. Только в 60-е гг. XX в. в научный оборот был введен ряд документов, хранящихся в Кировском государственном архиве и относящихся к интересующему нас периоду ее жизни.
В «Записках» Дурова обходит этот вопрос молчанием, хотя и рассказывает о своей переписке с М. Кутузовым из Сарапула и приводит отрывки своих писем главнокомандующему с просьбой принять под свое покровительство ее 14-летнего брата Василия, а также позволить ей остаться дома до теплых дней. Приводит Дурова и ответы М. Кутузова на ее письма, где тот успокаивает ее, говоря, что она «только ему обязана отчетом в продолжительности своего отсутствия» (с. 193).
История этих писем до сих пор остается не до конца выясненной. Дурова свидетельствует в «Записках», что письмо было написано зятем Кутузова Н. Хитрово, знакомым с ее отцом. По словам Надежды Андреевны, письма эти стали причиной непростительного тщеславия старого А. Дурова, который показывал их всем и каждому. Это обстоятельство побудило ее в конце концов сжечь письма. Письма М. Кутузова к Н. Дуровой действительно не найдены. Единственное, кроме «Записок», упоминание о них мы встречаем в письме А. Дурова к князю П. Вяземскому от 23 января 1817 г., в котором Дуров, между прочим, пишет: «Князь Смоленский писал два письма к моему улану, просил его поскорее приезжать, и эти письма целы» [Цит. по: Приложения к «Избранным сочинениям кавалерист-девицы», с. 452]. Из письма старого городничего следует, что и письма М. Кутузова не были сожжены, и содержание их было не совсем таким, как об этом свидетельствует Надежда Андреевна. По всей видимости, затянувшийся отпуск Дуровой был не совсем законен, и М. Кутузов беспокоился по поводу тех затруднений, которые могли из-за этого возникнуть. Сейчас мы имеем неопровержимые свидетельства того, что Дурова жила у своего отца под видом раненого поручика Литовского полка Александра Андреевича Александрова.
В этом нас убеждает сохранившаяся в архивах Кирова переписка вятского губернатора Ф. фон Брандке с вятской врачебной управой по поводу офицеров, находящихся на излечении в губернии. Эта переписка была обнаружена и впервые опубликована И. П. Изергиной в «Ученых записках Кировского пединститута» (1967. Вып. 20. Ч. 2). Из переписки следует, что еще 17 января 1813 г. губернатор предписал управе освидетельствовать поручика Александрова, в состоянии ли он отправиться в армию. После «официального освидетельствования» 12 февраля инспектор А. Быстроглазое сообщал губернатору, ссылаясь на представление сарапульского лекаря Вишневского, что у проживающего в городе Сарапуле Литовского уланского полка поручика Александрова «на левой ноге на два перста повыше колена имеется большая опухоль, распространяющаяся вверх бедренной кости, впоперек оной ноги, где сия опухоль, имеется приметный рубец шириною четыре геометрических линии, длинною одного вершка» [Представление по рапорту сарапульского лекаря Вишневского]. Полностью этот документ был опубликован в книге А. Бегуновой «Надежда Дурова» (М., 2011). Подлинник хранится в Музее-усадьбе Н. А. Дуровой в Елабуге. Вследствие данной опухоли поручик Александров «чувствует всегдашнюю в кости бедренной ломоту так, что с трудом может приступать сею ногою; следственно, посему он, Александров, до тех пор, пока не получит от болезни сей свободы, не может явиться к своему полку на службу» [Представление по рапорту сарапульского лекаря Вишневского].
Не удовлетворившись этим объяснением, губернатор издает указ, обязывающий «всех штаб и обер-офицеров явиться для освидетельствования в Вятку». Любопытно, что Дурова оказалась к этому времени единственным офицером, находящимся на излечении в Вятской губернии, так что указ был издан специально для нее. 3 апреля 1813 г. отец Дуровой сообщает губернатору, что поручик Александров одержим лихорадкою и не может явиться в Вятку. 6 апреля 1813 г. Ф. фон Брандке извещал о поручике Александрове главнокомандующего. Наконец, 20 мая Дуров уведомляет губернатора в рапорте, что «находящийся в городе, управлению моему вверенном, Литовского уланского полка поручик Александров сего мая 12-го числа по выздоровлению от болезни отправился к армии» [Рапорт городничего города Сарапула А. В. Дурова Вятскому гражданскому губернатору].
Эта переписка, занимающая в оригинале множество листов, доказывает, что положение Дуровой в Сарапуле было вполне официально, и тайна ее, насколько это было возможно, сохранялась и в Сарапуле, и в Вятке.
Ирония судьбы. В 1807 г. молодая женщина была готова валяться в ногах у императора, умоляя его разрешить ей остаться на военной службе. Теперь поручику Александрову может угрожать военный суд за предполагаемое дезертирство, нежелание ехать к месту службы в действующую армию, уже ведущую боевые действия на территории Пруссии. Теперь ей труднее оставить военную службу, чем некогда на нее поступить.
В то же время отношение ее отца к военной службе дочери кардинально меняется. Если в 1808 г. Дуров умолял графа X. А. Ливена вернуть ему дочь как хозяйку в дом, то теперь он искренне гордится своим «большим уланом», заинтересован в ее службе и карьере. Из письма старого Дурова к князю П. Вяземскому видно, что с помощью Надежды Андреевны, пользовавшейся любовью и покровительством М. И. Кутузова, он надеялся обеспечить быстрое продвижение по службе своего единственного любимого сына Василия, устроив его в штаб главнокомандующего. Кроме того, в письме к князю П. Вяземскому от 23 января 1817 г. старого городничего очень печалило то обстоятельство, что после смерти М. И. Кутузова Дурова не получила обещанного ей главнокомандующим ордена Святой Анны II степени.
12 мая 1813 г. Дурова наконец выезжает из Сарапула, отправившись в действующую армию вместе со своим младшим братом. В Москве до нее доходит горестная весть о смерти М. И. Кутузова. Оставив брата на попечение гусарского офицера Никифорова, она спешит присоединиться к резервному эскадрону, в который собирались офицеры, отставшие от своих частей по болезни или по ранению. В составе этого эскадрона она принимала участие в осаде крепости Модлин в герцогстве Варшавском, а также крепостей Гамбург и Гарбург, продолжавшихся вплоть до взятия Парижа в марте 1814 г. В результате Дуровой так и не удалось побывать в Париже, где триумфально закончилась для России Отечественная война 1812 г. Что касается брата Дуровой, то он был определен, возможно, не без хлопот своей сестры, юнкером в Лейб-гвардии уланский полк, а менее чем через два года был произведен в первый офицерский чин корнета, после чего был направлен служить в Литовский уланский полк. В это время молодому офицеру исполнилось всего лишь 16 лет.
После окончания войны с Францией Дурова некоторое время находится за границей: она в отпуске и путешествует по Германии, а в конце 1814 г. возвращается в Россию.
К этому времени служба начинает заметно тяготить ее. Прелесть новизны давно пропала. Сослуживцы почти наверняка угадывают правду. Впрочем, Дурову это, на первый взгляд, мало беспокоит. По крайней мере, в своих «Записках» она уверяет: «Сослуживцы мои очень дружески расположены ко мне и весьма хорошо мыслят; я ничего не потеряю в их мнении: они были свидетелями и товарищами ратной службы моей» (с. 200).
В 1815—1816 гг. заметно ухудшилось отношение к Дуровой со стороны императорского двора и Главной квартиры. Видимых причин к этому не было, но можно предположить, что Дурова во многом не оправдала надежд царя. Александр I, оказывая ей свое высокое покровительство в 1807 г., по-видимому, надеялся на головокружительные подвиги, которые будет совершать эта молодая экзальтированная женщина, этакая Жанна д’Арк в гусарском мундире, во славу своего монарха. На нее смотрели с любопытством и ждали, что будет дальше. Ждали странностей, рискованных выходок, необыкновенных предприятий. Дурова же служила просто как честный офицер, не напрашиваясь на службу, но и не отказываясь от нее. Император, равно как и современники, не понял в ней главного: не только блеск гусарской сабли и желание отличиться привели ее в армию, но и неудавшаяся женская судьба, сломанная в самом начале, органическая неспособность мириться с зависимым положением. Такое же непонимание, кстати, высказывали близкие к ней люди, се родственники. Еще раз вспомним слова И. Бутовского, ее двоюродного брата по матери, в письме к историку А. Михайловскому-Данилевскому: «Если madame мало воспользовалась благоволением к ней императора Александра, то сама… тому виной» [Письмо Бутовского И. Г. генерал-лейтенанту А. И. Михайловскому-Данилевскому].
Однако справедливости ради надо признать, что в 1814—1815 гг. Дуровой было весьма затруднительно пользоваться благоволением императора, у которого, кстати, совсем не было времени заниматься ее судьбой, когда на глазах одного поколения несколько раз изменялся политический облик всего мира. Война 1812 г., выдвинувшая тысячи героев, заграничные походы, покрывшие славой русское оружие, Венский конгресс, та первостепенная роль, которую играл теперь русский император в европейских делах, — все это отодвигало ежедневный подвиг Дуровой на задний план. Нельзя не согласиться со справедливой точкой зрения А. Бегуновой, отметившей кардинальное изменение характера Александра I за восемь лет, прошедших с того момента, когда он позволил Дуровой стать корнетом Мариупольского гусарского полка и называться по его имени Александровым. Бегунова пишет: «Вряд ли интерес Александра Павловича к „кавалерист-девице“, познакомившейся с ним в декабре 1807 года, был фальшивым, притворным. Государю не было никакой нужды разыгрывать такой спектакль перед одной из миллионов подданных его огромной империи. Но годы шли. Целая эпоха канула в вечность, а вместе с ней — его романтические представления о мире, людях, их отношениях. После 1814 года переговоры с бывшими недругами России вел уже ИНОЙ человек: расчетливый, осторожный, жесткий. Может быть, он как никто другой понимал, что в этой новой действительности места героям прежнего возвышенного склада больше не отведено» [Бегунова, с. 293].
Весь 1812, 1813, 1814 г. Дурова не получает никакой денежной помощи из Петербурга. Она пишет письма Главнокомандующему 1-й армией генерал-фельдмаршалу графу М. Б. Барклаю-де-Толли с просьбой оказать помощь хотя бы ее престарелому отцу, единственному человеку в мире, которого Дурова всегда сердечно любила и уважала. Письмо от 25 января 1815 г. похоже на настоящий крик о помощи. Она пишет: «Сиятельный граф, для себя я уже ничего не желаю и не прошу, но если есть еще для меня какая-нибудь надежда быть счастливым, то исполнение оного в ваших руках и непосредственно от вас зависит; отец мой, для которого я сделал этот решительный шаг, пошел в службу, для которого в двух кампаниях подвергал жизнь свою опасностям, перенес все неудовольствия физические и моральные, перенес все, что может человек перенесть; для которого решился обычаям, предрассудкам и самой природе противопоставить твердую волю; этот отец, ваше сиятельство, стар уже, давно наступил вечер для него, и в сии-то лета, в которые всего нужнее спокойствие, печальная бедность есть его уделом. Ваше сиятельство, любовь сыновняя есть чувство священное, почувствуйте боль в душе моей и будьте ангелом-хранитслем для моего семейства» [Письмо поручика Литовского уланского полка Александрова Главнокомандующему 1-й армией генералфельдмаршалу графу М. Б. Барклаю-де-Толли]. Впервые документ был опубликован А. Бегуновой.
Разумеется, в этом письме Дурова немного лукавит. Выше мы уже видели, как противился Дуров-старший уходу своей дочери в армию. Что касается основной побудительной причины ее ухода на военную службу, то такой причиной было во многом стремление к свободе, желание обрести независимость от своей семьи, от обычного удела, предписанного женщинам. Интересен еще один момент, связанный уже с гендерной проблематикой послания. Это абсолютная уверенность Дуровой в том, что главнокомандующий должен не только хорошо помнить все обстоятельства «службы» Дуровой, но и знать ее отца, отдавать себе отчет в сложности его финансового положения. Ведь Дурова даже не называет своего отца по фамилии, не сообщает, где он живет, в какой службе он состоит и т. д.
Стоит ли удивляться тому, что, получив данное письмо, М. Б. Барклай-де-Толли был вынужден 4 марта 1815 г. отправить письмо Дуровой с сопроводительной запиской генерал-адъютанту князю А. И. Горчакову. В записке Барклай-де-Толли признавался: «как я не имею сведения, кто отец сего офицера, то сказанное письмо его имею честь преподносить при сем к Вашему Сиятельству, и прошу покорнейше Вас, Милостивый Государь мой, по собрании об отце его нужных сведений испросить у Государя Императора возможное для него пособие» [Сопроводительная записка генерал-фельдмаршала графа М. Б. Барклая-де-Толли генерал-адъютанту князю А. И. Горчакову]. 30 марта 1815 г. военное казначейство прислало Дуровой 500 рублей, которые, видимо, должны были рассматриваться ею как единовременная помощь для ее отца.
Через год, 9 мая 1816 г., Дурова подает прошение об отставке.
Причина отставки Дуровой вызвала широкую дискуссию в исследовательской литературе. Существует сразу несколько версий, которые одинаково распространены в научной традиции. В уже известной нам «Справке по службе» указывается, что Дурова вышла в отставку по болезни. Сама писательница в «Автобиографии» и в «Записках» пишет, что причиной отставки было настойчивое желание ее отца видеть дочь дома в качестве хозяйки. Наконец, один из современников Дуровой, Н. Сушков, дядя знаменитой поэтессы Е. Ростопчиной, в неизданной части «Обоза к потомству» заявлял, что «Александров отказался от службы, как обиженный, — ему прислали на голову ротмистра» [Сушков].
Очевидно, что две первые причины отставки Дуровой не выдерживают серьезной критики, никак не согласуясь с ее последующими действиями, а именно с готовностью в конце 1816 г. снова определиться на военную службу. Остается предположить, что решение об отставке было принято ею неожиданно, импульсивно, в запальчивости. Данное предположение косвенно подтверждается прошением отставного штабс-ротмистра Александрова о принятии его на службу вновь, адресованное директору канцелярии Главного штаба князю А. С. Меньшикову 13 января 1816 г. В данном прошении Дурова так объясняла свой поступок: «Это было величайшее безрассудство. Природа, дав мне непреодолимую склонность и вместе способность к военной службе, сделала ее моею стихиею. Скоро будет год, как тщетно стараюсь привыкнуть к странности видеть себя в бездействии. Я решился, наконец, не теряя времени в бесполезных сожалениях, вступить опять в службу и никогда уже ее не оставлять» [Прошение отставного штабс-ротмистра Александрова о принятии его на службу вновь].
Было ли «величайшее безрассудство» в жизни Дуровой связано лишь с присылкой ротмистра «на голову», как это предполагал Н. Сушков? Считать точку зрения Н. Сушкова единственно возможной кажется нам сомнительным. Дурова не была так уж честолюбива, и сам по себе факт ущемления по службе не мог бы заставить ее отказаться от дела, которому она мечтала посвятить всю свою жизнь. Ведь нс обижал же ее факт столь долгого пребывания в корнетах (около четырех лет). Если присылка ротмистра действительно сыграла свою роль в решении Дуровой оставить военную службу, то как повод, а не как причина. Причина же столь необдуманного поступка была, вероятно, в другом.
На наш взгляд, разгадку неожиданной отставки Дуровой можно найти в самих ее «Записках». Дело в том, что зимой 1816 г. Надежда Андреевна была послана в Петербург в служебную командировку для приобретения некоторого количества оружия и амуниции, а также получения полковых денег из казначейства. В столице же произошло обычное явление: Дурову, не умеющую хорошо распоряжаться и своими собственными деньгами, о чем она много и откровенно писала, обманули опытные в таких делах чиновники казначейства и комиссариата. Мало того, и сам О. Штакельберг, командир полка, дав ей в помощь «опытных унтер-офицеров», знающих, как можно приобрести все нужные вещи «из экономии», надеялся, в свою очередь, обмануть и казначейство, и комиссариат. Однако дело раскрылось, и обман не удался. Будь на месте Н. Дуровой другой офицер, он оказался бы в очень неприятном положении, возможно, под следствием и судом. Да и сама Дурова, чтобы оправдаться, вынуждена была нанести визит всесильному А. Аракчееву, о чем, кстати, она тоже достаточно подробно рассказывает, не называя, правда, истинной причины такой неожиданной для простого армейского обер-офицера аудиенции. Визит к Аракчееву оказался удачным. Более того, «Змей Горыныч», как его называли недоброжелатели, даже очаровал Дурову своими манерами. Дурова вспоминала впоследствии: «Говорят, что граф очень суров; нет, мне он показался ласковым и даже добродушным. Он подошел ко мне, взял за руки и говорил, что ему очень приятно узнать меня лично; обязательно припомнил мне, что по письмам моим выполнил все без отлагательства и с удовольствием. Столько вежливости казалось мне очень несовместным с тем слухом, который носится везде о его угрюмости, неприступности, как говорят другие» (с. 245). В результате этой личной встречи дело замяли.
Из всей этой истории Дурова поняла очень хорошо только одно — ею воспользовались как ширмой для проворачивания сомнительных махинаций. Воспользовались, будучи уверенными в ее полнейшей неосведомленности в подобного рода делах и зная ее особое положение в армии. Без сомнения, Надежда Андреевна почувствовала себя оскорбленной. 9 марта в качестве протеста против такого обращения с ней Дурова подает в отставку, твердо уверенная в том, что отставка не будет принята, император разберется в ее деле и накажет виновных, защитив ее доброе имя.
Вместо этого она узнает, что 24 апреля ее отставка получила высочайшее утверждение. В соответствии с существующей традицией Дурова получает при отставке следующий чин штабс-ротмистра и единовременно 2000 рублей. Однако, к удивлению Надежды Андреевны, ей даже не была назначена пенсия, хотя десятилетняя служба в армии давала все права на это. Тем более, у ее отца не было никаких постоянных доходов. Следовательно, истратив выданные из казначейства 2000 рублей, она лишилась бы всех средств к существованию.
Выйдя в отставку, Дурова уезжает в Сарапул, к отцу, уже весьма пожилому человеку. По всей вероятности, ни сама Надежда Андреевна, ни ее отец не думали тогда, что ее отставка продлится вечно. Мы уже писали о том, что 13 декабря 1816 г. Дурова подает прошение о зачислении ее вновь на службу. В это время она живет в Петербурге, на Сенной площади в доме Кузьминой, в квартире своего дяди Н. А. Дурова.
В своем прошении Дурова просила государя императора принять ее на службу со старшинством, то есть в чине штабсротмистра, который она получила при отставке. Кстати, именно в прошении содержится намек на справедливость предположения Н. Сушкова о штабс-ротмистре, присланном «на голову», так как Дурова отмечает, что «чин штабс-ротмистра, которым я отставлен, следовал мне по линии». Далее Дурова просит, чтобы ее назначили в «какой ему угодно полк легкой кавалерии, находящийся в корпусе графа Воронцова», то есть входящий в состав русских оккупационных войск во Франции. Кроме того, она выражает надежду, что по представлению директора канцелярии Главного штаба князя А. С. Меньшикова она сможет получить 2000 рублей на обмундирование [Прошение отставного штабс-ротмистра Александрова о принятии его на службу вновь]. Из данного прошения явственно следует, что Дурова, во-первых, не хотела возвращаться в Литовский уланский полк, а во-вторых, была абсолютно уверена в справедливости своих требований, раз она не забыла в письмопрошение вставить фразу о сумме, необходимой на обмундирование. В-третьих, она хотела послужить во Франции, в корпусе графа Воронцова, в котором еще царил вольный доаракчеевский дух русской армии.
Уже через три дня, 16 декабря, она получает письмо от помощника начальника отдела Иванова, в котором сообщалось, что «Начальник Главного Штаба Его Императорского Величества извещает г. штаб-ротмистра Александрова, что на просьбу его об определении по-прежнему в службу высочайшего соизволения не последовало» [Дело об отставленном штабс-ротмистре Александрове, просившемся о принятии на службу вновь].
После получения Дуровой отказа в дело включается ее отец. Так, в уже цитированном нами выше письме А. В. Дурова к князю А. Вяземскому старый городничий сообщает ему, что М. И. Кутузов обещал дать Дуровой орден Анны второй степени, и просит Вяземского похлопотать за «большого улана» в Петербурге. Судя по всему, эти хлопоты также оказались тщетными.
Отчаявшись вновь поступить на службу, Дурова стремилась хотя бы получить официальный указ о своей отставке. В марте 1817 г. в инспекторский департамент Главного штаба Его Императорского Величества было направлено прошение отставного штабс-ротмистра Александрова, в котором он просил покорно оный департамент выдать данный указ «под расписку Учебного Карабинерского полка майора Жуковского» [Дело по прошению отставного штабс-ротмистра Александрова о даче ему от отставке указа]. Впервые данные документы были опубликованы.
A. Бегуновой.
Получив данное прошение, чиновники Главного штаба оказались в замешательстве. Вначале на прошение была наложена резолюция: «…сделать докладную записку с испрошением разрешения, можно ли приступить к выдаче просимого указа, так как проситель не мужска, а женского рода и может быть имеет мужа у себя» [Там же]. Как видно из этой резолюции, призрак мужа.
B. С. Чернова не оставлял Дурову даже после того, как она вышла в отставку, пробыв десять лет в конном строю. Российских чиновников просто шокировал тот факт, что они должны будут подготовить указ об отставке с действительной военной службы замужней даме! Наконец, после долгих раздумий было принято воистину соломоново решение. 7 марта 1817 г. Инспекторский департамент Главного штаба (отделение V, стол 3) принимает решение «дать указ об отставке не женщине Александровой, а штабс-ротмистру Александрову» [Там же]. С этого момента чин штабс-ротмистра начинает рассматриваться не только окружающими, но и самой Дуровой как гендерная альтернатива ее настоящего «женского рода».
Живя в Петербурге, Дурова вращается в основном в среднем кругу, который составлял общество ее дяди. А. Бегунова обнаружила сведения о дяде Дуровой в Российском государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург). Исходя из них, следует, что, начав служить в 1770 г., Николай Васильевич в 1802 г. попадает под суд, но ему удается оправдаться. В 1818 г. дядя Дуровой, имея чин коллежского советника, просил о назначении его на должность председателя Воронежской уголовной палаты. Однако император Александр I не утверждает данное назначение, мотивируя отказ тем, что Дуров долгое время сам находился под судом и следствием.
Тем не менее, Николай Васильевич имел связи в русском высшем обществе. В результате Дурову принимают в светских гостиных князей Салтыковых, князя М. Дундукова-Корсакова. Но в целом, лишившись поддержки императора, потерявшего к ней всякий интерес, став обычным штабс-ротмистром в отставке, она испытывает горечь отказов и бедность. Однако жизнь в Петербурге, при всей ее сложности, была сопряжена для нее и с немалыми удовольствиями. Впервые она может располагать своим свободным временем, посвящая большую его часть театру и литературному труду. Она лично знакомится с В. А. Жуковским, начинает работать над своим дневником «мариупольского периода».
В конце 1820 г. Дурова снова пишет прошение на Высочайшее имя с просьбой о назначении ей «по бедному состоянию от казны содержания». Эта просьба опять не была удовлетворена, хотя Дуровой было выдано единовременное пособие в размере 1000 рублей. Эго свидетельствует только об одном — ее упорно не хотели признавать официально как русского офицера, имеющего общие со всеми права. Единовременные пособия очень напоминали мимолетное выражение монаршей милости, но никак не признание ее реальных заслуг перед Отечеством, о чем свидетельствовало, к примеру, назначение офицеру пожизненной правительственной пенсии. Для Дуровой же принципиально важно было всей своей жизнью доказать право считаться просто обычным офицером, а не уникумом, «российской Беллоной», как хотели воспринимать ее современники. В результате пожизненную пенсию в размере 1000 рублей в год Дурова начала получать лишь с 1824 г., через восемь лет после выхода ее в отставку.
Жизнь в Петербурге в 1817—1821 гг. была своеобразной репетицией всей ее последующей жизни. Здесь кончалось то, что могло еще объединять ее с другими современницами, когда-либо облачавшимися в военный мундир. Начинается поступок, ставящий Дурову в совершенно особое положение по отношению к окружающим ее людям. Одно дело — носить в молодости военный мундир и служить в армии, а потом снова стать обыкновенной женщиной, как это сделали, к примеру, генеральша Храповицкая или «немецкая амазонка» Луиза Мануе из Кёльна. Несколько лет прослужив в уланском полку по время кампаний 1813−1815 гг. и даже лишившись правой руки, она после окончания военных действий благополучно вышла замуж за переплетчика Иоганна Кессениха и стала счастливой матерью троих детей! Совсем другое дело — остаться «мужчиной» на всю оставшуюся жизнь, навсегда перевоплотясь в Александра Андреевича Александрова. Это был вызов обществу, нарушение всех правил приличия, наконец, церковных законов. Забегая вперед, скажем, что, даже умирая, Дурова завещала похоронить себя в мужской одежде как раба Божьего Александра [Сакс, с. 59].
Появляясь в обществе как отставной штабс-ротмистр, она навсегда закрепляет свое новое положение. Тайны «кавалеристдевицы» давно не существует. Ее история известна многим. В «Автобишрафии» она пишет: «Досадно было мне любопытство, с которым смотрели на меня встречающиеся на гуляниях в саду, по Невскому и в других публичных местах» [Дурова, 19 836, с. 449]. Вообще, в принципе неверно положение, согласно которому тайна штабс-ротмистра Александрова стала известна в обществе лишь после опубликования ее «Записок». Тогда читатели узнали лишь, что штабс-ротмистр Александров и Надежда Андреевна Дурова — одно и то же лицо, но никак не сам факт, что ротмистр Александров на самом деле не был мужчиной. Не случайно в предисловии к «Запискам» А. Пушкин писал: «Какие причины заставили молодую девушку хорошей дворянской фамилии оставить дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают мужчин… Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время (выделено мной. — Е. П.) сильно занимали общество» [Пушкин, т. 7, с. 271]. «То время» у А. Пушкина — это как раз эпоха 10−20-х гг. XIX в.
Несмотря на досаду, которую вызывало у Дуровой чрезмерное любопытство к ее особе, петербургские родственники продолжали рекламировать ее как необыкновенное явление, не очень-то щадя при этом ее репутацию. Они даже обвиняли Надежду Андреевну в неумении сделать карьеру. Так, И. Г. Бутовский прямо писал по этому поводу известному военному историку А. И. Михайловскому-Данилевскому: «Не штаб-ротмистром ей быть, а генералом, но женский каприз так велик, что расстроил весь план» [Письмо Бутовского И. Г. генерал-лейтенанту А. И. Михайловскому-Данилевскому]. По-видимому, женским капризом была та щепетильность, которую Дурова проявила в деле с комиссариатом.
Необходимо обратить внимание еще на один момент. Дурова нс воспринималась современниками как героиня 1812 г. Е. Некрасова явно преувеличивала, когда писала, что «тот (то есть военный. — Е. П.) период ее жизни, который был полон отваги и блеска, сделал ее имя известным всей России, начиная с царя, кончая деревенской избой, куда рассказы о „девице-кавалеристе“ заносились вернувшимися из наполеоновских походов солдатами» [Некрасова, с. 599]. На самом деле слух о «кавалерист-девице», если бы он даже действительно распространился так широко, никак не связывался с именем дочери сарапульского городничего Надежды Андреевны Дуровой (Черновой). Контузия вывела ее из строя еще до развертывания широкомасштабной народной войны, когда Россия узнала имена таких женщин-героинь, как Василиса Кожина или Прасковья Кружевница, до начала мощной патриотической кампании, которую вели в русской прессе журналы типа «Сына Отечества» или «Русского вестника», где печатались статьи обо всех необыкновенных примерах доблестного служения Отечеству и где, конечно же, нашлось бы место для рассказа о первой русской женщине, боевом офицере, уже шесть лет верой и правдой служившей России.
Тогда ее имя могло бы стать известным повсюду. Но, зная принципиальное желание Надежды Андреевны всеми способами скрыть свой пол и настоящее имя, трудно представить, чтобы она пожертвовала своим инкогнито ради суетного желания стать «героиней», получив официальное признание. Ведь и без того история «кавалерист-девицы» стала объектом самых чудовищных вымыслов и грязных сплетен. Упоминание о них мы находим даже в ее «Записках». Наиболее откровенным является рассказ Дуровой о сс встрече с комиссионером (чиновником комиссариатского департамента военного министерства. —Е. П.) Плахутой в 1809 г. в доме одного из помещиков Черниговской губернии, когда сама Надежда Андреевна была корнетом Мариупольского гусарского полка. Дурова пишет: «В множестве рассказываемых им любопытных происшествий я имела удовольствие слышать и собственную свою историю: «Вообразите, — говорил Плахута всем нам, — вообразите, господа, мое удивление, когда я, обедая в Витебске в трактире вместе с одним молодым уланом, слышу после, что этот улан амазонка, что она была во всех сражениях в Прусскую кампанию и что теперь едет в Петербург с флигель-адъютантом, которого царь наш нарочно послал за нею! Не обращая прежде никакого внимания на юношу-улана, после этого известия я не мог уже перестать смотреть на героиню». «Какова она собою?» — закричали со всех сторон молодые люди. «Очень смугла, — отвечал Плахута, — но имеет свежий вид и кроткий взгляд, впрочем, для человека непредубежденного в ней не заметно ничего, что бы обличало пол ее; она кажется чрезмерно еще молодым мальчиком».
Хотя я очень покраснела, слушая этот рассказ, но так как в комнате было уже темно, то я имела шалость спросить Плахуту: узнал ли бы он эту амазонку, если б теперь увидел ее? «О, непременно, — отвечал комиссионер, — мне очень памятно лицо ее; как теперь гляжу на нее; и где бы ни встретил, тотчас бы узнал». — «Видно, память ваша очень хороша», — сказала я, завертываясь в свою шинель" (с. 117).
Не щадил репутацию Дуровой и известный поэт-партизан Д. Давыдов. В своем письме к Пушкину от 13 октября 1836 г. он с удовольствием приводит рассказ однополчанина Дуровой по Литовскому уланскому полку Г. Шварца о романических похождениях «кавалерист-девицы», который, в свою очередь, был рассказан Шварцем старому товарищу Давыдова по партизанским рейдам 1812 г. Д. Бекетову, а тот уже передал его поэту-партизану. Рассказ выглядел таким образом: «. .Шварц служил прежде в Генеральном штабе и был на съемке местности в Казанской губернии. Дурова в него влюбилась, и когда переместили его на Дон, она бежала из родительского дома вслед за ним. К несчастью ее, Шварца перевели тогда в Литовский уланский полк, который стоял на Волыни. Она поскакала туда и, приехавши в Бердичсв, так истратилась в деньгах, что приходилось ей умирать с голоду. В это время вербовали в Мариупольский гусарский полк (который тогда был вербованный полк), и она, надев мужское платье, завербовалась в гусары, чтоб не умереть с голоду. Прослужив несколько месяцев гусаром, тогда только узнала она о местопребывании Литовского уланского полка и перепросилась в оный — вот ее начальные похождения» [Письмо Давыдова А. С. Пушкину…, с. 152].
А. Бегунова, проанализировав формулярный список Г. Е. Шварца, приходит к справедливому выводу, что в рассказе Д. Давыдова «все… от начала до конца — полная ложь», начиная с того, что у Шварца никогда не было командировок в Казанскую губернию, не был он и на Дону в октябре 1806 г. [Бегунова, с. 231 ]. Что касается причин, заставивших Дурову вступить в Мариупольский гусарский полк, то этот вопрос можно даже не обсуждать из-за его абсурдности. Задаваясь вопросом, почему Григорий Ефимович Шварц, человек, к которому Дурова всегда хорошо относилась, называя его на страницах «Записок» в числе офицеров «отличных по уму, тону и воспитанию», унизился до гнусной клеветы, Бегунова называет в качестве основной причины… зависть. «В 1836 году генералов в России было более шестисот, а „кавалерист-девица“, блестяще дебютировавшая со своими „Записками“ в пушкинском журнале „Современник“, всего одна» [Там же, с. 233]. Думается, что дело тут не только в зависти. Женщина в армии — любимый сюжет «мужских» военных историй всех времен и народов. В этом отношении часто даже герои войн, каковым был тот же Д. Давыдов, ведут себя не намного лучше, чем тот же комиссионер Плахута, действовавший по принципу «слышал звон, да не знает, где он». Тем более не надо забывать того факта, что Давыдов передает нс рассказ, непосредственно услышанный от Шварца, но рассказ Шварца, переданный ему Д. Бекетовым, который также мог присочинить некоторые детали, своеобразное платоновское «отражение отражения» в гусарских анекдотах в духе «поручика Ржевского». Можно только порадоваться за тот факт, что Главный штаб и военная канцелярия сумели так законспирировать «корнета» Александрова, что никому из рассказчиков даже не пришло в голову связать службу Дуровой в том же Мариупольском гусарском полку с личным разрешением, полученным Дуровой от императора Александра I. Понятно, что в таких условиях Дурова сознательно не хотела официального разглашения своей тайны.
Лучшим свидетельством того, насколько важно было для Дуровой сохранить этот миф в неприкосновенности, могут служить те энергичные меры, которые она принимала всякий раз, когда было необходимо пресечь все попытки выяснения обстоятельств ее жизни помимо «Записок». Еще раз вспомним историю В. Н. Мамышева, издателя «Русской патриотической библиотеки», который в 1861 г. просил Дурову дать свою полную биографию для серии «Георгиевские кавалеры», и ответ Дуровой: «О биографии моей вы можете выправиться в моих записках, в них подробно описана вся жизнь моя с самого рождения. Книги эти вы можете достать в императорской библиотеке, более нет уж их нигде.
В истинности всего там написанного я удостоверяю честным словом и надеюсь, что вы не будете верить всем толкам и суждениям, делаемым и вкривь и вкось людьми-сплетниками" [Цит. по: Сакс, с. 22]. Трудно выразиться более определенно и откровенно. Для Дуровой ее вторая полувымышлснная романтизированная жизнь настолько стала единственной реальностью бытия, что любые попытки выяснения истинной правды фактов воспринимались ею как враждебные и пристрастные происки недоброжелателей.
Лишь 24 января 1824 г., через восемь лет после фактического выхода в отставку, «по Именному Высочайшему указу» и «Всемилостивсйшему поведению» было приказано «производить штабсротмистру Александрову в пенсион, но смерть, но 1000 рублей в год.
Выплату оного производить через уездное казначейство в городе Сарапуле" [Дело о назначении пенсиона отставному штабс-ротмистру Литовского уланского полка Александрову]. Справедливость наконец восторжествовала. Дуровой к этому времени был уже 41 год.
«Военный» период ее жизни был окончен, литературный был еще впереди.
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки
- 1. Назвать основные причины культурного мифотворчества, связанного с образом «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой.
- 2. Исследовать феномен «у топии как деятельности» в русской литературе, специфику его проявления в мемуарно-автобиографических текстах.
- 3. Проанализировать возможности биографического метода исследования для реконструкции творческого пути мемуариста, творящего утопию как реальность.
- 4. Определить основные пути мифологизации мемуарной биографии и роль архивных документов в процессе ее демифологизации.
- 5. Обозначить границы использования автодокументальных источников для демифологизации мемуарной биографии писателя.
Список рекомендуемой литературы
Анисимов Е. В. «Записки» Екатерины И: силлогизмы и реальность / Е. В. Анисимов // Записки императрицы Екатерины II. М., 1990.
С. 3−24.
Богданов А. Н. Изучение мемуарных и эпистолярных источников / А. Н. Богданов, Л. Г. Юдкевич // Богданов А. Н., Юдкевич Л. Г. Методика литературоведческого анализа. М., 1969. С. 30−57.
Веллер М. Как писать мемуары / М. Веллер // Песнь торжествующего плебея. М., 2006. С. 103−122.
Гаранин Л. Я. Мемуарный жанр советской литературы / Л. Я. Гаранин. Минск, 1986. 222 с.
Гачев Г. Частная честная жизнь: Альтернативная русская литература / Г. Гачев // Лит. учеба. 1989. № 3. С. 119−128.
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе / Л. Я. Гинзбург. М., 1999. 413 с.
Елизаветина Г. Г. «Последняя грань в области романа…» / Г. Г. Елизаветина//Вопр. лит. 1982. № 10. С. 147−171.
Кочеткова Н. Д. «Исповедь» в русской литературе конца XVIII в. / И. Д. Кочеткова // На путях к романтизму. Л., 1987. С. 71−99.
Косарев А. Ф. Философия мифа: мифология и ее эвристическое значение / А. Ф. Косарев. М., 2000. 304 с.
Крючкова М. А. Феномен «философской жизни» в русской культуре XVIII в. (по поводу мемуаров И. Д. Ершова) / М. А. Крючкова // Человек эпохи Просвещения. М., 1999. С. 138−155.
Крючкова М. А. Мемуары Екатерины II и их время / М. А. Крючкова. М., 2009. 464 с.
Лежен Ф. В защиту автобиографии: эссе разных лет / Ф. Лежен // Иностр. лит. 2004. № 4. С. 108−122.
Маишнский С. О мемуарно-автобиографическом жанре / С. Машинский // Вопр. лит. 1960. № 6. С. 129−145.
Марахова ТА. О жанрах мемуарной литературы / Т. А. Марахова // Уч. зап. Горьк. гос. пед. ин-та им. М. Горького. Сер. филол. наук. 1967. Вып. 67. С. 19−38.
Найдыш В. М. Философия мифологии / В, М. Найдыш. М., 2002. 554 с.
Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы / Н. А. Николина. М., 2002. 424 с.
Приказчикова Е. Е. Русская мемуаристика XVIII — первой трети XIX века: имена и пути развития / Е. Е. Приказчикова. Екатеринбург, 2006. 384 с.
Приказчикова Е. Е. Культурные мифы и утопии русского Просвещения: На материале мемуарно-эпистолярной литературы II половины.
XVIII века / Е. Е. Приказчикова. Saarbriicken, 2010. 644 с. Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика / А. Г. Тартаков;
ский. М., 1980. 288 с.
Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины.
XIX в. / А. Г. Тартаковский. М., 1991. 288 с.
Устинов Д. В. «Утопия как деятельность» в русской культуре II половины XVIII в. / Д. В. Устинов, А. Ю. Веселова // Вести. Санкт-Петербург, ун-та. Сер. История, языкознание, литература. 1998. № 1. С. 77−85. Хубач В. Биография и автобиография: проблемы источника и изложения / В. Хубач. М., 1970. 13 с.
Шайтанов И. «Непроявленный жанр», или литературные заметки о мемуарной форме / И. Шайтанов // Вопр. лит. 1979. № 2. С. 50−77.
- [1] Впервые публикация письма была осуществлена И. Юдиной в журнале"Русская литература" (1983. № 2. С. 130−135).
- [2] Далее ссылки на записки Н. А. Дуровой даются по изданию: Дурова Н. А. Кавалерист-девица: 11роисшесгвие в России // Дурова Н. А. Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1983 с указанием страниц в круглых скобках.
- [3] Некоторые аспекты, связанные с дальнейшей судьбой сына Н. А. Дуровой
- [4] Ивана Чернова, были выяснены в 2010 г. старшим научным сотрудником музея-усадьбы Дуровой в г. Елабуге О. А. Айкашевой. Так, ей удалось установить, чтоИ. В. Чернов в 1837 г. в Петербурге женился на А. М. Вельской. Его супруга Анна
- [5] Михайловна скончалась в 1848 г. в возрасте 37 лет и была похоронена на Митро-фановском кладбище г. Петербурга. В 1856 г. в возрасте 53 лет скончался и самсын «кавалерист-девицы», который был похоронен на том же Митрофановскомкладбище. Таким образом, Дурова пережила своего сына на десять лет. Подробно
- [6] этом написано в статье О. А. Айкашевой «Иван Васильевич Чернов — сынН. А. Дуровой».