Измерение и типология религиозности
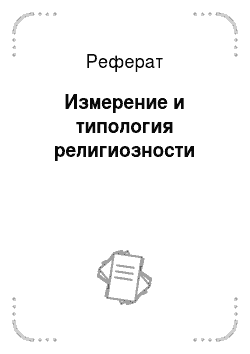
В основу еще одного варианта типологии религиозности был положен принцип единства религиозного сознания и поведения на основе гипотезы о зависимости степени религиозности человека от степени реализации в его поведении религиозных убеждений (соответственно, степень секуляризации зависит от степени реализации атеистических убеждений). Эта схема включала четыре типа, три из которых в свою очередь… Читать ещё >
Измерение и типология религиозности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Выделение эмпирических признаков религиозности, доступных фиксации и количественной оценке делает возможным ее измерение в разных аспектах, конкретизацию представлений о религиозности, ее качественную характеристику. В отечественной литературе нет единого мнения о параметрах (показателях) измерения религиозности. Так, некоторые исследователи выделяют два количественных показателя измерения религиозности: степень и распространенность. Под степенью религиозности понимается определенный уровень интенсивности религиозных свойств (признаков) индивида и группы. Распространенность религиозности представляет собой определенную величину экстенсивности разброса религиозных свойств (признаков) среди населения в целом и внутри различных социальных и демографических групп (доля обладающих религиозными свойствами индивидов среди населения или в группе[1]).
Другие ученые степень религиозности определяют как влияние религии на отдельного человека, фиксируемое посредством критериев религиозности. Уровень религиозности показывает отношение к религии той или иной социальной группы[2].
Следующий подход к параметрам измерения религиозности также подразумевает выделение двух количественных параметров измерения религиозности: уровня и степени. Под уровнем религиозности понимается процентное отношение респондентов, обладающих признаком, выбранным в качестве критерия религиозности, ко всей совокупности опрошенных, а при экстраполяции на всю генеральную совокупность опрошенных — выраженную в процентах долю людей религиозных в общем составе населения или другой обследуемой группы. Понятие «степень религиозности» фиксирует интенсивность появления, как определяющего признака (критерия), так и остальных выявленных признаков религиозности[3].
Понимание религиозности как социального качества предполагает при ее количественном измерении, прежде всего, фиксацию факта наличия определяющего признака, являющегося критерием религиозности, своеобразного «минимума религиозности», отвлекаясь при этом от измерения интенсивности религиозных свойств. Интенсивность их проявления свидетельствуют не о наличии или отсутствии свойства, а о его мере. Мера может быть выяснена тогда, когда наличие свойства уже установлено. Измерение степени религиозности предполагает анализ частоты, интенсивности, объема проявления по возможности большего числа признаков религиозности. Между уровнем и степенью религиозности существует сложная взаимосвязь, обусловленная многими факторами.
Измерение уровня религиозности предполагает его фиксацию в определенный момент времени. Сравнение результатов измерений уровня религиозности, фиксируемых на одном исследуемом объекте, с определенным временным интервалом, служит одним из показателей при определении динамики религиозности.
Измерение степени религиозности предполагает разработку соответствующих типологических схем и моделей. Под типами религиозности понимаются понятия, отражающие ее характер, общий для некоторого числа единиц исследуемой совокупности и служащие основой для соответствующих классификационных групп. Тип религиозности включает как количественные, так и качественные признаки, а типология формируется на основе комплекса показателей. Типологическая группировка используется для сравнительного изучения существенных в данном отношении свойств, связей, функций. Она предполагает содержательную классификацию единиц исследуемой совокупности, при этом важным является не только тождество индивидов данной группы и различие их с представителями других групп, но и взаимопереходы между группами.
Тип религиозности представляет собой разновидность эмпирического обобщения, имеет опытное содержание и дает описание действительности. По в нем присутствует и теоретический элемент, позволяющий объяснить изучаемое явление. При построении типологии уровень абстрагирования позволяет сохранять непосредственную связь с фактами, которые тот или иной тип объясняет. Таким образом, тип соединяет эмпирические факты и теоретическую концепцию.
Проблема разработки типологии религиозности при проведении конкретного социологического исследования не может быть решена чисто эмпирически и требует серьезного анализа методологических основ ее построения. Можно выделить три уровня методологических проблем, возникающих при работе над построением типологии религиозности:
Во-первых, это проблема выделения специфических признаков религиозности, операциональных определений этого понятия.
Во-вторых, это выбор критерия религиозности, задача, обеспечивающая эмпирическую интерпретацию понятия «религиозность».
В-третьих, это вопрос о специфическом признаке религии, решение которого связано с объяснением сущности и природы религии. В зависимости от того или иного решения последнего вопроса по-разному решаются методологические проблемы первого и второго уровня.
В отечественной литературе в 1960—1980;е гг. были разработаны различные варианты типологических схем религиозности. Эти схемы охватывают как религиозное, так и нерелигиозное население и предполагают дополнительную классификацию групп, имеющих религиозные признаки.
Так, некоторыми авторами была предложена типология, включающая три основные группы населения, в зависимости от их отношения к религии: верующие, колеблющиеся и неверующие, и соответствующая классификация каждой из групп, основанием которой служили содержание веры и степень ее реализации в сознательной деятельности. Внутри типологических групп были выделены подгруппы последовательных и непоследовательных•, активных и неактивных верующих[4].
Другая типология предполагает выделение пяти мировоззренческих групп: атеистов; убежденных неверующих; безрелигиозных; колеблющихся; убежденных верующих[5][6]. В качестве оснований для классификации использовались четыре основных признака: степень убежденности; активность в распространении взглядов; отношения между людьми на почве религии и атеизма; участие в производственной, общественной, культурной жизни. На основе этих критериев выделялись, с одной стороны — убежденные атеисты, с другой стороны — верующие-фанатики*.
В основу еще одного варианта типологии религиозности был положен принцип единства религиозного сознания и поведения на основе гипотезы о зависимости степени религиозности человека от степени реализации в его поведении религиозных убеждений (соответственно, степень секуляризации зависит от степени реализации атеистических убеждений). Эта схема включала четыре типа, три из которых в свою очередь подразделялись на группы. Типологические группы выделялись на основе строго фиксированных субъективных (личное отношение опрошенного к религии) и объективных (признаки религиозного или атеистического поведения) показателей. Сопоставление субъективных и объективных показателей давало возможность выявления мотивации религиозного или атеистического поведения. Тип верующих включал: убежденных верующих, распространяющих религиозные взгляды и убежденных верующих, не распространяющих религиозных взглядов (группы В1 и В2, соответственно). Тип колеблющихся включал: колеблющихся первого порядка, то есть склонных к колебаниям в сторону веры и колеблющихся второго порядка — склонных к колебаниям в сторону неверия (группы К1 и К2, соответственно). Тип индифферентных па группы не делился. А тип атеистов включал группы не распространяющих атеистические взгляды и распространяющие их (группы А1 и А2, соответственно)[7].
Были предложены типологические схемы для классификации только индивидов имеющих религиозные признаки; предлагались типологии, намечающие различные интенсивности религиозных признаков у членов различных видов религиозных объединений[8].
Исследования, проводившиеся на рубеже тысячелетий, вновь актуализировали проблему типологии религиозности в контексте различных интерпретаций феномена «религиозного возрождения». В общей массе респондентов, идентифицирующих себя как «верующие», исследователями выделялись, с одной стороны, немногочисленные «верующие в строгом смысле этого слова»[9], «истинно верующие»[10], «традиционные (серьезные, настоящие) верующие»[11], а большинство характеризовалось как носители «эклектического, адогматического и энтропийного»[12] религиозного сознания. Однако, справедливые утверждения о доминирующем в современном массовом сознании «релятивистком» отношении к собственным убеждениям, росте мировоззренческой неопределенности и идейной эклектики, следствием которого является «размягчение» целостных идеологий и снижение числа как догматических верующих, так и догматических атеистов[13], не решает проблемы построения типологии религиозности.
Ряд исследователей предложил построение типологии религиозности на основе понятия «жизненная позиция личности», которая содержательно определяется через три ключевых параметра: уровень включенности личности в социальную среду, уровень личностного контроля над жизненными обстоятельствами и общую направленность мотивов жизнедеятельности и ценностных ориентаций. На основе этих индикаторов выделяются четыре типа жизненных позиций — гармонический, технократический} традиционный и неадаптированный. На их основе складываются четыре позиции в отношении религии:
- • гармоническому типу соответствует «внеконфсссиональный» тип религиозности;
- • традиционному типу — акцент на вешне-обрядовую сторону религии;
- • технократическому типу — воспроизводство семейных традиций;
- • неадаптированному типу соответствует религиозность новообращенных, часто тяготеющих к новым религиозным движениям, иногда с акцентом на националистические, шовинистические или антисемитские взгляды[14].
По мнению отдельных специалистов, при выделении типов религиозности требуется комплексный подход: учет объема, содержания и уровня религиозного сознания, интенсивности религиозного поведения, степени включенности индивида в религиозные отношения. В этой связи предлагаются следующие параметры для построения типологии религиозности: содержание и интенсивность религиозной веры; интенсивность религиозного поведения и его место в общей системе деятельности; роль индивида в религиозной группе; степень активности в распространении религиозных взглядов; место религиозных мотивов в общей системе мотивации поведения. В соответствии с ними выделяются пять типов религиозных и нерелигиозных индивидов в зависимости от характера и места религиозной ориентации в ряду их ценностной ориентации или ее отсутствия[15].
При самостоятельном построении типологии, или выборе для применения уже существующей схемы необходимо учитывать следующие обстоятельства. Выбор типологии осуществляется с учетом целей и задач исследования и зависит от анализа социальной системы, изучаемых социальных групп, типов религии, религиозных направлений и институциональных объединений. Каждая из разработанных и примененных типологий отражает специфику исследуемого объекта, его социальное окружение, исторические обстоятельства. Кроме того, разработанные в 1960—1980;е гг. типологические схемы базируются на определенных методологических принципах. Поэтому прямое заимствование и использование имеющихся типологий религиозности представляется не совсем корректным. С другой стороны, дискуссионным остается вопрос о возможности единой типологии религиозности применительно к разным объектам исследования, в разных общественно-политических ситуациях. При построении типологии необходимо учитывать совокупность признаков религиозности, проявляющихся как в сознании, так и в поведении.
Измерение религиозности предусматривает не только количественную, но и качественную характеристику явления. Для ее обозначения используется понятие «характер религиозности», в котором интегрируется информация об уровне и степени религиозности, добавляются такие качественные признаки как конфессиональная определенность и включенность в религиозные отношения и объединения. Для определения характера религиозности необходим учет особенностей связанных со своеобразием исторического периода, национальной спецификой, социальным контекстом, территориально-демографическим своеобразием объекта исследования.
Для понимания характера религиозности недостаточно данных о самоидентификации респондентов относительно веры в Бога, необходимо разграничение декларируемой и реальной религиозности. Декларируемая религиозность часто весьма поверхностна. Она сводится к принятию соответствующей символики и соблюдению формальных требований (к примеру, ношение нательного креста, отказ от употребления в пищу свинины и т. п.). В основе такой религиозности может лежать стремление к обретению национальной идентичности, конформистское следование общественному мнению и моде, некритическое принятие и усвоение стереотипов массового сознания тиражируемых СМИ. Реальная религиозность предполагает содержательное освоение и принятие религиозных догматов, формирование устойчивых религиозных убеждений, единство сознания и поведения.
Определение характера религиозности предполагает соотнесение понятий «религиозность» и «квазирелигиозность», с одной стороны, и «церковность (воцерковленность)» и «богоискательство (спиритуальный поиск)», с другой.
Понятие «квазирелигиозность» характеризуется теми же особенностями, что и религиозность, отличаясь от последней объектом поклонения. Квазирелигиозность как феномен гражданской религии предполагает веру в естественные процессы, события и личности (например, «культ личности»), и формирование на основе подобной веры определенных социальных мифомоделей, как правило, находящих отражение и поддержку в массовом сознании[16]. Элементы квазирелигиозности присущи, как правило, новым религиозным движениям и политико-идеологически мифологемам («Американская мечта», «Третий рейх»).
Для выявления соотношения понятий «церковность {воцерковленность)» и «богоискательство (спиритуальный поиск)» целесообразным представляется рассмотрение религии как системы духовно-практической деятельности особого рода. В ней человек выступает носителем специфического мировоззрения, определенного комплекса религиозно-мифологических идей и представлений, свойственных тому или иному вероучению. Особенности религиозного сознания и поведения проявляются в доминировании религиозных чувств, вовлеченности в культовую практику, в специфических формах общения и взаимоотношения с окружающими.
Исследование религиозной деятельности предполагает анализ тех структур, в которых проявляется ее качественное своеобразие, и которые выражают меру упорядоченности строения религии. Например, в религиозной деятельности можно вычленить два рода структур — институциональные и неинституциональные[17]:
- • первые устойчивы, развернуты, обладают канонизированной и освященной внешней формой проявления. Они находят свое выражение в религиозных институтах, представляющих собой консолидированные объединения верующих, связанных между собой целостной системой религиозных отношений, для которых характерно единство трех сторон: вероучения, культа и организации, а также ролевых взаимосвязей, в которые вступают верующие и их лидеры. К ним соотносится понятие «церковность {воцерковленность)»;
- • вторые аморфны и неустойчивы, внешне слабо оформлены; им часто не свойственны какие-либо институциональные объединения верующих. I конституциональная структура религиозной деятельности предполагает несформированность целостного религиозного явления, находящегося в стадии становления. Таковы религиозно-мистические настроения и реформаторские выступления отдельных лиц, неформальных объединений богоискателей у движений «спиритуалъного поиска» и т. п. К ним относятся различные институционально не оформленные виды религиозности.
Иными словами, для институциональной формы религиозности характерна непосредственная реализация религиозных отношений в виде мистической установки личности, и понимание их как проявления связи и взаимодействия верующего индивида (группы) с трансцендентной реальностью. Применительно к неинституциональной религиозности можно говорить о негативной объективации религиозных отношений, служащей ее самоутверждению в качестве социальной альтернативы институциональным формам религиозности. Это предполагает стремление к радикальному обновлению господствующей вероисповедной традиции или полный разрыв с ней, выражающийся в объявлении господствующего вероучения ложным и отказе ему в статусе божественного откровения, в отрицании сакральности канонической обрядности и дискредитации официальных религиозных институтов. По своей природе «богоискательство» или «спиритуальный поиск» являются неинституциональными формами нетрадиционной религиозности[18].
В религиозно-мистических исканиях акцент делается на невыразимости экстатических переживаний, на отстраненности верующего от окружающей действительности. Для «богоискательства» характерно представление о многовариантности истины, которая может быть открыта различными путями, при этом индивид является конечной инстанцией в ее определении. Религиозное сознание «богоискателей» отличается эклектичностью, им свойственно объединение в неформальные группы, неустойчивые в своем существовании.
В институциональной же религиозности религиозные отношения подвергаются различной степени объективации, что придает им надличностный, сакральный статус, создаваемый посредством опредмечивания религиозности в форме догматического вероучения, канонизированных культовой практике, ритуалах, ступенях и титулах институциональной иерархии. Объективация религиозных отношений в институциональной форме создает надличностную систему, выступающую связующим звеном между верующим и сверхъестественным.
В качестве конкретизирующего признака религиозности, указывающего на ее институциональную форму, нередко используется понятие «припадлеэююсть к религиозной группе»у понимая под этим формальную или неформальную включенность индивида в систему отношений в религиозной группе[19]. В тоже время, в организационном плане религиозные группы могут являться частью различных типов религиозных объединений, специфические черты которых оказывают существенное влияние на характер религиозности их последователей. Поскольку в большинстве существующих типологий религиозных институтов в качестве основных типов выделяются церковь, секта и культ[20], то можно констатировать, что институциональная религиозность, как правило, находит свое воплощение в церковном («церковность»), сектантском или культистском вариантах. Два последних характерны для «нетрадиционной» религиозности[21], тогда как «церковность» соотносится с доминирующей в обществе вероисповедной традицией.
Церковность как институциональная форма религиозности предполагает:
- • ориентацию верующих на общественно установленную систему ценностей;
- • включение в русло определенных традиций, правил и норм поведения;
- • осмысление религиозного института (церкви) как «посредника» взаимодействия с трансцендентным, санкционирующего и контролирующего индивидуально-личностные установки верующих в деле спасения.
В богословской литературе Русской православной церкви понятие «церковность» выражает соответствие духовно-нравственных качеств, умонастроения, поведения человека канонам и вероучительным предписаниям церкви, связь с церковным институтом через общину (приход). Устав РПЦ определяет, что «…прихожанами являются лица православного исповедания, сохраняющие живую связь с приходом»[22]. Эта связь предполагает обязанность прихожан участвовать в богослужении, регулярно исповедоваться и причащаться, соблюдать каноны и церковные предписания, совершать дела веры, стремится к религиозно-нравственному совершенствованию и содействовать благосостоянию прихода, заботиться о материальном содержании причта и храма[23].
Поскольку реальность церковной жизни часто не совпадает с «идеальной» богословско-конической моделью, постольку понятие «церковность» осмысливается и интерпретируется исследователями по разному. К примеру, архиепископ Михаил (Мудьюгин) особо подчеркивает разницу между «поверхностной воцерковленностыо», которая часто связывается только с формальным фактом крещения в Православной Церкви, и «подлинной церковной принадлежностью Богу», означающей «личную приверженность и причастность Христу как своему Господу и Спасителю», реализующуюся в цележизненном и регулярном участии в таинстве святой евхаристии. Различие между «истинно православной церковностью» и се формально-декларативным вариантом подчеркивает специальное указание архиепископа Михаила на разницу между «православными» и «православными христианами», поскольку, с его точки зрения, самоидентификация в качестве «православного», без осознания себя христианином, свидетельствует об искаженном представлении о самой сущности православной веры и церковной жизни[24].
Игумен Вениамин (Новик) рассматривает православие как наиболее распространенный тип религиозности в России, связанный с установками национального самосознания, в сходной степени принадлежащим и верующим, и неверующим. Православие трактуется им не только в вероучителыюм и церковном смыслах, но и как социальная психология верующих людей, и людей индифферентных к православию в мистическом смысле, но уважающих его как важную историко-культурную традицию. Обращаясь к проблемам современного религиозно-церковного сознания, игумен Вениамин предпринимает попытку осмысления типологии российской религиозности с антропологической точки зрения. По его мнению, в рассматриваемом аспекте существуют два основных типа религиозности:
- • религиозность, соответствующая подсознанию и низшим уровням сознания. Эта религиозность носит редукционистский, природный, магический характер. Игумен Вениамин определяет ее как мистико-натуралистический партикуляризм, окрашенный трансцендирующим началом;
- • религиозность, соответствующая высшим уровням сознания. Эта религиозность связана с чувством универсализма, акцент в ней делается на этической стороне, на любви и сочувствии ко всем без исключения людям[25].
Иногда используется понятие «приобщенность к православию» (не столь однозначное как «церковность», но близкое по смыслу), предполагающее принадлежность к кругу верующих, к церковной жизни, а так же определенные личные обязательства перед Церковью как религиозным институтом. На основе данных социологических опросов ВЦИОМа, рассматривая «приобщенность к православию» как широкий и неоднородный феномен, в самом общем виде выделяются два типа православной религиозности: «традиционалистско-ритуальный» и «эмоционально-интеллектуальный», вариантами реализации которых в повседневной жизни выступают:
- • бытовое магическое двоеверие (или суеверие);
- • традиционалистское церковное обрядоверие;
- • этатистское «инаковерие» коммуно-державного толка;
- • поисковая проторелигиозная озабоченность[26].
Однако ни один из этих вариантов не соответствует «идеальной» богословско-канонической модели «православной церковности», применение параметров которой в качестве критериев для выделения «настоящих православных» при проведении исследования приводит к тому, что количество «православных в церковном смысле» будет колебаться от 0% до 6%, приближаясь к пределу статистической погрешности[27].
Некоторые авторы полагают, что определение «православности» (степени воцерковленения) с помощью редукционистской методики и инструментаря прикладной социологии невозможно, а предпринятые рядом исследователей попытки свидетельствуют об утрате методологической деликатности при проведении опросов[28]. Исходя из этой позиции оказывается, что использование таких признаков, определяющих «церковный» характер мировоззрения, как знание основных догматов, молитв, Библии, регулярное посещение храма и причащение, а в качестве признаков, свидетельствующих о «нецерковности» (или недостаточной степени воцерковления), — веру в магию, колдовство, астрологию, спиритизм, реинкарнацию, методологически некорректно и связано с неправильной интерпретацией отношения церкви к определенным явлениям. Поэтому идентифицировать людей, считающих себя православными, в качестве неправославных (тем самым, отказывая им в принадлежности к Церкви), вследствие того, что не все у них соответствует церковным канонам, не совсем правомерно[29].
Представляется методологически правильным четкое разграничение понятий «религиозность», «конфессиональная принадлежность» и «церковность». Конфессиональную принадлежность необходимо рассматривать как конкретизирующий признак религиозности, проявляющийся как в сознании, так и в поведении. Измерение религиозности путем простого суммирования ответов о конфессиональном самоопределении дает искаженное представление о действительном уровне религиозности, поскольку, идентифицируя себя с определенной религией, конфессией, направлением многие респонденты имеют в виду не свою веру в Бога, а свое отношение к определенной этнокультурной традиции. Понятие «церковность» можно использовать для обозначения институциональной формы религиозности, отличительной чертой которой является включенность в институционально оформленные объективированные религиозные отношения, создающие сакральную надличностную систему (церковь), базирующуюся на канонизированной традиции, восходящей к основателю и выступающую связующим звеном между верующим и сверхъестественным.
Особенностями «сектантского» и «кулыпистского» вариантов институциональной религиозности, характерных, прежде всего, для новых религиозных движений, являются внутренние противоречия между религиозно-мистической установкой на достижение каждым верующим личной связи с Богом (сверхъестественным) (посредством экстатической культовой практики, необходимостью прохождения большого количества уровней посвящения («спиритуального роста»)) и персонификацией этой связи в лице основателя, часто выступающего в качестве «живого бога», «пророка» и т. п.
Необходимо отметить, что в массовом сознании «церковность» выступает в качестве привычного стереотипа и образца «подлинной» религиозности, соотносящейся с национальной и культурно-исторической традицией, тогда как понятие «сектантство» воспринимается однозначно негативно. Кроме того, бурная активность новых религиозных объединений практически не поддается анализу посредством массовых опросов, поскольку данный вариант институциональной религиозности не отражается в их результатах, и количество респондентов, идентифицирующих себя с подобными религиозными объединениями, как правило, меньше процента статистической погрешности. В то же время, результаты массовых опросов содержат достаточно репрезентативные данные о различных формах неинституциональиой религиозности, о ее религиозно-мистической и оккультной составляющих.
- [1] См.: Яблоков И. Н. Социология религии. М., 1979. С. 123—124.
- [2] См.: Элбакян Е. С. Религиозность // Энциклопедия религий / Ред. Забияко А. П., Красников А. Н., Элбакян Е. С. М., 2008. С. 1065.
- [3] См.: Лопаткин Р. А. Социологическое изучение религиозной ситуации и государственно-церковных отношений // Государственно-церковные отношения (опыт прошлогои современное состояние). М, 1996. С. 195.
- [4] См.: Алексеев Н. П. Методика и результаты изучения религиозности сельского населения (па материалах Орловской области) // Вопросы научного атеизма. М., 1967. Вып. 3.С. 135.
- [5] См.: Тепляков М. К. Проблемы атеистического воспитания в практике партийнойработы. Воронеж, 1972. С. 118—121.
- [6] Тепляков М. К. Победа атеизма в различных социальных слоях советского общества (по материалам конкретно-социологического исследования в Воронежской области) //Вопросы научного атеизма. М., 1967. Вып. 4. С. 132—134.
- [7] См.: Лебедев А. А. Секуляризация населения социалистического города // К обществусвободному от религии (процесс секуляризации в условиях социалистического общества).М., 1970. С. 132−135.
- [8] Яблоков И. Н. Социология религии. М., 1979. С. 128—129.
- [9] Митрохин Л. Н. Религиозная ситуация в современной России.// Социологическиеисследования. 1995. № 11. С. 81.
- [10] Мчедлов М. П. Религиозная ситуация в современной России: реалии, противоречия, прогнозы // Свободная мысль. 1993. № 5. С. 60.
- [11] Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российскойрелигиозности)// Вопросы философии. 1997. № 6. С. 42.
- [12] э Филатов С. Б. Новое рождение старой идеи: православие как национальный символ //Полис. 1999. № 3. С. 138.
- [13] Воронцова Л. М., Филатов С Б., Фурман Д. Е. Религия в современном массовом сознании // Социологические исследования. 1995. № 11. С. 91.
- [14] См.: Панков А. А., Подшивалкина В. И. Проблема воспроизводства религиозного сознания в постоталитарном обществе // Социологические исследования. 1995. № 11. С. 101—102.
- [15] Яблоков И. Н.
Введение
в общее религиоведение. М., 2001. С. 301—302.
- [16] Элбакян Е. С. Квазирелигиозность // Энциклопедия религий / Ред. Забияко А. П., Красников А. Н., Элбакян Е. С. М., 2008. С. 649.
- [17] См.: Балагушкин Е. Г. Структуры религиозной деятельности (К определению понятий"церковь", «секта», «культ», «богоискательство») // Вопросы научного атеизма. М., 1989.Вып. 39. С. 67.
- [18] См.: Балагушкин Е. Г. Структуры религиозной деятельности (К определению понятий"церковь", «секта», «культ», «богоискательство») // Вопросы научного атеизма. М., 1989.Вып. 39. С. 75.
- [19] См.: Яблоков И. Н. Социология религии. М., 1979. С. 124, 127.
- [20] См.: Самыгин С. И, Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социологияи психология религии. Ростов н/Д, 1996. С. 500—513.
- [21] См.: Балагушкин Е. Г. Структуры религиозной деятельности (К определению понятий"церковь", «секта», «культ», «богоискательство») // Вопросы научного атеизма. М., 1989.Вып. 39. С. 68.
- [22] Устав Русской Православной Церкви // Информационный бюллетень ОВЦС МП.2000. № 8. С. 38.
- [23] Там же.
- [24] Архиепископ Михаил (Мудыогии). Русская православная церковность. Вторая половина 20-го века. М., 1995. С. 8—13.
- [25] Игумен Вениамин (Новик). Православие. Христианство. Демократия. Сборник статей.СПб., 1999. С. 5−6, 59−60,67−68.
- [26] См.: Дубин Б. В. Религия, церковь, общественное мнение // Свободная мысль. 1997.№ 11. С. 94,98, 102.
- [27] Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российскойрелигиозности) // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 32—52.
- [28] См.: Морозов Л. О. Сколько православных в России? // НГ-религии. 23.10.1997. № 10.С. 6.
- [29] См.: Синелииа IO.IO. О критериях определения религиозности населения // Социологические исследования. 2001. № 7. С. 89, 91, 96.