Развязка коллизии.
История русской литературы первой трети xix века
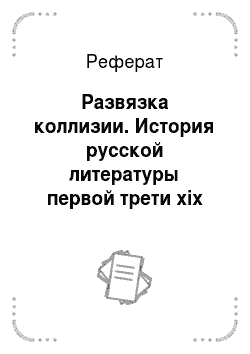
1] Исключение вновь составляет Мазепа, который умирает, мучась таинственной предсмертной мукой, не сказав товарищам по борьбе до конца своего последнего слова: «В страданьях сих изнемогая, / Молитву громко он читал, / То горько плакал и рыдал, / То, дикийвзгляд на всех бросая, / Он, как безумный, хохотал…» Что касается «Гайдамака», то сохранившийся отрывок поэмы заканчивается таинственным… Читать ещё >
Развязка коллизии. История русской литературы первой трети xix века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Очевидно, что главная проблема развязки коллизии состоит в том, разрешим ли процесс отчуждения. Все герои восточных поэм Байрона (включая «Осаду Коринфа» и «Паризину») умирают или, как Конрад, исчезают навсегда. Лара, Селим, Альп погибают в бою, Гуго — на плахе, Гяур — в монастыре. В их гибели есть общие черты. Сраженные в бою, они погибают за дело, в которое до конца не верят, вернее, в котором у них особая позиция. Двое из них — Селим и Альп — умирают, как бы промедлив в бою, подставив себя под удар. И все они без исключения умирают непокорные, бросая вызов, не примирившись ни с человечеством, ни с Богом: «Умер прежде, чем опять / Мог молитвой просиять, / Без надежды на творца — / Ренегатом до конца» («Осада Коринфа», ст. XXVII). Когда же Ларе протянули четки — «тот не мог (прости ему Господь!) / Презрительной усмешки побороть» (песнь II, ст. XIX).
Таким образом, процесс отчуждения неразрешим: смерть удостоверяет это, добавляя последние штрихи к облику и типу поведения героя.
В большинстве случаев русская поэма заканчивает повествование характерной для романтического конфликта смертью центрального персонажа. Однако конкретизация мотивировки проявляется и здесь: ни герои Рылеева (Войнаровский и Наливайко), ни герои Козлова не отделяют себя от того «дела», к которому они оказались причастны. Они гибнут, целиком отдаваясь этому делу, с открытым забралом, не оставляя на душе никакой невысказанной тайны[1]. В этом смысле можно было бы говорить о снятии отчуждения, если бы сам факт гибели героя не был многозначащим.
Так, смерть Чернеца нередко истолковывают как форсированную демонстрацию пассивности, примирения с действительностью. Это истолкование верно только в связи с одной из двух противоположных тенденций, составляющих путь персонажа (см. выше). Ибо будучи «примирительной» в отношении данного момента эволюции героя, смерть резко дисгармонична в отношении конфликта в целом. Смерть центрального персонажа есть признание недостижимости тех скромных, «домашних» целей, которые он ставил перед собой, иначе говоря, есть известное признание неразрешимости ситуации.
Вместе с тем смерть героев типа Войнаровского и Наливайко, отъединенных от заветного дела и обреченных на прозябание или сломленных более мощной вражеской силой и осознающих свою жертвенность («Известно мне: погибель ждет / Того, кто первый восстает…» и т. д.), есть также признание неразрешимости ситуации. И у Козлова, и у Рылеева смерть с необходимостью венчает романтический процесс отчуждения. Можно сказать, что на уровне центрального персонажа конфликт всегда неразрешим, а его исход почти всегда не примирительный.
Столь же сложна, хотя и несколько но-другому, развязка коллизии в «Чернеце», финал которого стремится выйти за пределы индивидуальной судьбы:
Прочитана святым отцом Отходная нал Чернецом.
Когда ж минута роковая Пресекла горестный удел, Он, тленный прах благословляя, Ударить в колокол велел…
И звон трикратно раздается Над полуночною волной, И об усопшем весть несется Далеко зыбкою рекой, В пещеру вещий звон домчался, Где схимник праведный спасался;
«Покойник!» — старец прошептал, Открыл налой и четки взял;
У рыбаков сон безмятежный Им прерван в хижине прибрежной.
Грудной младенец стал кричать;
Его крестит спросонья мать, Творить молитву начинает И тихо колыбель качает, —.
И перед тлеющим огнем Опять уснула крепким сном.
И через поле той порою Шел путник с милою женою;
Они свой ужас в темпу ночь Веселой песнью гнали прочь;
Они, лишь звоны раздалися, —.
Перекрестились, обнялися, Пошли грустней рука с рукой…
И звук утих во тьме ночной.
Примирительный ли это аккорд? Едва ли. Скорее всего не только примирительный, или, вернее, не укладывающийся в жесткую антитезу и объединяющий противоположные эмоции в более сложное чувство. Потому что, читая финальные строки, нельзя не проникнуться этим методически нагнетаемым грустным настроением («печальный» глас иноков, «печальный» вид ряс, «горестный» удел и т. д.), как бы овевающим еще свежую могилу. Нельзя не заметить той искры сочувствия и скорби, которая пробегает от одного к другому. И возникающий в заключительных строках образ счастливой четы — разве это не лелеемый Чернецом идеал счастливой жизни, домашнего счастья? И разве он не напоминает, что этот скромный, «одомашненный» идеал — «жить друг для друга» — так и не был осуществлен?
Говоря словами В. Э. Вацуро, произнесенными, правда, по другому поводу, финал поэмы Козлова прочитывается «под углом зрения просветительской идеи о внесословной ценности человека, — идеи, широко отразившейся еще в литературе XVIII века»[2]. Любопытно, что эта просветительская идея вплелась теперь в ткань русской романтической поэмы.
Вместе с тем для финала поэмы характерно стремление столкнуть участь персонажа с чем-то большим, чем индивидуальная судьба, связать хотя бы пунктирно (гут значимо упоминание звука колокола, несущего весть от одного к другому) живую цепь человеческих существ. Е. А. Баратынского восхитило окончание «Чернеца», которое «в особенности говорит воображению… полно особенного, национального романтизма…»[3] Нс потому ли, что финал углубляет перспективу, придвигая к индивидуальной человеческой участи широкое пространство мира с его возможностями, тайнами, «ночью»? Это не явное, не подчеркнутое сближение. Перед нами еще не философский романтизм, но шаг сделан именно в таком направлении.
- [1] Исключение вновь составляет Мазепа, который умирает, мучась таинственной предсмертной мукой, не сказав товарищам по борьбе до конца своего последнего слова: «В страданьях сих изнемогая, / Молитву громко он читал, / То горько плакал и рыдал, / То, дикийвзгляд на всех бросая, / Он, как безумный, хохотал…» Что касается «Гайдамака», то сохранившийся отрывок поэмы заканчивается таинственным исчезновением героя, но точных сведений о нем не сообщается. С другой стороны, в массовой литературе возникает стремление полностью отказатьсяот такого сюжетного хода, как гибель центрального персонажа, а заодно и от фабулы несчастливой или неразделенной любви, от всяких симптомов отчуждения и т. п. Казак Федориз поэмы Николая Муравьева «Киргизский пленник» (М., 1828), попав в плен, томитсялишь от неволи, от тоски воспоминаний о веселых днях: «Как сон мелькает перед ним, /Теперь все прежнее, былое, / И щастье резвое, младое, / Навеки распрощались с ним!"Но тут является Баяна, дочь киргизского вождя, которая, «как маргаритка полевая», «цвелавесеннею красой». Полюбившие друг друга Федор и Баяна бегут в Россию, женятся и начинают счастливую жизнь. «Киргизский пленник», как заметил еще В. М. Жирмунский (Указ, соч. С. 242 и далее), являет собой яркий пример превращения романтической коллизиив пошлую и благополучную сказку и приспособления некоторых поэтических приемовк вкусу массового читателя.
- [2] Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 49.
- [3] Баратынский Е. Л. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951. С. 473.