Русская философия в контексте культурного бицентризма (Философское противостояние Москвы и Петербурга) (2001)
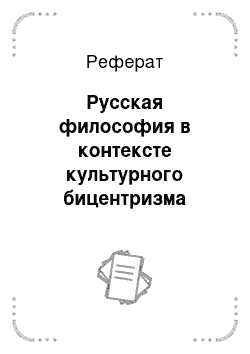
Поскольку я имел возможность обстоятельно рассмотреть эту проблему в упоминавшейся монографии «Град Петров в истории русской культуры» и в написанном на ее основе учебнике «История культуры Петербурга» (СПб., 2000), сейчас ограничусь выводом, связанным с темой настоящей статьи: идеологическое и социально-психологическое противостояние Петербурга и Москвы, принимавшее то более, то менее острую… Читать ещё >
Русская философия в контексте культурного бицентризма (Философское противостояние Москвы и Петербурга) (2001) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Поскольку философия является подсистемой культуры, выполняющей функцию ее сознания, т. е. мировоззрения, она развивается в контексте истории культуры. Соответственно периодизация истории русской философии определяется основными историко-культурными рубежами.
I.
Совершенно очевидно, что первым крупным рубежом в истории отечественной культуры стали петровские реформы, перебросившие Россию из Средневековья в Просвещение. Это не могло не иметь этапного значения для развития русской философии, ставшей органическим компонентом академической науки и образования. Ибо в допетровские времена философии как светского умозрения, в традициях античной философской мысли, в полной мере восстановленных в Западной Европе в XVII веке, не было; поэтому В. В. Зеньковский, несмотря на религиозное мировоззрение и церковный сан, признавал временем рождения отечественной философии именно XVIII век[1], а Н. О. Лосский начинал свою «Историю русской философии» без особых комментариев прямо с XVIII века[2]. Точно так же и А. Ф. Лосев утверждал, что «впервые философские интересы пробуждаются в России в XVIII веке, когда русский ум был затронут идеями французского Просвещения»[3]. В первом издании истории русской философии А. А. Галактионова и П. Ф. Никандрова период XI—XVIII вв. назван «Предысторией русской философии»[4], а во втором издании, исправленном и дополненном одним из авторов спустя два десятилетия, эта глава разделена на две: первая, охватывающая время с IX по XTV века, сохранила название «Предыстория», а вторая — XIV—XVIII вв. — названа «Становление русской философии»[5]. Первоначально и А. Ф. Замалеев в «Лекциях по истории русской философии» использовал понятие «становление» в названии первой главы раздела «Философская мысль русского средневековья», в которой описаны идеи каппадокийцев, Иоанна Дамаскина, Кирилла и Мефодия, Илариона Киевского, Никифора Грека, Климента Смолятича, Кирилла Туровского; за ней последовали главы «Еретические учения», «Исихазм и мистика древнерусского нестяжательства», «Идеология московской централизации. Иосифлянство» и «Церковный раскол и религиозные идеалы старообрядчества», что говорит о завершенности процесса «становления» отечественной философии[6]. Но в 3-м издании «Лекций…», вышедшем в 2001 г., «дополненном и переработанном», автор, очевидно, придя к выводу, что при этом стирается грань между философией и богословием, счел необходимым ее выявить и назвал первый раздел книги:
«Религиозно-философские представления русского средневековья», а второй, посвященный XVIII веку, — «Философия и идеология русского Просвещения». Объясняя эти изменения во Введении, историк подчеркнул отличие философии от теологии, справедливо заметив, что православие «иногда чересчур сближается с русской философией»; между тем, суть «сугубо философского вопрошания о мире и человеке» состоит в том, что оно «видит свою задачу в секуляризации познания, замене веры и откровения их антиподами — разумом и мышлением»[7].
Показательна и позиция Н. В. Солнцева, который в изданной им хрестоматии по истории русской философии назвал воззрения Илариона, Владимира Мономаха, Кирилла Туровского, Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, Максима Грека и Симеона Полоцкого и ряда других средневековых религиозных мыслителей «предфилософией», поскольку она развивалась «в рамках богословской литературы»[8], и только в XVIII столетии «идет процесс обособления философии от религии»[9].
Считаю необходимым всемерно поддержать такую позицию историков отечественной философии, основанную на ее понимании как самостоятельной теоретической дисциплины, имеющей свой предмет, свой язык и свои функции в культуре. Другое дело — философские проблемы, возникающие и так или иначе решаемые в других сферах духовной деятельности — в теологии и в политической идеологии, в теоретических разделах наук и в публицистике, даже в нетеоретических формах художественно-образного мышления — в поэзии, драматургии, повествовательных формах литературы, а подчас и в невербальных искусствах — музыке, танце, живописи, архитектуре. Философская проблематика не может не проникать в смежные сферы мышления, точно так же, как теологические, политические, педагогические, науковедческие, эстетические проблемы нередко рассматривались в философских текстах; более того, органичность философскому мышлению теоретической формы умозрения не препятствовала более или менее широкому использованию метафорических структур художественно-образного мышления, что, однако, не означает отсутствия принципиальных различий между философией, философской поэзией и «чистой» поэзией (лирикой) как формой художественного творчества, равно как между философией и смежными формами теоретического мышления — теологией, теориями утопического социализма, правоведением, педагогическими концепциями, художественной критикой.
И.
Таковы основания, позволяющие считать начало XVIII века временем рождения философии в России именно как философского дискурса. Примечательно, что его формирование оказалось связанным отнюдь не с развитием традиций отечественной средневековой «предфилософии», а в соответствии с общим духом петровских просветительских реформ, в общении царя-реформатора с классиком европейской философии Г. В. Лейбницем. Зачисленный в созданную Петром Академию наук, хотя и не приехавший в Россию, он и его ученики, прежде всего Хр. Вольф, оказали прямое влияние на становление философии в нашей стране именно как философии; ее первые шаги были сделаны «птенцами гнезда Петрова», начиная с В. Н. Татищева, а затем М. В. Ломоносовым, связавшим философское мышление с наукой, а не с богословием.
Каковы бы ни были в дальнейшем мировоззренческие и методологические ориентации русской философии, она оставалась формой светского мышления, если не всегда ориентировавшейся на логику научного мышления, то уже не рассматривавшей себя как комментарий к Священному писанию. Она развивалась как светский теоретический дискурс, опиравшийся преимущественно на классическую немецкую философскую мысль, от лейбницианца Хр. Вольфа через Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, Л. Фейербаха к неокантианцам, а в конце XIX — начале XX веков и на Ф. Ницше, К. Маркса, Э. Маха и английских позитивистов; даже религиозная философия В. С. Соловьева и его последователей была именно «любомудрием», а не богословием. Постриг С. Н. Булгакова и П. А. Флоренского — явления исключительные, типичным же для русской культуры представляется то, что философская концепция Л. Н. Толстого, оказавшаяся в нашей стране особенно влиятельной, превратила имманентный для религиозного сознания мистицизм в этическую концепцию чисто светского характера, ибо на место веры поставила любовь, и не к мифическим существам, а к реальным людям — не случайно ее создатель был признан православными иерархами опаснейшим еретиком и отлучен от церкви (и до сих пор — что, впрочем, вполне логично — ею не «реабилитирован»!). Не менее показательно, что философские взгляды другого властителя умов Ф. М. Достоевского, провозгласившего, словно полемизируя с Л. Н. Толстым, невозможность нерелигиозной нравственности — ибо, безосновательно полагал он, «если Бога нет, то все дозволено!», излагались не в богословской, а в художественной форме романного повествования.
Таков характер первого этапа истории русской философии, которой длился до революционного преобразования страны в 1917—1920 годах, точнее же может быть датирован 1922 годом, когда была опубликована программная статья В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма» и высланы из страны крупнейшие представители идеалистической философии. Разумеется, в пределах этих двух столетий различаются несколько периодов — очень динамично проходило развитие страны во всех отношениях, в том числе и в мировоззренческом, что не могло не сказаться на развитии философии. В данной статье нет возможности выявить весь «параллелограмм сил», которые обусловливали конкретный ход этого процесса, в первом приближении можно лишь сказать, что его рубежи соответствуют хронологическим границам — XVIII, XIX, начало XX столетий. Но более существенным представляется наличие постоянно действовавшего на протяжении этих двухсот лет фактора — зависимости отечественной философии от возникшего в начале XVIII в. и сохранявшегося вплоть до советского времени культурного бицентризма России, выразившегося в противостоянии двух ее культурных центров — Петербурга и Москвы.
Постижение этой зависимости тем более важно, что в трудах историков отечественной философии она, как правило, игнорируется — только в последние годы появилось несколько работ, в которых была поставлена эта проблема[10]. Начиная с 20-х годов и на протяжении всей своей дальнейшей истории советская власть осуществляла всемерную, и идеологическую, и практическую дискриминацию Ленинграда, пытаясь искоренить унаследованные им от Петербурга качества — вспомним печальную, но точную формулу «великий город с областной судьбой», что вело к стиранию особенностей ленинградской философии в ее отличие от московской; и все же известные различия сохранялись тут и в эти десятилетия, обусловленные целым рядом обстоятельств, и они должны быть изучены сейчас, когда для этого есть уже все возможности.
Ибо особенность развития нашей страны, начиная с XVIII в., состоит в том, что в ней, при рокировках юридических столиц, были и остаются по сей день две культурные столицы. Только в последние годы стал возможен серьезный научный анализ этой уникальной в европейской культуре ситуации[11]. К сожалению, в подавляющем большинстве научных исследований истории России, истории русской культуры и искусства значение этого бицентризма никак не выявляется; причины этой «слепоты» историков лежат на поверхности — ведь многие видные, авторитетнейшие ученые, начиная с В. О. Ключевского, С. М. Соловьева и кончая нашими современниками А. С. Ахиезером и И. В. Кондаковым, либо сводят замысел создателя Петербурга к одним только военностратегическим и торгово-экономическим соображениям, либо вообще умалчивают о рождении этого города — видимо, с их точки зрения совсем несущественном факте в духовной истории страны. Не нужно большой проницательности, чтобы увидеть связь этой позиции с укорененным в Москве отношением к Петербургу-ПетроградуЛенинграду, идущим от заклятья «Петербургу быть пусту!», которое прозвучало в окружении мятежного сына Петра Великого, через славянофильское неприятие града Петрова как символа европеизации России, к позиции классиков русской религиозной философии, для которых Петр был «большевиком на троне», по выражению Н. А. Бердяева, воспроизведенным Максимилианом Волошиным и избранном уже сегодня В. С. Житковым и К. Б. Соколовым в их интерпретации истории России эпиграфом к параграфу «Петр и его „окно в Европу“»[12]. Трудно ожидать объективного описания роли главного творения Петра в истории страны и взаимоотношений обеих столиц при такой оценке великого реформатора отечественной истории, сдвинувшего страну на путь Просвещения, если «главный смысл реформ Петра, — как без тени смущения заявляют эти историки, — заключался в том, что он пытался внедрить в национальную картину мира элементы западничества. Однако это западничество носило ограниченный и уродливый характер»[13].
Поскольку я имел возможность обстоятельно рассмотреть эту проблему в упоминавшейся монографии «Град Петров в истории русской культуры» и в написанном на ее основе учебнике «История культуры Петербурга» (СПб., 2000), сейчас ограничусь выводом, связанным с темой настоящей статьи: идеологическое и социально-психологическое противостояние Петербурга и Москвы, принимавшее то более, то менее острую форму, непосредственно сказывалось на философии, развивавшейся в обоих городах, так что нельзя понять закономерности истории русской философии XVIII—XX столетий, отвлекаясь от этого противостояния, спора, диалога новой и старой столиц. Пути философского умозрения оказывались в этом отношении альтернативными, как и принципы отечественной литературы и искусства, — по-разному, но в равной мере, в этих формах сознания и самосознания культуры проявлялось решение главного вопроса русской жизни, с такой остротой поставленного Петром Великим: какой быть России — страной азиатской или европейской, традиционалистской или персоналистскикреативистской, консервативной или динамичной, базирующей свою культуру на религиозной мифологии и мистике или на науке и просвещении, фанатично-православной или толерантной ко всем конфессиям и к самому атеизму… Петербург и был противопоставлен Петром Великим Москве как носитель нового, антитрадиционалистского, просветительского типа культуры, но не рабски копировавшего западноевропейские образцы, в чем обвиняли его московские оппоненты, а вырабатывавшего новую модификацию русской культуры. Об этом говорил сам Петр, и это стремление унаследовала от него в своей политике Екатерина Великая. Доказательства тому — архитектурный облик самого Петербурга, вобравший в себя стилистику всех течений европейского зодчества, но преломивший их так, что по всеобщему признанию новая российская столица оказалась непохожей ни на один европейский город; другой пример — творчество Александра Пушкина, «русского европейца» или «европеизированного русского», о котором точно сказал мудрый А. И. Герцен, что оно стало гениальным ответом русского народа на действия царя-реформатора. Таким же интеллектуально мощным воплощением стремления Петра органически соединить отечественное и европейское стали в философском умозрении Петербурга философские концепции А. И. Радищева, П. Я. Чаадаева, самого А. И. Герцена.
Раздвоение путей отечественной философии наметилось уже в XVIII в. — по точному заключению Т. В. Артемьевой, «Философия „московская“ несколько отличалась от философии „петербургской“. Она в большей степени была направлена на умозрительные проблемы, не была так тесно связана с естественной наукой, как в Петербургской Академии»[14]. Действительно, в Петербурге философия ориентировалась на связь с учениями европейских просветителей и ученых-естествоиспытателей, а в Москве — на связь с православием, с традиционалистской этикой, с масонской мистикой, с антирационалистическим сентиментализмом — с той духовной основой, из которой вырастут в следующем веке славянофильство и почвенничество («московским приходом» ехидно, но точно назвал современник славянофилов; впрочем, сами они откровенно и горделиво именовали себя «московской партией»), тогда как данное Петербургу итальянским путешественником и увековеченное А. И. Пушкиным образное название «окно в Европу» зафиксировало его значение в истории отечественной культуры как духовного центра идеологии «западников».
«Было бы упрощением, — справедливо заметил в упомянутой статье Л. Н. Столович, — утверждать непосредственную детерминацию философской мысли местопребыванием философов. Однако противостояние двух российских столиц, различие их исторических судеб и духовно-культурной жизни находило в определенные периоды свое выражение в развитии русской философии, в диалоге ее мыслителей»[15]. Разумеется, господствовавшие в обеих культурных столицах духовные позиции не имели абсолютной силы — в культуре нет вообще ничего абсолютного; вновь процитирую А. И. Герцена: «много Москвы в Петербурге и много Петербурга в Москве»[16]. Все же очевидно, что религиозная философия В. С. Соловьева и его школы была теоретическим осознанием московского мироощущения, а влияние позитивизма и марксизма, психологической науки и неокантиантства, при всех их различиях и полемическом противоборстве, было наиболее сильно в Петербурге, обусловленное рационалистически-сциентистской ориентацией столичных философских школ. Ссылаясь, в частности, на заключение Н. К. Бонецкой, что «основной водораздел между петербургской и московской школами можно провести через отношение к Канту и кантиантству»[17], Л. Н. Столович привел в упоминавшейся статье факты, подтверждающие этот вывод[18]. Уже на основании вышесказанного можно утверждать, что если неправомерно сводить русскую философию только к материалистическим ее проявлениям, как это делалось в советское время, или только к славянофильски-почвенническим и религиозно-идеалистическим учениям, как это стало распространенным в наше время, то неправомерно ограничиваться и простым признанием наличия обоих направлений и их противостояния, потому что само по себе это отнюдь не специфично для России — в XVIII, XIX и XX веках западноевропейская философия развивалась в таком же биполярном мировоззренческом пространстве (в широком историкокультурном масштабе я показал это во второй книге «Введения в историю мировой культуры» (СПб., 2001)). Особенностью же истории русской философии была укорененность такой раздвоенности мышления в «двустоличности» ее культуры, которая выражалась в раздвоении не только идеологии, но и национальной психологии, — вспомним, как показал это Л. Н. Толстой в «Войне и мире», рисуя картины жизни московского дворянства и петербургского. Особенности ментальности москвичей и петербуржцев воспитывались и особенностями бытового уклада, и мерой политизации и бюрократизации их жизни, и разным соотношением влияний церкви с одной стороны и научного мышления с другой, и пластическим строем архитектуры, столь различным в обоих городах; поэтому противостояние философских позиций было не отвлеченным теоретическим спором, каким он часто оказывался в эту эпоху на Западе, но вырастало из столкновения в бытии и сознании общества представлений о соотношении «старого» и «нового», «азиатского» и «европейского», «Востока» и «Запада», короче — традиционно-консервативного и революционно-креативного, в равной мере органичных для него на той ступени исторической жизни России и воплощенных волею Петра в старой и новой столицах. Потому-то всю историю общественной мысли в России на протяжении трех последних веков пронизывает спор на тему «Петербург — Москва», практически и символически представлявших эту историко-культурную коллизию. Образ «двуликого Януса», которым А. И. Герцен обозначил взаимоотношение этих духовных позиций — на современном научном языке его можно было бы назвать «амбивалентностью», — и стремление преодолеть их противостояние, предпринятое Ф. М. Достоевским в его знаменитой речи на пушкинском юбилее — не случайно именно на пушкинском! — диктуют, сказал бы я, историку отечественной философии необходимость выявить глубинные психологические корни обеих позиций, воплотившихся в жизни Петербурга и Москвы и именно поэтому проявившихся во всех сферах их культуры, начиная с ее художественного самосознания.
Известно, что М. М. Бахтин определил основную черту творчества Ф. М. Достоевского понятием диалогичности; исследуя историю культуры Петербурга, автор этих строк пришел к выводу, что данное понятие характеризует не только художественное мышление великого петербургского романиста, но структуру всей культуры Петербурга, формировавшегося в нем мировосприятия, как отражения драматического диалога столкнувшихся в нем начал — столично-имперского величия и жизни обыкновенного, негосударственного, частного, простого человека. В художественном сознании это было впервые выражено в «Медном всаднике», а затем воплощалось не только в петербургской литературе, но и в живописи, и в музыке, и в зодчестве — застройка города осуществлялась как диалог разных стилей (своего рода «моделью» такого диалога стала композиция Дворцовой площади); это не могло не сказаться и в истории петербургской философии — ведь именно диалогична структура трактата А. И. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии», напряженно диалогичным было мышление П. Я. Чаадаева. Рассматривая под этим углом зрения «московское» мышление, обнаруживаешь его монологический характер, логически вытекавший из преобладания в нем традиционалистских принципов, — ведь монологично по своей сути лежащее в основе традиционной культуры религиозное сознание, православное, как и любое другое, поскольку для него всякое инакомыслие еретично и ложно, истинны только моя вера, мой Бог, мой культ; не случайно господствующее в Москве религиозное сознание именовало себя православием, как не случайно Невский проспект в Петербурге получил неофициальное название «проспекта веротерпимости» из-за ведущих на нем молчаливый диалог четырех храмов, представляющих разные конфессии, и стоящих рядом с ними светских зданий — торговых, коммуникативных, увеселительных.
Изучение особенностей философских школ Петербурга и Москвы может показать, как это различие проявилось — не могло не проявиться! — и здесь, оказываясь столь же закономерным, как и в художественной культуре, скажем, в сопоставлении диалогизма Ф. М. Достоевского и монологизма Л. Н. Толстого. И так же, как в искусстве, в философии соотношение это на строгом языке современной науки я определил бы понятием «комплементарностъ» — имея в виду боровский принцип дополнительности, эвристическое значение которого, как я неоднократно отмечал, выходит далеко за пределы квантовой механики, выявляясь в анализе социокультурных явлений не менее продуктивно, чем в исследовании физического микромира[19]. Комплементарность этих противоположных и несовместимых философских позиций определялась в русской философии именно тем, что они были в равной мере укоренены в фундаментальных противоречиях развития России в последние три века, культурным воплощением которых стала взаимная дополнительность, а в ряде случаев и диалогическая связь, Петербурга и Москвы. Потому что в мире культуры, в отличие от физического микромира, противоположные и несовместимые позиции способны взаимодействовать, вступать в диалогические контакты в тщетном желании найти синтетическое решение обсуждаемых проблем.
III.
Начало второго этапа истории отечественной философии точно датируется, как уже было отмечено, 1922 годом, завершился же он семьдесят лет спустя, в результате крушения советского строя в СССР и его идеологической, квазимарксистской и мнимосоциалистической, в частности, философской, опоры. Ее объективное научное изучение еще предстоит осуществить нашим философам, пока же можно лишь наметить методологические подходы к решению этой задачи.
Очевидна, прежде всего, периодизация данного этапа: первый период — до появления сталинского философского «дайджеста» «О диалектическом и историческом материализме», включенного в «Краткий курс истории ВКП (б)», — что подчеркивало зависимость философии от политики большевистской партии; второй период — с 1936 года до 1956;го, года XX съезда КПСС и критики Н. С. Хрущевым «культа личности»; третий период — время «оттепели» конца 50-х — начала 60-х годов и «заморозков» брежневско-сусловского безвременья, превратившего, буквально по К. Марксу, духовную трагедию сталинского режима в фарс «двоемыслия» и «двоедушия» последних десятилетий агонизирующего социального строя и его идеологического камуфляжа, каким была демагогическая теория «реального социализма» во всех ее ответвлениях.
(политическом, юридическом, этическом, эстетическом, педагогическом и, разумеется, философском). Отвлекаясь снова от характеристики каждого из этих периодов, — это задача специального и скрупулезного анализа, — ограничусь обозначенной в названии данной статьи характеристикой методологических подходов к ее решению.
Л. Н. Столович, несомненно, прав, говоря, что в советское время философские дискуссии не были основаны на различии позиций Москвы и Ленинграда — декретированное руководством компартии единомыслие исключало саму возможность свободного творческого диалога, и «междугороднего», и «внутригородского»; в конце 20-х — начале 30-х годов так называемые «дискуссии» были на самом деле идеологической «проработкой», разоблачением «меныиевиствующих идеалистов» и иных придуманных еретиков, обвинявшихся в той или иной форме ревизионизма, заканчивавшимся, как правило, арестами, ссылками и расстрелами; понятно, что все это начиналось в столице, а затем распространялось волнами по другим городам страны, включая рядовой «областной центр» Ленинград. Особенно жестким стало утверждение единомыслия после объявления Сталина «гениальным философом». То, что называлось «философской дискуссией» 1947 г., поводом к которой послужил выход книги академика Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», с выступлением на ней секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Жданова, было распространением на область философии послевоенного «наступления партии на идеологическом фронте», начатого в середине 1946 г. разгромом ленинградских литературно-художественных журналов в постановлении ЦК и в речи того же его секретаря по вопросам идеологии. В идеологическом отношении Москва и Ленинград, как и все другие города многонациональной Советской страны, были уравнены, и все провинциальные центры жили по идеологическим командам столицы. Кровавое «ленинградское дело» официально объяснялось приписанным руководителям города желанием добиться ему какой-то степени независимости от Москвы, тогда как он был обречен быть ее бледной тенью…
Но когда в 50—60-е гг. наступило недолгое время «оттепели», начался и процесс пересмотра некоторых догм сталинской трактовки марксистской философии. Он протекал достаточно осторожно и поначалу умеренно, однако все шире и решительнее, хотя поколения ортодоксов, воспитанные при Сталине и не способные ни на что, кроме защиты выученных с юных лет формул, по-прежнему занимали руководящие посты в идеологических отделах ЦК компартии, в Академии наук, на философских факультетах университетов, в издательствах, и всемерно сопротивлялись всему тому, что воспринималось ими как проявления «ревизионизма». В этой сложной обстановке начались все же подлинные дискуссии, зарождались новые направления философской мысли, признававшиеся прежде «буржуазными», «идеалистическими», «субъективистскими», проявлениями «абстрактного гуманизма» и «космополитизма», — это были онтология, аксиология, философская антропология, теория деятельности, философия культуры, социология и социальная психология, теория информации и теория моделирования, системный подход, методология междисциплинарных исследований (некоторые эпизоды этого процесса описаны мной в книге «О времени и о себе». СПб., 1997). Много полезного было сделано в это время историками философии, зарубежной и отечественной, и это накопление новых идей и позиций, преодолевавшее ожесточенное сопротивление догматиков и идеологических жандармов, и стало главным содержанием этого периода истории советской философии, которое надлежит внимательно изучить новым поколениям исследователей. И хотя процесс этот протекал и в Москве, и в Ленинграде, и в ряде других научных центров страны — в Тбилиси, в Киеве, в Алма-Ате, он приобретал некие специфические черты в каждом городе. Но только на третьем этапе истории отечественной философии, начавшемся в 90-е годы XX века и продолжающемся в наши дни, накопленные в последние десятилетия этого драматического столетия идеи могли получить свободное и широкое развитие. Кажется закономерным, что осознание необходимости возрождения основных устоев петербургской культуры распространилось на ее философскую мысль. Есть уже немало примет восстановления философского диалога двух столиц, их именно диалогических, а не конфронтационных, взаимоотношений, ибо обретенная свобода мысли и слова, неотъемлемая от процесса демократизации общества, открывает возможность диалектически-диалогической связи настоящего с прошлым.
Не следует удивляться тому, что завоеванная свобода приносит в культуру и в ее философскую подсистему, с одной стороны, ретроградные попытки, преимущественно столичных деятелей, реабилитировать и этику «Домостроя», и печально-знаменитую триаду идеолога николаевского царствования графа С. С. Уварова «православие, самодержавие, народность», восстановить подчинение школы религиозному воспитанию, а с другой стороны, бесплодное стремление идеологов коммунистического движения, среди которых немало философов, восстановить ленинско-сталинское учение как «подлинно-научное и единственноверное», с третьей же стороны, наивные опыты философов нового поколения подражать маргинальным экзерсисам французских постмодернистов… Все это и неизбежно, и объяснимо — резкий переход от тоталитаризма к свободному мышлению порождает хаос, в синергетическом смысле этого понятия. Проблема, встающая в этих условиях перед историками современной философии, — а синергетическое понимание законов развития делает возможным, вопреки попперовскому скептицизму, научное изучение настоящего как процесса бифукационного зарождения в хаосе нового, более сложного типа самоорганизации системы благодаря кристаллизующему действию аттрактора, — постичь современную философскую ситуацию в этой ее исторической динамике, исходя из понимания потребности движения человечества к новой форме самоорганизации в философии как мировоззрении культуры. Речь не может идти о новой унификации философского мировоззрения, и общий культурный бицентризм России сохранит свое влияние на развитие отечественной философии до тех пор, пока Россия останется евразийской страной, но при этом философское мышление в XXI веке не может не осмыслять новую историко-культурную ситуацию, обусловленную и происходящими в стране радикальными переменами, и общими изменениями состояния человечества.
- [1] Зеньковский В. В. История русской философии. — Л., 1991. Т. 1. 4.1. — С. 11—12,31.
- [2] Лосский Н. О. История русской философии. — М., 1991. Глава 1: Русская философия в XVIII и первой половине XIX в.
- [3] Лосев А. Ф. Русская философия // Век XX и мир. — М., 1988. № 2. — С. 40.
- [4] Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия XI—XIX вв. — Л., 1970.
- [5] Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IX—XIX вв. —Л., 1989.
- [6] Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. — СПб., 1995.
- [7] Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. — С. 3.
- [8] Солнцев Н. В. Русская философия: Имена. Учения. Тексты. — М., 2001. — С. 24.
- [9] Там же. — С. 60.
- [10] Перечислю их в хронологической последовательности: Каган М. С. «Град Петровв истории русской культуры». — СПб., 1995; Артемьева Т. В. Философия «московская"и «петербургская» // Метафилософия или философская рефлексия в пространстве традиций и новаций. — СПб., 1997; ее же: Философия в Петербургской Академии наукXVIII века. — СПб., 1999; Столович Л. Н. Петербург — Москва: Философский диалог //В диапазоне гуманитарного знания: К 80-летию профессора М. С. Кагана. — СПб., 2001.
- [11] Укажу на ряд работ К. Г. Исупова, в частности, на главу «Петербург и Москва: спор об эстетическом приоритете в истории» в его монографии «Русская эстетика истории». — СПб., 1992, и составленную им хрестоматию в серии «Pro & contra» — «Москва —Петербург: Диалог культур в истории национального самосознания». — СПб., 2000, на книгу В. Ванчугова «Москвософия & Петербургология. Философия города». — М., 1997, на защищенную в 1999 г. диссертацию моего аспиранта И. И. Кобзева «Встречакультур Запада и Востока в русской провинции». — СПб., 1998.
- [12] Житков В. С., Соколов К. Б. Десять веков российской ментальности: картина мира, власть. — СПб., 2001. — С. 209.
- [13] Там же. — С. 221.
- [14] Артемьева Т. В. Философия в Петербургской Академии наук. — С. 29.
- [15] Столович Л. Н. Петербург — Москва: Философский диалог. — С. 120.
- [16] Герцен А. И. Собр. соч. Т. 2. — С. 186.
- [17] Бонецкая Н. К. М. М. Бахтин и традиции русской философии // Вопросы философии. 1993. № 1. — С. 86.
- [18] Столович Л. Н. Петербург — Москва: Философский диалог. — С. 122—123, 126—127.
- [19] См., например: Каган М. С. Дополнительность и интервальность // Диалектикаи современный стиль мышления. — Севастополь, 1983.