Типология героя: единство многообразия и многообразие единства
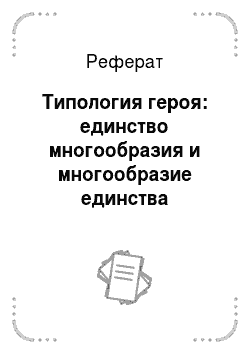
Необходимо отметить и особую форму религиозности героини. В свое время уже обращали внимание на приобщенность лесковского праведника к «подспудной» духовно-практической культуре русского народа25. Так и Матрена верила истово, но была скорее язычница, суеверна, никогда не молилась, но всякое дело начинала «с Богом». Однако был «святой угол в чистой избе и иконка Николая Угодника в кухоньке… Читать ещё >
Типология героя: единство многообразия и многообразие единства (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Тип литературного героя как эстетически организованный материал, предварительно прошедший социальную организацию, безусловно, связан с национальным самосознанием, со степенью общественного осмысления исторического процесса в его нравственно-психологических координатах. Индивидуальный факт приобретает универсальное значение не только при условии повторяемости и обыденности, но порой — исключительности.
Две концепции типического в русской литературе XIX века, восходящие к поэтике А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, получили наиболее полное выражение в знаменитой полемике И. А. Гончарова («Тип, я разумею, с той поры и становится типом, когда он повторился много раз или много раз был замечен (курсив И. А. Гончарова), пригляделся и всем стал знаком»[1]) и Ф. М. Достоевского («Ибо не только чудак „не всегда“ частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого»).
Можно обозначить магистральные типы героя русской литературы XIX века: маленький человек, лишний человек, новый человек, кающийся дворянин, праведник. При этом каждый писатель стремится не столько соответствовать данному «магистралу», сколько представить свой оригинальный индивидуальный тип героя.
Многообразием пушкинских характеров восхищался еще Гоголь. Пушкин, «наше все», дал пример объективного и целостного исследования человеческой природы. Не случайно вся последующая литература в своей характерологии исходила из открытых им истин. Гоголь, раскрывая «пошлость пошлого человека», показывает гибельность воздействия внешних условий существования человека на его внутренний мир, превращение личности в «мертвую душу». «Натуральная школа» абсолютизировала социальную антропологию Гоголя, сведя ее к физиологии. Чернышевский на основе «теории среды» создает свою общественно-политическую типологию: «пошлые», «новые», «особенные» люди. Салтыков-Щедрин — свою Россию, населенную не людьми, а сатирико-политическими обобщениями.
Писатели психологического направления при всем тяготении к универсальным типам создавали, в первую очередь, характер с его неповторимой индивидуальностью. Существенно различаются «лишние люди», «гамлеты» Тургенева — Рудин и Лаврецкий, так же, как и его «новые люди», «сознательно героические натуры» — Базаров и Соломин. Свой вариант «гамлетовского героя» представляют Гончаров и Достоевский — это Обломов и Раскольников. Тип «русского скитальца», «кающегося дворянина» встречается у Тургенева, Достоевского, Толстого (Лаврецкий — Версилов —Левин). Разносторонность русского праведничества и подвижничества показал Лесков. Наконец, русская литература XIX века выдвинула две антиномичные концепции идеального героя: нигилистическую (Рахметов) и религиозно-нравственную (князь Мышкин).
Индивидуальное художественное наполнение типологии литературного героя XIX века было фактически сведено к простой схеме в официальной литературе XX века. Предложенная советской литературой типологическая парадигма весьма проста: Учитель (человек, знающий как жить, человек, обладающий «передовым мировоззрением») и Ученик (человек, постигающий новую правду жизни) плюс разветвленная система врагов, которой, пожалуй, не знала ни одна национальная литература: контрреволюционер, белогвардеец, кулак, подкулачник, буржуазный интеллигент, вредитель, отсталый директор завода, империалист, капиталист, наймит империализма, шпион, наконец, враг народа. Отсюда своеобразная «парность» героев произведений социалистического реализма: рядом с образом Павла Корчагина непременно возникает образ Жухрая, рядом с Морозкой — Левинсона. Весьма часто в качестве Ученика выступает целый коллектив, вернее, масса, толпа, превращающаяся под руководством коммуниста Кожуха («Железный поток» А. Серафимовича), коммунистов Давыдова, Разметного, Нагульнова («Поднятая целина» М. Шолохова) в коллектив, сплоченный единой целью, единым мировоззрением, единой верой.
Постепенно в официальной советской литературе происходило культивирование «положительного», исключительного героя, что явно было вне традиции русской классики: «…мне кажется, что требования обязательной исключительности, возвышения героя над „заурядностью“ живой действительности покоятся на одном из укоренившихся в прежние годы принципов, когда возвеличение личности главного героя, наделение его особо незаурядными качествами обычно предпочиталось правдивости жизненного образа. Такое сосредоточение внимания на „герое“ — да еще в своеобразно-номенклатурном, должностном понимании этого слова — неизбежно сочеталось с пренебрежением к „рядовой массе“, которая… составляла лишь „фон“ для главного героя. В самой литературной практике такая тенденция приводила к неестественности, натянутости изображения таких героев с большой буквы»3.
В данном фрагменте размышлений Твардовского важна не только скрытая полемика с Горьким, его концепцией «Человека с большой буквы» — здесь важна мысль о пренебрежении советской литературы к человеку срединному, массовому, в конечном счете к герою из народа, поскольку оп был наделен чаще всего функцией фона, «безликой толпы». И безусловную заслугу С. Залыгина А. Твардовский видел в том, что писатель «живописует трудности и трагизм процессов коллективизации со стороны внутренней жизни, в первую очередь, самой рядовой крестьянской массы — ее взыскательные думы, мучительные в своей ограниченности расчеты, колебания и сомнения перед окончательным выбором колхозного пути»4 в то время, когда общепризнанными были другие акценты: «В прежние годы романы и повести о коллективизации отдавали преимущественное внимание руководителям и вожакам этого движения, часто людям, пришедшим в колхоз, к рулю управления, извне — из города, с производства, из армии. Сюжетные коллизии строились на тех более или менее вскрываемых трудностях, которые стояли на пути руководителей и вожаков переустройства деревни. Крестьянская масса часто была лишь фоном и материалом для показа этих трудностей на примере отдельных ее представителей»5.
В критико-публицистическом заострении вопроса Твардовский склонен соотносить степень исключительности героя со степенью таланта его автора (чем талантливее писатель, тем больше его интерес к герою обыкновенному, напротив, чем бездарнее автор, тем пристальнее его интерес к героям «номенклатурным», за высоким положением которых легче «укрыться»), а меру обаяния героя — с его возрастом, и, что самое удивительное, применительно к легальной литературе советской эпохи в этом был свой резон: «Почему наша литература любит стариков, обойтись без них не может? Потому что они шире, живописнее, характернее, богаче языком и народной мудростью, словом, интереснее, чем молодые, передовые, ведущие, идейно выдержанные. Старикам много больше позволено в литературе, чем молодым или только зрелым. Старики могут и власть побранить, и старое в чем-то добром помянуть, у них больше воспоминаний, они из более толстого слоя лет, традиций, поэзии»6.
В литературу периода «оттепели» входят герои, казалось, действительно совершенно неожиданные для советской литературы. Это и «звездные мальчики» прозы «Юности», в свое время охарактеризованные как «брюзжащие юнцы», а не люди «большого дела и ясной мысли»7, и лирические герои А. Вознесенского, Е. Евтушенко, с одной стороны, и Н. Рубцова, Н. Тряпкина — с другой, Иван Денисович А. Солженицына и Иван Африканович В. Белова, «чудики» В. Шукшина и многие другие, явно не укладывающиеся в «магистральный» тип героя советской литературы, берущий начало от Павла Власова, продолженный Павлом Корчагиным и завершенный, увы, «Кавалером Золотой звезды». Но новые герои легко соотносимы с героями русской классической литературы от Акакия Акакиевича до Платона Каратаева, от Самсона Вырина до… Петруши Верховенского, а также с традициями вершинных созданий отечественной литературы XX века, живущими подспудно, но властно: от трагического Григория Мелехова до духовных скитальцев А. Платонова.
Андрею Платонову, который одновременно находился внутри социалистической мифологии и мучительно выламывался из нее, принадлежит совершенно особое место в создании типологии героя нового времени. Внешне писатель следовал за всеми доминантными направлениями поисков официальной литературы. Так, его произведения 1920—1930;х годов содержат общепринятые, поощряемые нормативной критикой темы тех лет: революционного преобразования мира («Чевенгур»), рождения нового человека («Лампочка Ильича», «Сокровенный человек», «Счастливая Москва»), индустриализации страны («Котлован», «Происхождение мастера»), коллективизации («Котлован»), тему покорения природы («Песчаная учительница», «Епифановские шлюзы») и т. д. Но авторская трактовка, художественное решение их резко отличаются от общепринятых: строительство общепролетарского дома оборачивается бесконечным и бесплодным рытьем котлована, ямы в конечном счете оказываются могилами, которые уготовили себе творцы будущего утопического общества; крестьяне, поняв неизбежность коллективизации, сами заранее ложатся в гробы, а пафос «энтузиазма груда» выливается в гротесково-обобщенный образ медведя, несущего тотальное разрушение и гибель.
Чрезвычайно показательна и глобальна трагическая авторская мысль о судьбе народа, который ведут к «обязательному счастью». Финал повести «Джан» недвусмысленно свидетельствует о том, что такая нация уже не сможет существовать как единое целое: «Чагатаев ушел один за несколько километров; он поднялся на самую высокую террасу, откуда далеко виден мир во все его концы. Оттуда он рассмотрел десять или двенадцать человек, уходящих поодиночке во все страны света. Некоторые шли к Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но далеко один от другого, к Чарджую и Аму-Дарье. Не видно было тех, которые ушли через Усгь-Урт на север и восток, и тех, кто слишком удалился ночью.
Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь на краю Сары-Камыша, адова дна древнего мира. Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом"8.
То же расшатывание канонов официального искусства происходит и в созданной Платоновым типологии героя. Вновь чисто внешне писатель работает в русле уже общепринятой схемы «Учитель — Ученик», наполняя ее уникальным смыслом. Писатель предлагает, по крайней мере, три варианта образа героя-учителя, знающего, как жить по-новому.
Во-первых, это «фанатик от революции». Героям этого ряда — Чиклину, Пиюсе, Копейкину — присущи сухость и сентиментальность, жесткость и тяга к другому человеку, безжалостность и стремление к общему братству и товариществу. Они готовы не задумываясь пожертвовать и своей, и чужой жизнью «во имя дела революции». Авторская оценка этих образов весьма сложна: в ней соединены понимание, сочувствие и жалость, ирония.
Второй вариант Учителя, по Платонову, — это «карьерист от революции», ее «боковая сила». В недавно опубликованных записных книжках писателя читаем: «В революции выигрывает „боковая сила“, так как главные уничтожают друг друга»9. Авторская оценка такого героя абсолютно однозначна. Думается, именно в этом случае обнаруживается мощный сатирический дар художника, будь то описание «Города Градова» (в самом названии апелляция к щедринскому городу Глупову уже вполне очевидна) либо «социалиста» Сафронова, который «боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества: — У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда»10.
В-третьих, это создание целого ряда образов представителей «молодого поколения», которые уже не имеют ни национальных корней, ни памяти — никакого «груза прошлого», как будто родившихся с новой верой, новым мировоззрением, новым пониманием предназначения человека на земле и представлением о счастье. В обрисовке этого типа героя (Чагатаев из повести «Джан», героиня «Песчаной учительницы», Саша Дванов, Москва Ивановна Честнова, третий сын из одноименного рассказа, Бертран Перри из ранней повести «Джан» и т. д.) особенно очевидно проявились не только внутренняя оппозиционность писателя, который шел по пути прощания с утопией, но и способность к трагическому пророчеству: поколение, предназначенное для создания совершенного государства, становится жертвой утопической и, следовательно, тупиковой идеи.
Столь же нетрадиционно смысловое содержание платоновских героев-учеников, которые должны в ходе революционного преобразования общества постигать истинность его новых законов. Эго знаменитый «сокровенный человек» А. Платонова: Фома Пухов, Вощев, машинист Мальцев, усомнившийся Макар. Это невежественные тоскующие одинокие люди, столь любимые самим писателем, ибо они — сироты этого мира, потерявшие связь с ним, но все же надеющиеся на единство с людьми и жизнью. Им прежде всего важно осознать цель своего существования, своей жизни во взбаламученной и взорванной действительности. Платоновские герои, прислушиваясь к «веществу своего существования», напряженно ищут свое нелегкое счастье, не желая принимать готовое из «радиорупора». Именно такому герою Платонов дает право произнести сокровенную фразу: «Без меня народ неполный», и в этом видится особый гуманизм писателя, который убежден в праве каждого человека на личностное самоопределение в этом мире.
Ортодоксы времени не приняли Платонова, и он на долгие годы был отлучен от литературы. Но и в годы «оттепели» стремительное расширение типологии героев, явственное гуманистическое возвышение простого человека (как неожиданно абсолютное воспринималось утверждение Евг. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет») вновь было воспринято нормативной критикой как тенденция к дегероизации литературы, к утрате четких классовых критериев в оценке литературного героя: «отвлеченны, неконкретны понятия доброты, справедливости в том толковании, какое дается им на страницах „Нового мира“»11. Редакция журнала, который был трибуной литературы шестидесятничества, обвинялась в том, что «проходит мимо героики и романтики», а ее критики «поднимают на пьедестал произведения, однобоко изображающие тяжелые ситуации в нашем прошлом, разные „узкие места“, а то и „задний двор“. Взамен революционера и борца такие критики на первый план выдвигают персонажей, обиженных судьбой, людей с ущербной психологией, общественно пассивных, этаких откровенных антигероев»12.
И поскольку, скажем, герой рассказа В. Шукшина «Степка» «не проходит» в «положительные», то одна из критикесс того времени вообще утверждала, что он может «садануть под сердце финский нож». В письме-ответе к ней В. Шукшин с немалой горечью, но и убеждением пишет: «Хорошо, мы выдумаем героя, а в него никто не поверит… (скажете: надо так сделать, чтобы поверили!) Не могу. Мне бы только правду сказать о жизни. Больше я не могу. Я считаю это святым долгом художника»13.
Размышляя над феноменом героя В. Белова и отстаивая право писателя творить своего героя таким, какой он есть в жизни, а не таким, каким он должен быть, Шукшин ссылается на опыт русской классики и фольклора. Писатель считает, полемически заостряя свою мысль, что нравственен тот герой, который несет правду своего времени, отсюда Обломов и Печорин «так же правдивы и небезнравственны, как правдивы и небезнравственны мятежники-декабристы», поэтому героем нашего времени, по мнению Шукшина, стал «дурачок» (или чудик), ибо в нем «правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном»14.
«Положительный» герой советской литературы был зачастую лишен главного — человеческого обаяния, и никакие «указания» не могли заставить читателя полюбить такого героя. Но именно эта приязнь — непременное условие настоящего искусства: «будь герой „большим“ или „маленьким“, „исключительным“ или „обычным“, пусть даже будет он носителем всех добродетелей, безупречно правильным в своих поступках и суждениях, все равно читатель остается равнодушным, если он окажется лишен простого человеческого обаяния — того, что привязывает нас к героям любимых книг. Книга для меня, читателя, персонажи книг становятся либо моими личными друзьями, либо личными врагами, тогда происходит прекрасное чудо — является художественное произведение»15. Отсутствие «обаяния» — результат утраты интереса к «единичному», попытка советской литературы человека, лишенного индивидуальности, представить истинным героем времени.
По ироничному и одновременно верному утверждению А. Синявского, «положительный» герой — это «святая святых социалистического реализма, его краеугольный камень и главное достижение»16.
Было бы несправедливо утверждать, что сомнение по поводу целесообразности появления «идеального» героя советской литературы возникло впервые только во второй половине XX века. «Идеальный», «положительный» герой — всегда мертворожденное дитя, и это прекрасно понимали даже художники, имена которых нередко фигурируют в перечне тех, кто стояли у истоков формирования эстетики и практики социалистического реализма. В 1938 году И. Уткин писал Д. Алтаузену: «Неприятное, неизживаемое противоречие нашей замечательной эпохи: невнимание к личности. Диктатура коллектива — борьба за государственность оставила личность как некую абстрактность. Те же причины выработали известную — и часто очень незаурядную — недоверчивость к личности как индивидуальности. Когда полк наступает, то мозоли рядового в расчет не принимаются, хотя бы их было у него по две на каждом пальце. Но конечная цель революции — это именно человек, ибо человеку революция, а не наоборот»17.
Обращает на себя внимание и выступление-предупреждение А. С. Макаренко: «Его (современного героя) научили кротко умирать от чахотки, его научили произносить непогрешимо-прописные речи, в которых, конечно, не бывает ни одного грамма риска. Этого самого нашего героя освободили от всех конфликтов и радуются: какое счастливое бесконфликтное существо! Наш герой давно отвык раздумывать, мучительно решать, страдать от неудобства. У нашего героя нет лирики, юмора, сарказма. Это какое-то облегченное существо, у которого все решено, все известно и которому неизвестен только грех»18.
С приходом новых героев в литературу «оттепели» приходит и новое наполнение столь важных для российской словесности понятий, как «народ», «народность», «народный»; внимание не к исключительному, но обыденному, изображение не «героических страниц народной жизни», но просто жизни народа, акцент не на «передовых представителях народной массы», но на драматических страницах отечественной истории глазами народа. Одновременно литература шестидесятничества восстановила распавшуюся «связь времен», показала значимость и для себя, и для общества возвращения к человеку и, следовательно, возвышения его.
Категория русского характера занимала одно из ведущих мест в художественном мышлении писателей второй половины XIX века и была ядром концепции личности. Образ человека из народа становится средством выражения нравственного идеала писателя, что порождает целый типологический ряд русских странников, подвижников, праведников, юродивых, «идиотов» и т. п. В официальной литературе советской эпохи данная традиция была прервана, а категория русского национального характера заменена понятием «советский характер».
Категория праведничества у Толстого, Достоевского, Лескова восходит к религиозно-нравственному представлению о человеке: праведно то, что возвышается над чертой простой нравственности и потому «свято Господу» (Н. Лесков).
Безусловно, ослабление идеологической цензуры в период «оттепели» позволило советским писателям иначе взглянуть на образ и судьбу современной русской женщины. Опираясь на гуманистические и религиозно-нравственные традиции классической литературы, писатели-шестидесятники попытались разрушить клишированное представление об идеальной женщине как женщине общественной. С одной стороны, это привело к снятию конфликта в творческом сознании художника (конфликта между аксиологическим и изобразительным дискурсом), с другой — позволяет обнаружить реальный трагизм в положении русской женщины, ввести ее в типологический ряд положительных героев русской литературы, вернуть литературе категорию русского национального характера в традиционной форме.
Приоритет здесь принадлежит А. И. Солженицыну. В рассказе «Матренин двор», опубликованном в «Новом мире» (первоначальный вариант заглавия «Не стоит село без праведника», 1959), писатель намеренно обращается к лесковской традиции в понимании праведничества, когда в финале цитирует ту же народную пословицу, что и Лесков в предисловии к своему циклу «Праведники». У Лескова читаем: «Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле»19; у Солженицына: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша»20.
Не только в общей направленности, но и в частностях заметна безусловная ориентация современного писателя на классический опыт. В свое время Лесков находил «живые и привлекательные личности» в «сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать было невозможно»21. Так же непритязательны, просты обстановка, порядок жизни, занятия Матрены Васильевны. Изба Матрены, «с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону», «была уставлена, но табуретам и лавкам — горшками и кадками с фикусами». Вставала Матрена «в четыре-пять утра», и весь день проходил у нее в хлопотах: стряпня, уборка по хозяйству, «добыча» торфа, «сенца для единственной своей грязно-белой козы», «сбор старых пеньков, вывороченных трактором на болоте», брусники, «намачиваемой на зиму в четвертях», копка «картови», «беготня по пенсионному делу»22. Жизнь героини одинокая, трудная, что постоянно подчеркивает автор («…жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти»; фикусы «заполняли одиночество хозяйки»; «…была она одинокая кругом»23), но это не лишает ее доброты, благорасположенности к людям, потому и улыбка у нее всегда лучезарная, просветленная, добрая. В традициях создания образов народных праведников, в Матрене присутствует полное согласие ума и сердца, основанное на чувстве единения с людьми, верности себе и обычаям: «Видно, привлекало ее изобразить себя в старине… У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей»24.
Необходимо отметить и особую форму религиозности героини. В свое время уже обращали внимание на приобщенность лесковского праведника к «подспудной» духовно-практической культуре русского народа25. Так и Матрена верила истово, но была скорее язычница, суеверна, никогда не молилась, но всякое дело начинала «с Богом». Однако был «святой угол в чистой избе и иконка Николая Угодника в кухоньке», «а грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та — мышей душила»26. Для праведницы религиозная вера — не обряд, а подспорье в практических делах. Потребность делать добро людям у Матрены сопровождается, как у многих лесковских героев, полной беззаботливостью о себе. Она безотказно, бросая свои дела, шла помогать соседям во время пахоты огорода, уборки картофеля или прочих работ. Но «не берет она денег»27, хотя не получала ни пенсии, ни зарплаты в колхозе, работая за трудодни. Скромность, бескорыстность, незаметность Матрены не понимают, не ценят должным образом окружающие. Так, после трагической гибели героини золовка отзывается о ней неодобрительно, недоброжелательно, «с презрительным сожалением»: «…и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросенка не держала…; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно»28. Солженицын показал драму общественной невостребованное™ современного праведничества («Все мы жили рядом с ней и не поняли, что она тот самый праведник»29), но, тем не менее, художник-оппозиционер попытался сломать советский стереотип в восприятии идеальной женщины, положив начало новому (а точнее, планомерно вытравленному из нашего сознания) пониманию русского национального характера.
Писатели-шестидесятники, в первую очередь, те, кого принято называть «деревенщиками», продолжили процесс возвращения нравственных ценностей и координат в изображении русского человека.
Ограничимся одним конкретным примером: сопоставим очерк Н. С. Лескова «Однодум» из упоминавшегося уже цикла «Праведники» и рассказ В. М. Шукшина «Штрихи к портрету». В них много поразительных параллелей, источник которых — нечто общее в структуре и авторской оценке национального характера.
И для Лескова, и для Шукшина герой не совсем обычен, ибо «идеологизирован». И там, и тут доминанта характера — идея правильной жизни. Для Александра Афанасьевича Рыжова («Однодум») — это идея жизни по-божески («Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте»30). Для Николая Николаевича Князева — идея «целесообразного государства» (так называется первая глава его размышлений31) — Сходен путь формирования подобных характеров. Оба необразованны, дошли до своей идеи сами благодаря «породе и природе». Тяжелый труд с детства не убил в них способности мыслить и интереса к чтению. У Рыжова с детства была «складка… философская»32. «Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства»33, — писал о себе Князев. Как результат — выбор для себя соответствующего жизненного примера (Иисус Христос для Рыжова, Спиноза для Князева) и потребность поделиться своими мыслями: Рыжов пишет своего «Однодума», навеянного чтением Библии, Князев — трактат «О государстве». Идеи героев внешне различны: религиозная, православная у Рыжова, государственная у Князева, но внутренне они схожи, ибо представляют мир в виде некоего упорядоченного целого. В одном случае целесообразное государство через «пульт управления» организует жизнь каждого отдельного человека, в другом — жизнь человека организует «единый», «учредитель и хозяин всего сущего»34, то есть Бог. Обе идеи оказываются чуждыми окружающим, не совпадают ни с официальным православием, ни с официальной государственностью и подвергаются «едким гонениям» как масонство, ересь, враждебная пропаганда, глупость, бред. Оба героя оказываются в конфликте с обществом. Оценки, которых удостаиваются герои произведений, как бы вбирают два полюса отношений к данному характеру: от самого резкого неприятия до глубокого уважения. Поэтому Рыжов — еретик, «такой — некий — этакой», дурак, юродивый, удивительный человек, чудак; Князев — идиот, дубина, странный человек, чудик. И Лескову, и Шукшину важно подчеркнуть, что находятся люди, способные по достоинству оценить и жизнь, и суждения их героев (губернатор Ланской пожаловал Рыжову Владимирский крест, начальник милиции задумался и решил взять тетрадки Князева домой почитать).
Таким образом, даже беглый взгляд на типологию героя русской литературы двух веков вновь позволяет говорить о диалоге, который строится не только по конфликтному принципу («или… или»), но и по принципу взаимодонолнительности («и… и»), то есть диалогу, понятому, но Бахтину.
- 1 Гончаров И. А. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8. М., 1952. С. 432.
- 2 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14. Л., 1990. С. 12.
- 3 Твардовский А. Т. По случаю юбилея // Новый мир. 1965. № 1. С. 14.
- 4 Там же. С. 13.
- 3 Там же.
- 6 Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953—1960) // Знамя. 1989. № 8. С. 123.
- 7 Озеров В. М. Литература и современность// Коммунист. 1963. № 18. С. 83.
- 8 Платонов А. Течение времени: Повести, рассказы. М., 1971. С. 261.
- 9 Записные книжки А. Платонова // Новый мир. 1991. № 9. С. 154.
- 10 Платонов А. Котлован. Ювенильное море (Море юности): Повести. М., 1987. С. 46.
- 11 Метченко А. И. О литературной критике // Коммунист. 1967. № 6. С. 121.
- 12 Правда. 1967. 27 янв.
- 13 Шукшин В. Вопросы самому себе. М., 1981. С. 48—49.
- 14 Там же. С. 54.
- 15 Твардовский А. По случаю юбилея // Новый мир. 1965. № 1. С. 14.
- 16 Синявский А. Что такое социалистический реализм? // Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1990. С. 437.
- 17 Цит. по кн.: ЦуриковаГ. Борис Корнилов: Очерк творчества. М.; Л., 1963. С. 67—68.
- 18 Макаренко А. Против шаблона // Лит. газета. 1938. 30 июля.
- 19 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М., 1989. С. 4.
- 20 Солженицын А. И. Рассказы. М., 1990. С. 158.
- 21 Лесков Н. С. Указ. соч. Т. 7. С. 318.
- 22 Солженицын А. И. Указ. соч. С. 126, 123, 133.
- 23 Там же. С. 126, 131.
- 24 Там же. С. 146.
- 25 См.: Дыханова Б. В. В поисках своего слова (Из наблюдений над стилем Н. Лескова) // Вопр. лит. 1981. № 2. С. 195.
- 26 Солженицын А. И. Указ. соч. С. 137—138.
- 27 Там же. С. 135.
- 28 Там же. С. 158.
- 29 Там же.
- 39 Лесков Н. С. Указ. соч. Т. 2. С. 7.
- 31 Шукшин В. М. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1975. С. 368.
- 32 Лесков Н. С. Указ. соч. Т. 2. С. 7.
- 33 Шукшин В. М. Указ. соч. С. 388.
- 34 Лесков Н. С. Указ. соч. С. 18.
- [1] 2