Прагматика публицистического текста: Метаязыковой аспект
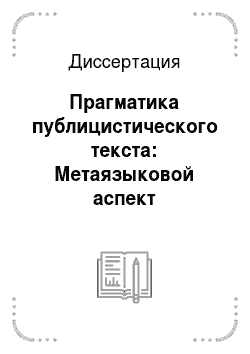
Диссертация
Публицистический текст на протяжении всей истории своего существования вызывал острую критику со стороны любителей русской словесности, истинных ценителей образцовой русской речи, ибо наметившаяся тенденция к снижению стиля (раньше это называлось «демократизацией», а теперь «либерализацией» русского языка) отражается, в первую очередь, в языке газеты. Не вызывает сомнения тот факт, что… Читать ещё >
Содержание
- 1. Публицистический текст как многоаспектный объект исследования
- 1. 1. Функционально-стилистический подход к изучению публицистического текста
- 1. 2. Прагматический подход к изучению публицистического текста
- 1. 3. Публицистический текст как продукт речевой деятельности
- Выводы
- 2. Прагматика языка публицистического текста
- 2. 1. Социально-прагматическая основа публицистического текста
- 2. 2. Прагматические максимы в публицистическом тексте
- Выводы
- 3. Модальность в публицистическом тексте
- 3. 1. Прагматика текстовой модальности
- 3. 2. Роль модальных средств в усилении публицистичности в современных журналистских текстах
- Выводы
- 4. Метаязыковая субстанциональность публицистического текста
- 4. 1. Метааспектуальность прагматики языка публицистического текста
- 4. 2. Метажурналистика и авторская модальность
- Выводы
Список литературы
- Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенсивной поэтики. М., 1988.
- Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря //Прагматика и проблемы интенсиональности. Под ред. Н. Д. Арутюновой. М., 1985.
- Апресян Ю.Д., Головинская М. Я. Юбилейные записки о неюбилейных словах: ругать и синонимы// Московский лингвистический журнал. М., 1996.
- Аристотель. Риторика//Античные риторики. М., 1978.
- Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. М., 1991.
- Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов лексических значений // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Арутюнова Н.Д. Образ (опыт концептуального анализа) // Референция и проблемы текстообразования. М., 1988.
- Арутюнова Н.Д. Предложения и его смысл. М., 1976. Ю. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт.1. М., 1988.
- Арутюнова Н.Д. Фактор адресата //Изв. Ан СССр. Сер. лит. и яз. т.40, № 4. М, 1981.
- Аруионова Н.Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики //Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. Вып. 16,1985.
- АхмадееваС.А. Аппликативная метафора: структурные, морфолого-синтаксические и коммуникативно-прагматические особенности функционирования в языковом и речевом аспектах. АКД, Краснодар, 1999.
- Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейро-лингвистический анализ синтаксиса. М., 1961.
- Бабушкин В.У. О двух моделях понимания // Загадка человеческого понимания. М., 1991.
- БаллиШ. Французская стилистика. М., 1961.
- Баранов А.Г. Модель речевого воздействия: автор Реципиент // Речевые цели и средства их реализации. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1996.
- Баранов А.Г. Текст в функционально-прагматической парадигме. Краснодар, 1988.
- Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста. Ростов-на-Дону, 1993.
- Баранов А.Н., Караулов Ю. Н. Словарь русских политических метафор. М&bdquo- 1994.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
- Батыгин Г. С. Стереотипы поведения- распознавание и интерпретация. М., 1990.
- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных наук// Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Безменова H.A., Герасимов В. И. Некоторые проблемы теории речевых актов // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М., 1984.
- Белянин В.П. Психологические аспекты публицистического текста. М., 1988.
- Бенвениет Э. Общая лингвистика. М., 1984.
- Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Новое в лингвистике. М., 1965. вып.4.
- Беневоленская Т.А. Портрет современника: (Очерк в газете). М., 1983.
- Бердышева Н.Ю. Объективность и субъективность в журналистских жанрах // Средства массовой информации в современном мире. СПб., 2000.
- Бессарабова Н.Д. Изобразительные и выразительные возможности метафор в газетно-публицистической речи. Дис. Канд. филол. Наук. М., 1989.
- Блумфилд JI. Язык М., 1968.
- Блэк М. Метафора // Теория метафоры. М., 1990.
- Богин Г. И. Бездейственность текста как наличие программы рефлективных техник понимания//Художественный текст как акт речевого воздействия. Ростов-на Дону: Изд-во РГУ, 1996.
- Богомолова H.H. Массовая коммуникация и общение. М., 1988.
- Богомолова H.H. Социальная психология печати, радио, телевидения. М., 1990.
- Болдырева С.И. Субъективизация повествования в синтаксическом контексте и значение/смысл и значение на лексическом и синтаксическом уровнях. Калининград, 1986.
- Болинджер Д. Истина проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Бондарко A.B. Грамматическая категория и смысл. Л., 1978.
- Бондарко A.B. Функциональная грамматика. Л., 1984.
- Бочаров А.Г. Типология журналов переходного периода // Журнальная периодика России. М., 1996.
- Бреслав Г. М. Эмоциональные процессы. JL, 1984.
- Будагов P.A. Человек и его язык. М., 1976.
- Булыгина Т.В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира. М., 1997.
- Буряк В.Д. Модульная журналистика в новом социально- экономическом контексте//Средства массовой информации в современном мире. СПб, 1999.
- Бухарцев Р.Г. Психологические особенности журналистского творчества. Свердловск, 1976.
- Бухарцев Р.Г. Творческий потенциал журналиста. М., 1985.
- Буянова Л.Ю. Метаязыковой аспект окказиональной деривации. Краснодар, 1999.51 .Буянова Л. Ю., Немец Г. П. Метааспектность терминологии. Взгляд на проблему //Филология- Philologica. Краснодар. 1995 № 7
- Вайнрих X. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Варустин Л.Э. Вровень с героем: Проблемы творчества и мастерства публициста. М., 1987.
- Васильева Т.Я. Стереотипы в общественном сознании (социально-философские аспекты). М., 1988.
- Вежбицка А. Метатекст в тексте // НЗЛ.Вып. VIII. М. 1978.
- Величковская Г. М. Современная когнитивная психология. М., 1975.
- Верещагин Е.М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 1976.
- Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. М, 1975.
- Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1982.
- Виноградов В.В. Русский язык. М., 1972.
- Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
- Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Винокур Т.Г. Об изучении функциональных стилей русского языка советской эпохи (к постановке вопроса)// Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., Наука, 1968.
- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., Наука. 1985.
- Вольф Е.М. Эмоциональные состояния и их представления в языке // Логический анализ языка: Проблемы сентеналопальных и прагматических контактов. М., Наука. 1989.
- Выготский Л.С. Инструментальный метод в психологии. / Собр. Соч.: в 6 т. М., 1982.
- Выготский JI.C. Мышление и речь //Хрестоматия по общей психологии. М., 1981.
- Гайсина P.M. Лексико-семантическое поле глаголов отношения в современном русском языке. Саратов. 1981.
- Гак В.Г. К проблеме соотношения языка и действительности // Вопросы языкознания. 1972. № 5.
- Гак В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973.
- Гак В. Г. Лексическое значение слова // Лингвистический энциклопедический словарь прагматической адекватности публицистического текста. М., 1990.
- Гак В.Г. О семантической организации повествовательного текста // Лингвистика текста, вып. 103. М., с.5−6.
- Гак В. Г. Языковые преобразования. М., 1998.
- Гальперин И.Р. О понятии «текст». В.Я. 1974, № 6.
- Гальперин И.Р. Грамматические категории текста. Известия. АН СССР. СЛЯ. 1977, № 6, с. 524.
- Гальперин И.Р. Проблемы лингвостилистики. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
- Танеев Б.Т. Семантика и прагматика парадоксальных высказываний. Автореф. канд. филол. наук. Л., 1989.
- Ганичев В.И. Молодежная печать: история, теория, практика. М., 1976.
- Гвишиани Н.Б. Метаязык //Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Гвишиани Н.Б. Язык научного общения. М., 1986
- Гельгардт P.P. Избранные статьи. Языкознание. Фольклористика. Калинин, 1968.
- Георгиев Д. Режиссура газеты. М., 1979.
- Герасимов В.И., Ромашко С. А. Прагматика устного общения // Звучащий текст. М., 1983.
- Глаголев И.В. Экстралингвистическая основа конструирования предложения в речи // НДВШ. Филол. Науки. 1974, № 2.
- Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., Наука, 1980.
- Горохов В.М. Закономерности публицистического мастерства. М., 1975.
- Грабелыциков A.A. Средства массовой информации России. М., 1996.
- Грамматика русского языка. Т. 1. М., 1952.
- Грамматика русского языка. Т.2. М., 1952.
- Граудина Л.К., Ширяев E.H. Культура русской речи. М., 1999.
- Гуревич В.В. Лингвистика XX века лицом к семантике // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. Тезисы Международной конференции. В 2 т. Т.1. М., 1995.
- Гусев С.С., Гульчинский Г. Л. Проблема понимания в философии. М., 1985.
- Дейвисон А. Лингвистическое или прагматическое описание: размышление о парадоксе перформативности // НЗЛ. Вып. ХУП М., 1986.
- Дейк ван Т. Вопросы прагматики текста //НЗЛ Вып. УШ. М., 1978.
- Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. М. 1989.
- Демьянков В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Известия. АН СССР. М., 1981, № 4, т. 40
- Демьянков В.3.0 формализации прагматических свойств языка //Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М., 1984.
- Дешериева Т.И. О соотношении модальности и предикативности // ВЯ, 1987., № 1.
- ЮО.Дзялоишнский И. М. Творческая индивидуальность в журналистике. М&bdquo- 1984.
- До линии Н. А. Имплицитное содержание высказывания //В .Я. 1983, № 6.
- Ю2.Доценко E. J1. Психология манипуляции. М., 1997.
- ЮЗ.Дридзе Т. М. Лингвосоциологические аспекты массовой информации.1. М., 1976.
- Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. М., 1957. Ю9.ЖинкинН.И. Язык. Речь. Творчество. Избранные труды. М., 1998. 1 Ю. Жинкин Н. И. Механизмы речи. М., 1958.
- Жирков Г. В. Проблемы изучения механизма мифологизации в журналистике // Вестн. Моск. Унив-та. Сер. 10. Журналистика. М., 1992.т.
- Жоль К.К. Мысль, слово, метафора. Киев, 1984.
- З.Журавлев А. П. Содержание синтаксической формы (синтаксический символизм) // В Я., 1987. № 3.
- Журналистика в буржуазном обществе / Под редакцией Я. Н. Засурского. М., 1976.115.3алевская А. А. Некоторые особенности функционирования метафоры в индивидуальном сознании // Исследования по семантике.
- Иванов Вяч.В. О языке как модели мира // Интеллектуальные процессы и их моделирование. М., 1987.
- Иванова И.Д. Структура контекста метафоры. // Семантика слова, образа, текста. Тезисы международной конференции. Архангельск, 1995.
- Ивин А.И. Основания логики оценок. М. 1976.
- Ионин Л.Г. Основания социокультурного анализа. М, 1995.
- Исаева Л.А. Художественный текст: скрытые смыслы и способы их представления. Краснодар, 1996.
- Каде Т.Х. Проблема потенциала языка // Потенциал русского языка: Проблемы и решения. Краснодар: КубГУ, 1997.
- Кадимов Р.Т. Паронимическая аттракция как прием семантического осложнения поэтического текста // Язык русской поэзии XX в. М., 1589.
- Казарина С. Г. Типологические характеристики отраслевых терминологий. Краснодар, 1998.
- Ш. Кайда Л. Г. Выражение авторской оценки в современном фельетоне: (Опыт функционально-стилистического исследования подтекста на материале синтаксиса): Дис. канд. филол. наук. М., 1977.
- Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М, 1990.
- Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М., 1990.
- Канцнельсон С.Д. Речемыслительные процессы. //ВЯ, 1984, № 4.
- Канцнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. М., -Л., 1965.
- Кара-Мурза Е. С. Социолект как основа типологии постперестроечной прессы. Журналистика в 1998 г. М., 1999.
- Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959.
- Кевиша И.В. Прагматика незаконченных высказываний // Семантическая структура текста и ее компоненты. Калининград, 1989.
- Кибрик А.Е. Когнитивные исследования по дискурсу. В .Я. 1994. № 5.
- Ким М. Н. От замысла к воплощению. СПб., 1999. Ш. Киселева Л. А. Аспекты речевого воздействия. СПб., 1985.
- Кифер Ф. О роли прагматики в лингвистическом описании // НЗЛ. -Вып. 16. М.: Прогресс, 1985.
- Ковтун В.Ф., Цыганов О. В. Максимум выразительности. М., 1997.
- Кодухов В.И. Контекст как лингвистическое понятие // Языковые единицы и контекст. Л., 1973.
- Колесов В.В. Русская речь: вчера, сегодня, завтра. СПб, 1998.
- Колесов В.В. Язык города. М, 1991
- Колосов Г. В. Публицистика как творческий процесс. М., 1977.
- Кольцов М. Писатель в газете. М., 1961
- Колшанский Г. В. Контекстная семантика. М., 1980
- Коммиссаров В.И. Слово о переводе. М., 1975.
- Кон И. С. Социология личности. М., 1967.
- Коньков В.И. Речевая структура газетного текста. СПб., 1995.
- Коньков В.И. Стандарт как явление речевой структуры газетного текста//Вестник ЛГУ, Сер. 2, 1990.
- Коньков В.И., Краснова Т. И., Рогова К. А. Язык художественной публицистики. Л., 1985.
- Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. Ростов-на-Дону, 1999.
- Корнилов Е.А. Классификация социокультурных моделей журналистики // Средства массовой информации в современном мире. СПб, 1999.
- Корнилов Е.А. Типология периодической печати: Основные понятия и категории // Типология периодических изданий. Ростов-на-Дону, 1984.
- Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. СПб., 1995.
- Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971.
- Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1995.
- Ш. Кохтев H.H. Ораторская речь: стиль и композиция. М., 1992.
- Кохтев H.H. Стилистика рекламы. М, 1991.
- Кривенко Б.В. Фразеология и газетная речь / Русская речь. 1993. № 6.
- Кривенко В.В.ФСМК: проблемы поуровневой трансформации //Современные СМИ: истоки, концепция, поэтика. Воронеж, 1994.
- Кройчик JI.E. Трансформация жанров: опасность утраты публицистичности.//Журналистика в 1998 г. М., 1999.
- Крюкова Н.Ф. Метафора как средство понимания содержательности текста. М., 1988.
- КузинВ.В. Психологическая культура журналистики. СПб, 1998.
- Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка. М., 1991.
- Культура парламентской речи. М., 1994.
- Лазарева Э.А. Заголовок и структура текста // Современная газетная публицистика. Проблемы стиля. Л., 1987
- Лаптева O.A. Живая русская речь с телеэкрана (Разговорный пласт телевизионной речи в нормативном аспекте). Сегед, 1990.
- Лаптева O.A. Разговорный синтаксис. М., 1976.
- Ларин Б.А. О лингвистическом изучении города // Русская речь, вып. IV Д, 1928.
- Ларин Б.А. О лингвистическом изучении города //Русская речь, вып. Ш. Л., 1928.
- Леонтьев A.A. Психолингвистика. М., 1967.
- Леонтьев A.A. Слово в речевой деятельности. М., 1965.
- Леонтьев A.A. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1962.
- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1979.
- Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М., 1992.
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
- Лотман Ю.М. Из истории выражения модальности в русском языке. АИО. М., 1971.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1999.
- Лурия Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Лучинский Ю.В. Журналистика в контексте формирования рациональной американской социокультурной омдели (1631−1861). Авто-реф. Дис. д-ра филол. наук. Краснодар, 1998.
- Лучинский Ю.В. Очерки зарубежной журналистики. Краснодар, 1991.
- Лысакова И.П. Социолингвистические аспекты журналистики//Социальное функционирование журналистики /Под ред. С.Г. Корпоно-сенко. СПб., 1994.
- Лысакова И.П. Тип газеты и стиль публикации: опыт социолингвистического исследования. Л., 1989.
- Лысакова И.П. Язык газеты как объект социолингвистического исследования // Язык и общество. Саратов, 1982, — вып. 6., с. 44−71.
- ЛысаковаИ.П. Язык газеты: социолингвистический объект. М., 1981.
- Ляпон М.В. Модальность и явления лексического аналитизма в древнерусских текстах //НДВШ. Филология. 1973, № 2.
- Ляпон М.В. Языковая личность: поиск доминанты // Язык система. Язык — текст. Язык — способность: К 60- летию со дня рждения Ю. Н. Караулова: Сб. ст. М., 1995.
- МазурМ. Качественная теория информации. М., 1974.
- Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста. Красноярск, 1987.
- Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990.
- Малинович Ю.М. Экспрессия и смысл предложения // Проблемы эмоционально-экспрессивного синтаксиса. Иркутск, 1989.
- Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975.
- Маслова В.А. Параметры экспрессивности текста // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
- Маслоу А.Х. Мотивация и личность. М., 1964.
- Массовая коммуникация и общественное мнение. Материалы пятого советско-финского семинара (май 1987) М., 1988.
- Массовое содержание и массовые действия. М., 1994.
- Матвеева Т.В. Лексическая экспрессивность в языке. Свердловск, 1986
- Мегентесов С.А. Семантический перенос в когнитивно-функциональной парадигме. Краснодар, 1993.
- Мегенгесов С.А., Хазагеров Г. Г. Философия языка субъективно-предикативных форм в языковом и куьтурно-историческом пространстве. Ростов-на-Дону, 1995.
- Медведев С. Текст России. Игра властью в советском дискурсе // Среда: русско-европейское журналистское обозрение. М., 1995,№ 1,2.
- Медынская В.Л. Об имплицитных структурах, выражающих некоторые синтаксические категории в русском языке // НДВШ. Филол. науки. 1971.
- Мелерович А.М., Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь. М.: 1997.
- Мельник Г. С. Mass Media: психологические процессы и эффекты. СПб., 1996.2Ю.Методы журналистского творчества / Под ред. В. М. Горохова. М., 1982.
- Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. М.-Л., 1945.
- Мжельская О.С., Степанова Е. И. Новейшие англицизмы в русском языке //новые слова и словари новых слов. Ленинград, 1983.
- З.Мирошниченко А. Толкование речи. Основы лингво-идеологического анализа. Ростов-на-Дону. 1995.
- Мисонжиков Б.Я. Журналистикий текст как средство коммуникации // Социальное функционирование журналистики. СПб, 1994.
- Мокиенко В.М. Русская бранная лексика: цензурная и нецензурная / Русистика Russistik, 1994, № 2.
- Молчанова М.М. Прагматика языка публицистического текста (лин-гвостилистический аспект). Краснодар, 2000.
- Молчанова М.М. Публицистический текст как предмет прагмалин-гвистики // Средства массовой информации в современном мире. СПб, 1999.
- Молчанова М.М. Лингвоспецифика прагматической адекватности публицистического текста. Краснодар, 2000.
- Молчанова М.М. Лингвостилистический статус новейших лексических заимствований. Филология. Philologica. Краснодар, 1996. № 10.
- Молчанова М.М. Прагматические аспекты текстовой модальности публицистики // Акценты. Воронеж. 1998, № 3−4.
- Молчанова М.М. Прагматические аспекты текстовой деятельности журналиста // Акценты. Воронеж, 2000, № 1−2.
- Молчанова М.М. Роль модальных средств в усилении публицично-сти в журналистских текстах // средства массовой информации в современном мире. СПб, 2000.
- Молчанова М.М. Семантическая адаптация дагестанских региона-лизмов //Сравнительно-сопоставительные исследования лексики. Махачкала, 1992.
- Морис Ч.У. Основная теория знаков. Семиотика//Общ. ред.Ю. С. Степанова М., 1983.
- Москальская О. С. Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1981.
- Москвин В.П. Русская метафора: Семантическая, структурная, функциональная классификация. Учебное пособие. Волгоград, 1997.
- Московкин Л.И., Вакурова Н. В. Парламентская журналистика как совокупность медиаканалов между парламентской ареной и электоратом. Журналистика в 1998 г. М., 1999 г.
- Мукаржовский Я. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
- Муминов Ф.А. Методы журналистской деятельности. Воронеж. Акцент. 2000. № 1−2.
- Налимов В.В. Вероятная модель языка О соотношении естественного и искусственного языков. М., 1974.
- Налимов В.В. О некоторой параллели между принципом дополнительности Бора и метафорической структурой обыденного языка // Принцип дополнительности и материалистическая диалектика. М., 1976.
- Налимов Г. Д. Способы субъективной модализации вопросительного высказывания. Вестник ЛГУ, 1989. Вып. 3. № 14.
- Немец Г. П. Актуальные проблемы модальности в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 1991.
- Немец Г. П. Грамматические средства выражения модальности в русском языке. Харьков, 1991.
- Немец Г. П. Прагматика метаязыка. Киев. 1993.
- Немец Г. П. Семантика метаязыковых субстанций. М., Краснодар, 1999 г.
- Немец Г. П., Е.Д. Поливанов и вопросы модально-оценочного анализа языковой коммуникации // Филология- РЫ1о1о§ ка. Краснодар. 1997, № 12.
- Николаева Т.М. Лингвистика начала XXI века: попытка прогнозирования // Лингвистика на исходы XX века: итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. В 2 т., Т. 2. М., 1995.
- Николаева Т.М. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы//Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978, вып. 8.
- Николаева Т.М. Событие как категория текста и его грамматическая характеристика // Структура текста. М., 1980.
- Ним Е. Г. Массмедиа: реалия современности? // Средства массовой информации в современном мире. СПб, 2000.
- Новиков Л.А. Искусство слова. М., 1982.
- Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1973.
- Новикова М.Л. Структура и семантика метафоры как конструктивного компонента художественного текста. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1983.
- Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980.
- Остин Дж.Л. Слово как действие // НЗЛ. Вып. ХУЛ. М., 1996.
- Павлович Н.В. О семантике оксюморона // Лингвистика и поэтика. М., 1979.
- Павлович Н.В. Язык образов: парадигмы образов в русском языке. М., 1995.
- Падучева Е.В. Понятие презумпции в лингвистической семантике. //Семантика и информатика. VIII. М, 1977.
- Падучева Е.В., Крылов С. А. Дейксис: общетеоретические и прагматические аспекты // языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М., 1984.
- Панфилов В.З. Категория модальности и ее роль в конструировании структуры суждения // ВЯ, 1977, № 4.
- Парыгин Б.Д., Слуцкий Е. Г. Проблема типологии аудитории СМИ П // Проблемы эффективности средств массовой информации и пропаганды. Минск, 1981.
- Перевалов В.В. Журналистика и СМИ? Журналистика или СМИ? // Акценты. Воронеж, 1998, № 1−2.
- Пиотровский Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка. Л., 1979.
- Познание и общение/ Отв. ред. Б. Ф. Ломов, А. В. Беляева, М. Коул. М., 1988.
- Политический риск, анализ, оценка, прогнозирование, управление. М., 1992.
- Поливанов Е.Д. Круг очерченных проблем современной лингвистики // Русский язык в советской школе. 1929. № 1.
- Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средства массовой коммуникации. М., 1997.
- Подкорытов Г. А. О приподе научного метода. Л., 1988
- Поляков М.Я. Вопросы по этике и языковой семантики. М., 1978.
- Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средствах массовой коммуникации. М., 1997.
- Почепцов Г. Г. Символы в политической рекламе. Киев, 1997.
- Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации (от речей президентов до переговоров с террористами). М., 1988.
- Проблемы современной стилистики. Сб. научно-аналитических обзоров//Отв. ред. Лузина А. Г., М., 1989 г.
- Проблемы стереотипа в средствах массовой информации // Журналист. Пресса. Аудитория/Под ред. C.B. Смирнова. СПб., 1991. Вып.З.
- Проблемы эффективности речевой коммуникации. М., 1989.
- Пронин Е.И. Выразительные средства журналистики. М. 1987.
- Пронин Е.И. Выразительные средства журналистики АКД. М, 1983.
- Пронин Е.И. Текстовые факторы эффективности журналистского воздействия. М., 1981.
- Прохоров Е.П. Введение в журналистику. М., 1988.
- Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 1995.
- Прохоров Е.П. Искусство публицистики. М., 1984.
- Пэн Д. Б. Слово и тема в газете. Ростов-на-Дону. 1991.
- Распопов И.П. Заметки о синтаксической модальности и модальной квалификации предложения // Семантика и интонация. Вып. П. Уфа. 1973.
- Резников Л.О. Понятие и слово. Л., 1956.
- Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. М., 1990.
- Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 1979.
- Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1999.
- Рождественский Ю.В. Типология слова. М., 1969.
- Руденко Д.И. Имя в парадигмах философии языка. Харьков. 1990.
- Рунов В.В. Воздействие средств массовой информации: лингвистические и теоретико-журналистские характеристики. Краснодар, 1998.
- Русская грамматика. Т.1.М., 1980.
- Русская грамматика. Т.2. М., 1980.
- Русский язык конца XX столетия (1985 1995). М, 1995.1. ZJO
- Рябцева И.К. Ментальные перформативы в научном дискурсе //В.Я. -1999 № 4.
- Рядчикова E.H. Синтактика и семантика конструкций с синтаксической аппликацией. АДД. Краснодар, 1997.
- Савченко А.Н. Язык и система знаков // В.Я. 1972. № 6.
- Садовский В.Н. Истина // Философский энциклопедический словарь. М., 1989.
- Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику. Л., 1989.
- Свитич Л.Г. Эффективность журналистской деятельности. М., 1986.
- Сергеев В.М. Когнитивные методы в социальных исследованиях // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Серебренников Б.А. К проблеме сущности языка // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М. 1970.
- Серль Дж. Р. Косвенные речевые акты // НЗЛ Вып. 17. М. Прогресс, 1986.
- Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов. // НЗЛ. Вып. 17. М&bdquo- 1986.
- Серль Дж.Р. Что такое речевой акт? //НЗЛ -Вып. 17. М. 1986.
- Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1974.
- Сметанина С.И. Поиски стиля: постмодернистская ситуация в текстах СМИ. Средства массовой информации о современном мире. СПб., 1999.
- Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976.
- Соболева Е.Г. Модальность текстов СМИ. Журналистика в 1998 г. М., 1999.
- Сорокин Ю.А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович A.M. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М., 1979.
- Социология журналистики. Очерки методологии и практики. М., 1998.
- Станько А.И. Журналистские расследования. Ростов-на-Дону, 1997.
- Степанов Ю.С. В поисках прагматики (Проблема субъекта)// Известия АН СССР. сер. яз. и лиг. М., 1981, т.4 № 40.
- Степанов Ю.С. Имена. Предикаты Предложения. М., 1981.
- Степанов Ю.С. Язык и метод. М., 1998.
- Столнейкер P.C. Прагматика//H3JI. XVI. М., 1985.
- Столович J1.H. Жизнь. Творчество. Человек. М., 1985.
- Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики. М., 1982.
- Стюфляева М.И. Поэтика публицистики. Воронеж. 1981.
- Сурикова Т.И. Язык журналистики 97: обзор научных направлений. Вестник московского университета. Сер. 10. Журналистика. № 1, 1999.
- Сусов И.П. Семантика и прагматика предложения. Калинин. 1980.
- Сухих С.А. Прагматическое измерение коммуникативного процесса. АДД, Краснодар, 1998.
- Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. М., 1983.
- Талышлиский P.P. Документализм в публицистике. М., 1983.
- Тарасов Е.Ф. Проблемы аналюа речевого общения // Общение. Текст. Высказывания. М., 1989.
- Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М, 1986.
- Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. М, 1988.
- Тертычный A.A. Аналитическая журналистика. М., 1998.
- Тертычный A.A. О надежности документальных сведений в публицистике // Актуальные проблемы журналистики. М., 1981.
- Тертычный A.A. Ожидания аудитории и текст // Журналистика в 1991 году. М., 1992.
- ЗЗЗ.Тертычный A.A. Психология публицистического убеждения. М., 1989.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.
- Тулупов В.В. «Белый «PR» почти не виден //Средства массовой информации в современном мире. СПб, 2000.
- Тулупов В.В. Долги качественной прессы. Средства массовой информации в современном мире. СПб., 1999.
- Тураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности //ВЯ, 1994, № 3.
- Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1987.34?.Ульяновский А. Мифодизайнрекламы. СПб., 1995.
- Ученова В.В. Публицистика и полигака. М., 1979.
- Ученова В.В. Творческие горизонты журналистики. М, 1976.
- Факторович А.Л. Стратегия оценочного выделения и реализация стилистического потенциала // Филология- Philologica. Краснодар, 1997, № 12.
- Федоров А.И. Семантические основы образных средств языка. Новосибирск, 1969.
- Философский энциклопедический словарь. М., 1976.
- Формановская Н.И. Русский речевой этикет лингвистический и методологический аспекты. М., 1998.
- Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике/ Зарубежная лингвистика. ч.П. М., 1999.
- Фрумкина P.M. Смысл и сходство //В.Я. 1985, № 2
- Хилпинен Р. Семантика императивов и деонтологическая логика. // НЗЛ. Вып. XVIIIМ., 1986.
- Хованская З.И. Стилистика французского языка. М., 1984.
- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М, 1972.
- Хомский Н. Язык и мнения. М., 1972.
- Хренов H.A. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., 1981.
- Чейф У.Л. Значение и структура языка. М., 1975.
- Чередниченко В.И. Основы журналистики. Краснодар, 1998.
- Черепахов М.С. Проблемы теории публицистики. М., 1984.
- Черепахов М.С. Таинства мастерства публицистики. М., 1984.
- Черняховская Л. Смысловая структура текста и ее единицы. В.Я. 1983., № 6.
- Шведова Н.Ю. Простое предложение. Русская грамматика, т.2. М., 1980.
- Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы М., 1976.
- Шемякин Ф.Н. Язык и чувственное познание // Язык и мышление. М., 1972.
- Шибутани Г. Социальная психология. М., 1969.
- Шлык М.А. Модальность в публицистическом тексте АКД. Краснодар, 1994.367.1Пмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977.
- Шмелев Д.Н. Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке. //В.Я. № 6, 1957.
- Шмелева Т.В., Шмелев А. Д. Прагматические аспекты теории референции // языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики М., 1984.
- Шостак М.И. Журналист и его произведение. М., 1998.
- Щерба JI.B. Избранные работы по русскому языку М., 1957.
- Щерба JI.B. Языковая система и речевая деятельность. Д., 1974.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиотику. М., 1980.
- Юнг К. Символ и архетип. М, 1994.
- Ядов В. тайна лжи. М., 1963.
- Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. М., 1980.
- Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа нарушений //Теория метафоры. М, 1990.
- Якобсон Р. Избранные работы. М., 1980.
- Якобсон Р. Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между войнами//Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. 4.
- Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
- Якубинский Л.П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986.
- Якубинский Л.П. О диалогической речи // Русская речь, 1923.
- Austin J.L. How to do things with words. Cambridge (Mass): Harvard univ. press. 1962.
- Church A. The Calculi of Lambda. Conversion. Annals of Math. Studies. № 6. 1941.
- Davis S. Percolations. Ln: Speech act theory and pragmatic. Dordrecht etc., 1980.
- Davidson D. Hurth and Meaning. Sinthese, vol.17. № 3, 1967.
- Dijk I.A. van. Studies in the pragmatics of discource The Hague etc.: Mouton, 1981.
- Dijk I.A. van, Kintsh, W. Strategies of Discourse Comprehension. N.V. Academic Press, 1983.
- Dummet M. What is a Theory of Meaning. Ln: «Truth and Meaning». Oxford, 1976.
- Ierguson C.A. Lunguage Structure and Language Use. Stanford, 1971.
- Garnham A. Mental models as Representations of text. Memory and Cognition. 1981.
- Grice H.P. Logic and conversation. Ln: sintax and semantics. N.V. etc., 1975.
- Haugen E. Problems of bilingnal Inscription // Georgetown Vnir. Monograph on language and Lingwistics. 7 Sept. 1954.
- Jespersen O. The philosophy of Grammar. L., 1925.
- Leech G.N. Principles of Pragmatics. London, 1983.
- Leech G.N. Pragmatic and conversational rhetoric. Ln: Possibilities and limitations of pragmatics. Amsterdam, 1981.
- Morris C.W. Ioundations of theory of sings. Chicago, 1938.
- Morris C.W. Signs, Language and Behavior // Morris C.W. Writings on the General Theory of sings. The Hague, 1971.
- Mooij A. A study of metaphor- on nature metaphorical expressions, with spec. Referens oftoreferens Amsterdam, etc. 1976.
- Parret H. Pragmatique philosophige et epistemologie de la pragmatique: Connaissance et contextualite. Ln: Langage en contexte: Etudes philos. et ling, de pragmatique.Amsterdam. 1980, c.55
- Pragmatic of natural language. Dordrecht Boston, 1971.
- Richards L.A. The philosophy of rhetoric. N. V, 1965.