Цифровые криптозаписи, применяемые вместо денег
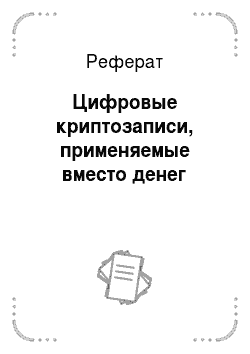
Одним из заметных императивно-властных явлений в этой связи стала попытка Министерства финансов Российской Федерации представить в 2018 г. на суд общественности первый федеральный закон для правового обеспечения цифровой экономики. Роль Минфина в законотворческой деятельности весьма высока, его законопроекты на развитие налогового потенциала и инвестиций и на федеральном, и на субфедеральном… Читать ещё >
Цифровые криптозаписи, применяемые вместо денег (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В течение последних примерно 10 лет информационно-коммуникационная сеть Интернет все шире используется физическими лицами в качестве среды, в которой люди организуют свои сообщества по интересам, они получили свое характерное название — социальные сети. Наиболее важными качественными свойствами отношений в сети Интернет в целом и в социальных сетях в частности является их частный (децентрализованный) характер, возможность анонимного общения, свобода входа в коммуникации и выхода из них. Интернет представляет собой миллиарды соединенных друг с другом компьютеров, в которые по кабелям подается изображение на их мониторы. Данное изображение может быть как с текстовым, так и с фото, видео содержанием, причем сопровождаемым звуком. Чтобы подобный контент получать на свой компьютер, субъекту необходимо отыскивать в сети Интернет те или иные сайты, за плату или бесплатно входить на них и получать для себя изображение необходимого содержания.
Интернет позволяет дистанционно покупать товары, включая услуги по их доставке потребителю, кредитные организации предоставляют дистанционное банковское обслуживание. Практически все банковские расчеты и платежи можно осуществлять через интернет-банкинг. Наряду с коммерческими банками проведение расчетов в России осуществляют небанки: QIWI; Яндекс Деньги; PayPal; Web Money; RBK Money; Rapida; Деньги@тай.ги; Лидер; ROBOKASSA; Портмоне и др. В 2008; 2009 гг. в Интернете появилась особая расчетная система, в которой группой программистов были запрограммированы частные расчетные инструменты, которыми участники данной группы могли бы расплачиваться между собой за те или иные товары и услуги, включая возможность обменять их на настоящие деньги. Указанная расчетная система предусматривает объединение в сеть множества электронных кошельков, открытие которых возможно только при помощи индивидуальных логинов и паролей, движение информации по каналам связи в данной расчетной системе происходит исключительно в зашифрованном виде, поэтому возникла так называемая криптосфера, одновременно и расчетные цифровые криптозаписи.
Некоторые государства активно приступили к правовой регламентации оборота цифровых криптозаписей. Отдельные политики видят в этом первые ростки новой — цифровой экономики.
XXI в., однако никакого отношения данный децентрализованный оборот частных цифровых криптозаписей внутри добровольно сформированной группы людей к цифровой экономике не имеет. Так, в июне 2017 г. на Петербургском экономическом форуме Президент РФ В. В. Путин заявил, что «цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, государственного управления, коммуникаций между людьми, а следовательно задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества. При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан»[1].
Одним из заметных императивно-властных явлений в этой связи стала попытка Министерства финансов Российской Федерации представить в 2018 г. на суд общественности первый федеральный закон для правового обеспечения цифровой экономики. Роль Минфина в законотворческой деятельности весьма высока, его законопроекты на развитие налогового потенциала и инвестиций и на федеральном, и на субфедеральном уровне России должны оказывать стимулирующее влияние, тем самым Минфин реализуют свою главную функцию — осуществляет финансовую политику. Институционально финансовая политика, будучи императивно-властной формой государственного регулирования общественных отношений, базируется на научно-обоснованной концепции роста экономики страны. Все решения в сфере финансовой политики осуществляются в реальной практике путем неукоснительного исполнения нормативных предписаний финансовых органов как на уровне регионов, так и на уровне муниципальных образований, как правило, такие решения касаются деятельности каждой организации, каждого отдельного человека.
Глубоко проработанные, научно обоснованные императивные решения финансовых властей оказывают весьма заметное влияние на повышение инвестиционной активности и налогового потенциала регионов России. К числу таких императивов, безусловно, относятся законопроекты, которые вносит отечественному законодателю Минфин России. Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» был опубликован Министерством финансов Российской Федерации в январе 2018 года 5И. Тем самым еще в 2017 г. анонсированная как жестко-консервативная позиция относительно «цифровых финансовых активов» федерального органа исполнительной власти в финансовой сфере наконецто публично представлена.
Исходя из названия проектируемого нормативного акта видно, что, по мнению юристов, разрабатывавших текст законопроекта, в РФ существуют устойчивые общественные отношения по поводу неких активов, которые необходимо регулировать. Это необходимо прежде всего в фискальных интересах самого государства, декларативно еще и с целью защиты прав участников этих отношений. В понимании Минфина России эти новоявленные активы XXI в. имеют 2 особенных качества, вопервых, это цифровые активы, во-вторых, эти же активы одновременно и финансовые.
Изначально следует иметь в виду, что данные цифровые объекты (мы полагаем, что нет оснований их называть активами) люди никогда не смогут осязать, как материальные вещи, человек может видеть данные цифровые объекты только на экране монитора компьютера в виде цифр (огромных чисел) внутри специальных таблиц (реестров). На первый взгляд, опираясь на нормативные акты самого Минфина России, можно попытаться с относительно небольшой натяжкой рассматривать эти особые объекты как нематериальные активы юридического лица. В п. 3 Положения Минфина России раскрыты 7 признаков признания актива нематериальным активом юридического лица, которое учитывает их на своем балансе. В трак-[2]
товке Положения Минфина России нематериальный актив представляет собой объект[3]:
- — имеющий перспективы экономической выгоды;
- — приносящий выгоду юридическому лицу, которому принадлежит;
- — дискретный, отделимый от других объектов;
- — будет использоваться юридическим лицом более 1 года;
- — не предназначен для перепродажи в течение 1 года;
- — имеет зафиксированную первоначальную цену приобретения;
- — не имеет материально-вещественной формы.
Мы полагаем, что амортизация цифровых объектов невозможна, следовательно в этой части отнесение указанных цифровых объектов к нематериальным активам юридического лица недопустимо. Кроме того, мы убеждены, что любой актив является активом лишь тогда, когда представляет собой позитивное общественное благо, предназначенное для удовлетворения законных, насущных и нравственно допустимых человеческих потребностей в настоящий момент либо в определенный срок в будущем. Сразу уточним здесь, что операции с цифровыми объектами анонимно осуществляют обыкновенные люди по всему миру, используя персональные компьютеры, и никакой необходимости ведения этих операций под маской юридического лица с его громоздкой правовой конструкцией нет.
Если для юридических лиц цифровые объекты можно хотя бы гипотетически сравнить с нормативно урегулированными нематериальными активами, то правовое регулирование отношений принадлежности цифровых объектов физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, в 2018 г. пока отсутствует полностью.
Первое уникальное качество активов, упомянутое в названии проекта федерального закона — цифровое — следует понимать совершенно буквально. Такой актив XXI в. представляет собой запись цифрами огромного числа, например — 3 527 831 173 461 904 258 952 488 570 063 394 246 563 186 348 432 830 758 912 8 400 791 312 963 933 839 556 608 в специальной базе данных. Поскольку актив — это в конечном счете благо, некая полезность, то в этой части цифровой объект тоже может принести субъекту, которому принадлежит, экономическую выгоду. Субъект, передавая, точнее перезаписывая принадлежащие ему «цифры» в электронный кошелек другого субъекта, в обмен может получить материальное имущество, выполнение работ, оказание услуг, встречную передачу ему имущественных прав, используя те самые «цифры» в качестве средства платежа, а именно как денежный суррогат. Отметим, что уже во 2 статье проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах» предложено закрепить норму о том, что «цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации».
Второе неуникальное качество активов, упомянутое в названии проекта федерального закона, — финансовое. По нашему мнению, юристы Минфина России необоснованно включили эту качественную характеристику в название создаваемого федерального закона. Финансовые активы или финансовые вложения юридического лица регулируются, например, Положением Минфина России ПБУ 19/02. В п. 2 Положения Минфина России ПБУ 19/02 раскрыты 3 признака признания актива финансовым вложением для юридического лица, которое учитывает их на своем балансе. В трактовке Положения Минфина России ПБУ 19/02 финансовый актив представляет собой объект[4]:
- — на который надлежаще оформлены документы, подтверждающие право юридического лица на финансовое вложение и на получение от должника денежных средств или других активов, которое это право закрепляет;
- — с приобретением которого юридическое лицо подвергает себя финансовым рискам, связанным с финансовым вложением, в частности, риску изменения цены актива, риску неплатежеспособности должника;
- — имеющий перспективы экономической выгоды — получения юридическим лицом в будущем процентов, дивидендов либо прироста стоимости, в частности, в виде разницы между ценой продажи (погашения должником) финансового вложения и его покупной ценой в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения его текущей цены на рынке.
В п. 3 Положения Минфина России ПБУ 19/02 установлено, что к финансовым вложениям юридического лица относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки требования. Указанный перечень финансовых активов не является исчерпывающим. При этом в п. 4 Положения Минфина России ПБУ 19/02 четко регламентируется, что активы, имеющие материально-вещественную форму (основные средства, материально-производственные запасы, а также нематериальные активы), не являются финансовыми вложениями[5].
Аналогично, если для юридических лиц цифровые объекты можно хотя бы сравнить с нормативно урегулированными финансовыми вложениями, то правовое регулирование отношений по вложениям в цифровые объекты физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в 2018 г. отсутствует полностью. Повторно отметим, что для операций с шифрами юридические лица не нужны.
Финансовое качество актива (вложения) всегда подразумевает денежную ликвидность объекта владения, а именно его способность быстро превратиться в валюту — деньги в наличной форме (банкноты) и/или в безналичной форме (записи сумм денег на счетах в кредитных организациях). Финансовый актив — это материальное благо на будущее, для его получения субъектом в рамках конкретной сделки, то есть им предварительно были вложены деньги в какой-то объект в определенной сумме. Отчуждая через некоторый промежуток времени свой финансовый актив, субъект выручает сумму денег больше той, которая была вложена предварительно. При таком позитивном развитии событий богатство субъекта увеличивается, и его измерение осуществляется заново, но в пересчете опять же на деньги.
Рассматривая упомянутое выше нормативное регулирование финансового актива из Положения Минфина России ПБУ 19/02, мы приходим к мнению о том, что цифровые объекты не могут быть отнесены к финансовым активам. Прежде всего, потому что отсутствует базовый правовой признак: у субъекта, который приобретает цифровые объекты за настоящие деньги, не возникает никаких документов, которые подтверждали бы фиксацию права на получение от конкретного должника денежных средств, не возникает и само право, поскольку конкретный должник не существует, правоотношение надлежащим образом не выстраивается.
Как показано выше, к основным понятиям, используемым в проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах», относится, в частности, «цифровой финансовый актив». По мнению юристов Минфина России, это имущество в электронной форме. Такое имущество создается с использованием шифровальных программных средств на компьютере любым субъектом по его воле и в его интересах. Права собственности субъектов на эти шифры удостоверяются путем внесения записей (тоже цифровых) в специальную базу данных.
В проекте федерального закона предусмотрены 2 варианта указанных шифров: «криптовалюта» и «тукен». Следовательно, согласно законопроекту правовая природа цифровых объектов такова: это большие числа, длинные наборы арабских цифр с функционалом шифра. Какое же позитивное общественное благо для удовлетворения законных, насущных и нравственно допустимых человеческих потребностей представляют собой имеющиеся в проекте федерального закона цифровые объекты? Кто генерирует спрос на шифры, кто обеспечивает их предложение?
Терминологически «криптовалюта» в проекте закона — недопустимый нонсенс. «Крипто» — это шифрование. Следовательно тождественным будет термин — «шифровалюта». Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в ст. 1 устанавливает, что валюта — это, во-первых, валюта РФ[6]:
- а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
- б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах.
Во-вторых, это еще и иностранная валюта:
- а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
- б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
Исходя из норм, содержащихся в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле», цифровые объекты-шифры никаких государственных привязок не имеют вообще, ни на каких банковских счетах не находятся, называть их валютой — безграмотно и противозаконно. Удивление вызывает дефиниция криптовалюты в проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах», в переводе на русский юридический — это вид шифра, создаваемый и учитываемый в некоем реестре операций с шифрами, причем не каким-то государством, как подобает реальной валюте, а участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра операций с шифрами. Еще более невнятной выглядит трактовка самих участников реестра — это любые лица, осуществляющие операции с шифрами в соответствии с правилами ведения реестра операций с шифрами. Как видим, в ответ на наши вопросы, поставленные выше, есть ответ — именно и только сами участники (любые лица), имеющие шифры, предлагают их за деньги, а другие участники шифроопераций (тоже любые лица) исключительно в своих интересах и по своей воле имеют спрос и платят деньги за них. Упомянутые правила ведения реестра операций с шифрами — кем составлены, кем утверждены, где опубликованы — неясно, все это оставлено без малейшего внимания в проекте федерального закона.
Следует отдельно указать, что, по мнению юристов, разрабатывавших текст проекта закона, все шифрооперации происходят словно в вакууме, ни к какому пространству, времени и конкретному кругу лиц проектируемые нормы не относятся. В то же время реально все шифрооперации происходят с применением компьютеров и специальных компьютерных программ, с обязательным подключением к хорошо всем известной информационно-коммуникационной сети Интернет. Но мы сталкиваемся в проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах» с инновацией в законотворчестве — регулирование, образно выражаясь, парит над общественными отношениями: «Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении шифров…», где, между кем и кем — не имеет значения для Минфина России.
Как отмечено выше, первую разновидность цифровых объектов из проекта федерального закона, безграмотно и против права названную «криптовалюта», можно понимать как шифроплатежный инструмент (денежный суррогат). Мы допускаем в этой связи употребление нашего термина — расчетная цифровая криптозапись. В судебной практике встречается позиция отнесения расчетных цифровых криптозаписей к электронным денежным средствам (дела № А13−3814/2016, № А41−94 274/2015, др.). Так, например, Арбитражный суд Вологодской области в своем Определении от 15 августа 2016 г. по делу № А13−15 648/2015 указал: «К электронным денежным средствам относятся, например: PayPal, Яндекс. деньги, Деньги@таП.ги, Webmoney, QIWI, а также различные криптовалюты: Bitcoin, Litecoin»[7].
Есть и противоположный подход в отечественной судебной практике, который полностью совпадает с нашей позицией. В деле № А40−124 668/17−71 -160Ф (Арбитражный суд города Москвы) финансовый управляющий, выявив некий актив «содержимого криптокошелька», со слов должника ему принадлежащий, меры к самостоятельному формированию конкурсной массы не принял в силу специфики объекта, обратился в суд с ходатайством о включении содержимого криптокошелька в конкурсную массу должника, фактически заявил об имеющихся разногласиях с должником, требующих судебного разбирательства. Как следует из материалов дела, гражданин — должник И. И. Царьков обладает доступом к криптокошельку, находящемуся в сети Интернет по адресу www.blockchain.info с идентификатором хххххххх-хххх-хххх-хххх-151 ddb832 f52 веб-страницы, открывающимся в результате совершения определенных действий и имеющим следующее наименование «Bitcoin Wallet — Blockchain», содержат информацию «Total Balance / 0,19 877 321 BTC RUB 125 014,59 0 ETH RUB 0,00 0 BCH RUB 0,00»[8].
Согласно Условиям предоставления и использования услуг от 16 августа 2017 г. сайт в сети Интернет www.blockchain.info и предоставленные на нем услуги принадлежат компании «Blockchain Luxembourg S.A.». Согласно п. 9.2 Условий при создании кошелька присваивается идентификатор, который пользователь обязан хранить для доступа к своему кошельку. Согласно п. 10.5 Условий виртуальная валюта представляет собой нематериальный, цифровой актив. Она существует только в силу регистрации собственности в собственной сети виртуальных валют. Услуги не обеспечивают хранения, отправки или получения виртуальной валюты. Любой переход права собственности, который может происходить в любой виртуальной валюте, осуществляется в децентрализованном реестре в сети виртуальных валют, но не в самих услугах. Сайт не гарантирует, что услуги могут повлиять на переход права собственности или иных прав на виртуальную валюту. Согласно п. 11.1 Условий кошелек создается бесплатно. В настоящее время компания «Blockchain» не взимает платы за услуги, однако компания оставляет за собой право ввести такую плату в будущем[9].
Финансовый управляющий полагает, что криптовалюта является имуществом гражданина-должника И. И. Царькова и подлежит включению в конкурсную массу должника. Суд, отказывая в удовлетворении требований финансового управляющего, исходил из следующего. На момент судебного заседания является криптовалюта деньгами как таковыми или же это денежный суррогат, следует считать криптовалюту имуществом, фидуциарными (фиатными) деньгами, электронными деньгами, валютой, финансовым инструментом или ценными бумагами. Понятие и правовая природа криптовалюты в законодательстве Российской Федерации не определены, соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года. Однако принципиальной чертой, отличающей криптоденьги от денег как таковых, является способ их возникновения в цифровом пространстве. Так, реальные платежные средства требуется вначале внести на определенный счет или электронный кошелек, а криптовалютные единицы появляются уже в электронном виде. «Выпуск» цифровых денег происходит различными способами: это ICO (первичное размещение монет, система инвестирования), майнинг (поддержание специальной платформы для создания новых криптоденег), форжинг (образование новых блоков в уже имеющихся криптовалютах). То есть криптовалюта возникает буквально «из интернета». Обращение такой валюты происходит по системе «блокчейна». Эта система представляет собой распределенную по миллионам персональных компьютеров во всем мире базу данных. При этом хранение и запись информации при обращении криптоденег происходит на всех устройствах сразу, что гарантирует абсолютную прозрачность и открытость производимых транзакций[10].
Можно прийти к выводу, что криптовалюта представляет собой некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе, при этом доступ к информационной системе осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием специального программного обеспечения. Поскольку в настоящее время понятие криптовалюты действующим законодательством Российской Федерации не определено, не установлены специальные требования к порядку ее обращения, правовой статус криптовалют не определен, существо отношений, связанных с оборотом криптовалют не позволяет применить к криптовалютам по аналогии нормы, регулирующие сходные отношения. Поскольку в законодательстве отсутствует понятие криптовалюта, невозможно однозначно определить к какой категории оно относится: «имущество», «актив», «информация», «суррогат»[11].
Отсутствие в системах криптовалют контролирующего центра влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной транзакции, а фактическое нахождение криптовалют вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки (Информационное сообщение Росфинмониторинга, размещенное на официальном сайте www.fedsfm.ru). При этом криптовалюты в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность. Исходя из прямого толкования норм права «криптовалюта» не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля на территории Российской Федерации, исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства. Отсутствие в системе криптовалюты контролирующего центра, анонимность пользователей криптовалют не позволяет установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, находящемся в сети Интернет по конкретному адресу определенному лицу[9].
Проанализированные нами судебные решения связаны с формированием конкурсной массы должников — физических лиц в процессах их признания банкротами. Если на законодательном уровне будет закреплено, что упомянутые в этих судебных процессах расчетные цифровые криптозаписи — это имущество в электронной форме, конечно, такое имущество подлежит включению в конкурсную массу, поскольку не входит в перечень исключений.
- [1] Латухина К. Цифра и факты. URL: https://rg.ru/ 2017/06/04/reg-szfo/vladimir-putin-vncdrit-cifrovye-tchnologii-vo-vse-sfery-zhizni.html.
- [2] Российская Федерация. Федеральный закон «О цифровых финансовыхактивах» (Проект) // URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/main/Zakonoproekt_o_TSFA_250 118_na_sayt.docx.
- [3] Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ14/2007) (утверждено приказом Минфина России от27.12.2007 г. № 153н, с изменениями от 25.10.2010 г. № 132н, от 24.12.2010 г. № 186н, от 16.05.2016 г. № 64н). URL: https://www.minfm.ru/ru/perfomance/ ac-counting/accounting/legislation/positions.
- [4] Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений"ПБУ 19/02 (утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н сизменениями, внесенными приказами Минфина России от 18.09.2006 г. № 116н, от 27.11.2006 г. № 156н, от 25.10.2010 г. № 132н, от 08.11.2010 г. № 144н, от27.04.2012 г. № 55н, от 06.04.2015 г. № 57н). URL: https://www.minfm.ru/ru/perfomance/accounting/ accounting/legislation/posi-tions.
- [5] Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений"ПБУ 19/02 …
- [6] Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.)"О валютном регулировании и валютном контроле» // Российская газета.17.12.2003. № 253.
- [7] Арбитражный суд Вологодской области // Определение АС Вологодской области от 15.08.2016 г. по делу № А13−15 648/2015. URL: http://vologda.arbitr.ru (дата обращения: 17.04.2018).
- [8] Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 г. по делу№ А40−124 668/17−71−160Ф. Доступ из справ.-правовой системы «КонсупьтантПлюс».
- [9] Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 г. по делу№ А40−124 668/17−71−160Ф. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
- [10] Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 г. по делу№ А40−124 668/17−71−160Ф.
- [11] Там же.
- [12] Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 г. по делу№ А40−124 668/17−71−160Ф. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».