Лекция 13 ЛИТЕРАТУРА (УТОПИЗМ И РОМАНТИЗМ)
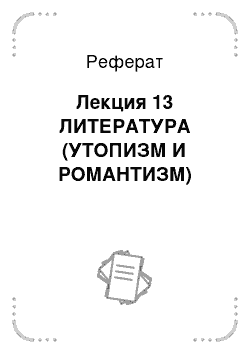
Россия между тем жила ожиданием падения огромной кометы. Однако, к удивлению путешественника, нигде не видно было ни тревоги, ни волнения. Все знали, что она будет уничтожена на подходе к Земле снарядами и ждали от ученых точных вычислений, на какой пункт комета устремится. Путешественник опять «со стыдом» вспоминает о состоянии своего отечества, находя утешение лишь в том, что китайцы — «народ… Читать ещё >
Лекция 13 ЛИТЕРАТУРА (УТОПИЗМ И РОМАНТИЗМ) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
- 1. ‘Положительный идеал 6 сатире. Второй формой сатирического отношения к действительности, причем именно с упором на создание положительного идеала, явилась литературная утопия. В ней фиксируется тот идеальный полюс миропредставления, который противостоит царству обмана и насилия, обличаемого в сатире. Будущее, как правило, прозревается во сне; таковы произведения «Сон. Счастливое общество» А. П. Сумарокова (1717−1777), «Каиб» И. А. Крылова (1769−1844), «сонные главы» в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1749−1802), «Что делать?» Н. Г. Чернышевского (1828−1889) и т. д. Их «мечтательные страны» благоденствуют под сенью разумных законов, и люди там «не имеют… ни благородства, ни подлородства, и преимуществуют по чинам, данным им по их достоинствам; и столько же права крестьянский имеет сын быть великим господином, сколько сын первого вельможи»[1].
- 2. ‘Утопия ‘Радищва. В утопических «снах» нередко всплывал и образ самодержца, монарха. В радищевском «Путешествии» он восседает на троне в окружении государственных чинов, слушая их угодливые славословия. Услаждаясь ими, он возвышается в душе своей «над обыкновенным кругом зрения», достигая «степеней божественной премудрости». Самое его любимое занятие — «раздавание приказаний». Вот он главному военачальнику повелевает «идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от него отделенной». Флотоводцу приказывает направить все свои корабли «по всем морям, да узрят их неведомые народы». Хранителя законов обязывает, чтобы в день его рождения отверзались темницы и отпускались на волю все преступники. Зодчий получает задание воздвигнуть «великолепнейшие здания для убежища мусс».
Каждое его повеление встречалось радостными возгласами и рукоплесканиями. Лишь одна женщина смотрела на происходящее с презрением и негодованием. Царь пожелал узнать, кто она. Ему сказали: «Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священный твоея главы». Как ни велико было негодование царя, он все же нисходит до беседы с ней. Прямовзора говорит ему: «Я — врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое». Из дальнейшей беседы выяснилось, что на обоих глазах царя были бельма, скрывавшие от него истину. Когда с ее помощью царь прозрел, ему представились следующие картины. Военачальник, посланный на завоевание новых земель, утопал в роскоши и веселии, даже не думая о начале похода. Флотоводец также «у поя лея негою и любовию в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия», а корабли были оставлены «плавающими при устье пристанища». В это время его подчиненные изготовляли чертежи «совершенного в мечтании плавания», в которых «уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие». То же творилось и с другими его приказаниями: хранитель законов торговал милосердием правителя, отпуская тех преступников, которые давали больше денег, а зодчий превратил свое ремесло в «одно расточение государственный казны». «Видя во всем толикую превратность», царь «возревел… яростию гнева», но тут же пробудился'.
Намек Радищева был более чем понятен: не самодержавие, но закон есть «образ Божий на земли»2. Стражи же закона суть истина и правосудие. Эта идея в виде «проекта будущего» развивается Радищевым в главе «Хотилов», наиболее радикальной, но своей направленности и содержанию части «Путешествия»4. От нее тянется нить социалистической пропаганды в русской литературной утопии XIX в.
3. «Офирскря земля». Помимо «снов», утопия воплощалась в форме «путешествий». Одно из них — «Путешествие в землю Офирскую» М. М. Щербатова (1733— 1790), историка и писателя екатерининской эпохи.
Произведение Щербатова написано от имени некоего «г-на С…, швецкаго дворянина». В сопровождении некоего Агиба он путешествует по стране, где все так напоминает Россию, только Россию будущего, а не настоящего. В наименованиях офирских городов, рек и князей легко узнаваемы русские имена: Квамо соответствует Москве, Перегаб и пересекающая его река — Петербургу и Неве, Габиновина означает Новгород, Евки — Киев, Био — Обь, Голва — Волгу, Перега — это Петр I, Кастар, или Аракитея, — Екатерина II и т. д. Щербатов упоминает в качестве соседа офирианцев Палис — т. е. Польшу, коротко рассказав о хаосе в этой стране. Офир разделен на 15 областей. Их названия —[2]
тоже легко соотносимые с русскими реалиями анаграммы. Кроме того, прошлое Офирского государства напоминает современную автору Россию, что позволяет ему критиковать существующие российские порядки.
В особенности Щербатова не устраивало то, что Перега (Петр I) перенес столицу в Перегаб — город, полностью изолированный от всей страны, построенный «против природы вещей». Это противоестественное положение столицы вызвало многие беды: во-первых, отделило сановников, живущих теперь при дворе, от их поместий, вследствие чего они стали без зазрения совести грабить своих крестьян, с которыми потеряли связь; во-вторых, правители перестали обращать внимание на внутреннее положение страны, до их ушей не доходил больше глас народа; в-третьих, расположение столицы на вражеской границе довело народ до крайности, и участились бунты. Но если в России ситуация не изменилась, то в Офире «неразумное» решение было отменено «мудрым» и «великим князем» Сабаколой, снова вернувшим Квамо статус столицы. Это произошло 1700 лет назад, и с тех пор офиряне живут в мире и благоденствии, охраняемые «неизменными» законами.
Недовольство Щербатова вызывала и политика градостроения, проводившаяся Петром I и Екатериной II. Генеральный губернатор в беседе с путешественником «с великой мудростью» заявляет, что «власть монарша не соделывает города, но физическое или политическое положение мест, или особливые обстоятельства», такие, например, как необходимость сосредоточения центров торговли или «мастерства и рукоделия». Во всех остальных случаях градостроение, утверждал далее губернатор Перегаба, ведет только к повреждению нравов, ибо «переименованные земледельцы в мещане, отставая от их главного промысла, развращаясь нравами, впадая в обманчивость и оставляя земледелие, более вреда нежели пользы государству приносят». Благо же государства соделывает исключительно «сельская жизнь, воздержанность и трудолюбие». Такова офирская триединая формула морали, поддерживаемая всей системой офирской власти.
Наконец, критика Щербатова затрагивала внешнюю политику России, конкретнее — захватнические войны, которые она вела. Путешественник приводит слова легендарного героя Бомбей-Горы, который воспротивился намерению некоего офирского князя покорить соседние государства: «Не расширение областей, — говорил он, — составляет силу царств, но многонародие и доброе внутреннее управление. Еще много у нас мест не заселенных, еще во многих местах земля ожидает труда человеческого, чтобы сторичный плод принести; еще у нас есть подвластные народы, требующие привести их в лучшее состояние, то не лучше ли исправить сии внутренности, нежели безнужною войною подвергать народ гибели и желать покорить или страны пустыя, которые трудно будет и охранять, или народы, отличные во всем от нас, которые и чрез несколько сот лет не приимут духа отечественнаго Офирской империи и будут под именем подданных тайные нам враги».
Несомненно, стрела метила в императрицу «немецких кровей» — Екатерину И, которая всегда считала своим приоритетом военную политику, интенсивное расширение российской державы. Не терпя вообще никакой критики, она незадолго до смерти гшсателя-утописта повелела наложить арест на рукопись Щербатова, остававшийся в силе более полутораста лет.
Чем же интересна Офирская земля? Почему она взята образцом подражания для России? По мнению Щербатова, «если чем она достойна примечания — сие есть: мудрым учрежденным правлением, в коем власть государская соображается с пользою народною, вель;
можи имеют право со всею приличною смелостию мысли свои монарху представлять, ласкательство прогнано от царского двора, и истина имеет в оный невозбранный вход; в коем законы соделаны общим народным согласием и еще беспрестанным наблюдением и исправлением в лучшее состояние приходят; правительств немного и немногочисленно, но и дел мало, ибо внушенная издетства в каждаго добродетель и зачатия их не допускает; в коем вельможи не пышные, не сластолюбивые, искусные, трудолюбивые, похвальное честолюбие имеют соделать счастливыми подчиненных им людей; остаток же народа, трудолюбивый и добросовестный, чтит, во-первых, добродетель, потом закон, а после царя и вельмож". Щербатовский путешественник убежден, что офирцам вполне могли бы подражать не только россияне, но и «называющие себя просвещенными европейские народы"'.
4. ‘Видения китайского студента. Иностранцем является и вымышленный рассказчик утопической повести В. Ф. Одоевского (1803−1869) «4338-й год», китайский студент Ипполит Цунгиев, путешествующий по России. Всюду он видит небывалые технические чудеса. Сперва он едет на электроходе, великолепно освещенном гальваническими фонарями, затем садится на гальваностат — воздушный корабль, которым управляет «особый профессор». Это вызывает у него затаенный вздох относительно технических возможностей собственной страны: «Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом; несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством».[3]
Проходит немного времени, и путешественник оказывается «в центре русского полушария и всемирного просвещения» — громадной столице России. «Что за город, любезный товарищ! — сообщает он своему корреспонденту. — Что за великолепие! Что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой соответственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью». Так Одоевский по-своему решил спор о двух столицах, возбужденный Щербатовым.
Россия между тем жила ожиданием падения огромной кометы. Однако, к удивлению путешественника, нигде не видно было ни тревоги, ни волнения. Все знали, что она будет уничтожена на подходе к Земле снарядами и ждали от ученых точных вычислений, на какой пункт комета устремится. Путешественник опять «со стыдом» вспоминает о состоянии своего отечества, находя утешение лишь в том, что китайцы — «народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями». Он верит, что начатая у них лет 500 назад «великим Хун-Чином» реформа пробудит «наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя» и введет его «в общее семейство образованных народов». Не будь этого, замечает путешествующий студент, «мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев, которые, за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско»[4].
В состоянии упадка находится и Европа. От великой некогда культуры «дейчеров» (т. е. немцев) сохранилось лишь несколько отрывков из сочинений почти никому уже неизвестного поэта Гете.
В утопии Одоевского возвещена мечта о великом будущем России, ее процветании и славе. Он верит, что только просвещение способно обеспечить подлинный прогресс и претворить в жизнь идеалы гармонии и счастья. Развитие ожидает также Китай. Но эта страна — в орбите культурных влияний России, ее вековых достижений и опыта. Таким рисовался мир в сорок четвертом столетии воображению русского писателя XIX в.
5. ‘РоМанттеское направление. На почве сатиры складывается и идеология романтизма. Его отличает от утопии мотив мировой скорби, пессимизма. Романтизм — это всегда уход в субъективность, в мир грез, фантазии, мечты. Гегель, характеризуя это миросозерцание, писал: «Бесконечную ценность обретает теперь действительный отдельный субъект в его внутренней жизненности, так как лишь в нем распространяются и сосредоточиваются, получая существование, вечные моменты абсолютной истины, которая действительна только как дух»1. Романтизм возрос на принципах философии Руссо и Шеллинга; зачинателями этого движения на Западе были А. Шлегель, Ф. Новалис, Ф. Шлейермахер, Л. Тик и др.
«Отец» русского романтизма — В. А. Жуковский (1783 1852), гениальный поэт, совершенно свободный в своем творчестве от всяких привязанностей к реальной событийности, эмпирике. Свое видение мира он сравнивал с ощущениями слепого, который восполняет отсутствие зрения воображением. Создаваемый им таким образом «язык есть выражение внутренней жизни и отношений к внешнему». «Здесь торжествует душа», — подчеркивал Жуковский.
Поэзия Жуковского — вся тайна; в ней сказочность заменяет реальность. В его стихах, балладах «как бы улетучена действительность'4, и человек остается наедине с самим собой, со своими томлениями, страхами и печалями. Его сознание расколото, он весь погружен в стихию двоемирия, и земное здесь является лишь необходимым этапом к идеальному там. Но там — смерть, забвение; там — вечный, беспробудный сон. В элегии «Сельское кладбище» сказано:
На всех ярится смерть — царя, любимца славы, Всех ищет грозная… и некогда найдет;
Всемошныя судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко гробу нас ведет1'.
Именно временность, случайность пребывания в мире отчуждает человека от привязанности к реальному. Романтический герой не видит ни предметов, ни явлений, ни форм; он обращен к действительности только внутренним зрением, которое безмолвно и невыразимо. Перед ним мир «призраков», символов, и ему не остается ничего другого, как гадать, высказывать предположения, сомневаться… Тема эта блестяще освещена в одном из «самых характеристических», по признанию Белинского, стихотворений Жуковского, которое называется «Таинственный посетитель»:
Кто ты, призрак, гость прекрасной?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье В поднебесную с небес?[5][6]
Далее поэт пытается угадать, постичь смысл призрака, допуская самые разные ответы и толкования.
Не Надежда ль ты младая, Приходящая порой Из неведомого края Под волшебной пеленой?
Не Любовь ли нам собою Тайно ты изобразил?..
Не волшебница ли Дума Здесь в тебе явилась нам?
Иль в тебе сама святая Здесь Поэзия была?..
Иль Предчувствие сходило К нам во образе твоем И понятно говорило О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
Кто-то светлый к нам летит, Подымает покрывало И в далекое манит[7].
Вопрошания Жуковского вовсе не имеют в виду достижение истины. Да это и невозможно, ибо в самом разнообразии допущений кроется неотвратимость заблуждения. Самое большее, на что может рассчитывать романтическая пытливость, это самоутверждение личности в качестве некой единственной медиумической инстанции, приемлющей токи вечности и красоты.
От Жуковского тянется все направление русской романтической поэзии XIX в., начиная с К. Н. Батюшкова, раннего А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и кончая Ф. И. Тютчевым и А. А. Фетом.
6. Фсгная Женственность поэта-философа. Особенно близок к Жуковскому В. С. Соловьев (1853 -1900), который вообще считал творчество поэта-романтика «началом истинно человеческой поэзии в России»[8]. В его видениях «духовные призраки» Жуковского превратились в образ Вечной Женственности, нетленное «сиянье Божества». Об этом говорится в поэме Соловьева «Три свидания»:
Не трижды ль ты далась живому взгляду — Не мысленным движением, о нет! — В предвестие, иль в помощь, иль в награду На зов души твой образ был ответ.
Сперва «награда вечная» явилась Соловьеву в детстве, потом, через много лет, в осеннем Лондоне; и там же был ему «голос»: «В Египте будь!» Так он очутился в пустыне, один, ночью, без проводника:
И долго я лежал в дремоте жуткой, И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!».
И я уснул; когда ж проснулся чутко, — Дышали розами земля и неба круг.
И в пурпуре небесного блистанья Очами, полными лазурного огня, Глядела ты, как первое свиданье Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет вовеки — Все обнял тут один недвижный взор…
Синеют подо мной моря и реки И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было — Один лишь образ женской красоты…
Безмерное в его размер входило, — Передо мной, во мне — одна лишь ты.
О лучезарная! тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал…
В душе моей те розы не завянут, Куда бы не умчал житейский вал[9].
Как видно, романтическое сознание скудно и апофатично; в нем нет достоверности и полноты, которыми отмечено объективированное миросозерцание. Оно живет саморефлексией ума, оторванного от реальности, а потому не видит для себя никакой верифицируемой перспективы. Здесь субъективность не предполагает индивидуализацию личностей, наделение их салютными чертами; напротив, в романтизме человеческие качества сливаются в отвлеченной духовности, приводящей к снятию реального разнообразия характеров, душ. Отсюда и глубокое противоречие романтического метода: «герой романтика — единичный человек, но он в то же время всякий любой человек в потенции, он — то единичное, что есть в глубине души всех людей»2. Вот почему поэты-романтики подчас так похожи, так неразличимы друг от друга: они плавают в беспредметном хаосе воздушного океана, без руля и без ветрил, подчиняясь лишь своим внутренним импульсам, обедненным оторванностью от мира. Их идеал — красота, очищенная от примеси «вещества»:
Не веруя обманчивому миру, Под грубою корою вещества Я осязал нетленную порфиру И узнавал сиянье Божества…*.
7. Символизм. Все эти черты перенял от романтизма его младший брат — символизм рубежа XIX—XX вв.
В поэзии его лучших представителей -К. Д. Бальмонта (1867−1942), II. Ф. Анненского (1855−1909), В. Я. Брюсова (1873−1924), 3. Н. Гиппиус (1869−1945) и др. не только нарастает мотив отрешенности от действительности и томления по небесной красоте, но и усиливается тяготение к религии, мистике, оккультизму.
Бальмонт, не умея и не желая «жить… настоящим», устремляется «за пределы предельного, к безднам светлой Безбрежности», туда, где нет больше «грани тесной», «к неизвестной Красоте». И Красота эта — Христос.
Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады, И не влюбленная мечта, Не гор тяжелые громады, И не моря, не водопады, Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота — Любви, печали, отреченья И добровольного мученья За нас распятого Христа[10].
У Брюсова на всем лежит печать экзальтированной «яйности»: он «желал бы рекой извиваться», «раскатиться дорогой веселой», но боится,.
… что в соленом просторе — Только сон, только сон бытия!
Я хочу и по смерти и в море Сознавать свое вольное «я»!2
То же и у Зинаиды Гиппиус:
Смеется хаос, зовет безокий:
Умрешь в оковах, — порви, порви!
Ты знаешь счастье, ты одинокий, В свободе счастье, — и в Нелюбви[10].
Таким образом, и романтизм, и символизм устремлены к одной цели — освобождению сознания от законов необходимости, которыми управляется реальный мир, мир осязания и познания. «Но не в познании — „я“ подлинное», — замечает Андрей Белый. И далее он так характеризует сущность романтическо-символического искусства: «Художник не хочет видеть окружающего, потому что в душе его поет голос вечного; но голос — без слова, он — хаос души. Для художника хаос этот — „родимый“ хаос; в закономерности природы видит он свою смерть, там, в природе видимости — подстерегает его злой рок. Из глубины бессознательного закрывается он от природы завесой фантазии; создает причудливые образы (тени), не встречаемые в природе. Миром фантазии огораживается он от мира бытия»[12]. Конечно, им движет при этом чувство вражды, неприятия реальной жизни, т. е., собственно, сатирическое мироотношение.
- [1] Сумароков Л. /7. Сон. Счастливое общество /7 Русская сатирическая проза XVIII века. Л., 1986. С. 355.
- [2] Радищев А. //. Путешествие из Петербурга в Москву. Л. 1981.С. 37−47 (глава «Спасская Полесть»).: Там же. С. 157. Там же. С. 107−123.
- [3] Щербатов М. М. Путешествие в землю Офирскую г-на С… швеикаго дворянина // Соч. В 2 тт. Т. 1. СПб., 1896. Стлб. 796, 1005,751−752.
- [4] 2 Одоевский В. Ф. 4338-й год. Петербургские письма // Русскаяфантастическая проза. Эпоха романтизма (1820−1840 гг.). Л. 1990.С. 370. 371. 372. 373. Возможно, именно Америку имел в видуВ. Ф. Одоевский, изображая деградацию и падение целого государства. основанного на принципах утилитаризма, в своей блестящейновелле «Город без имени» (1844 г.).
- [5] Шевырев С. /7. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. М., 1853. С. 39.
- [6] Жуковским В. А. Сочинения. М., 1954. С. 6.
- [7] Там же. С. 97.
- [8] Соловьеве. М Владимир Соловьев. Жить и творческая эволюция. V!.. 1997. С. 327.
- [9] Соловьев В. С. «Неподвижно лишь солнце любви…'*: Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М. 1990.С. 118. 123.: Гуковский Г .1. Пушкин и русские романтики. М., 1995. С. 32. ?' Соловьев В С. «Неподвижно лишь солнце любви…». С. 118.
- [10] Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л., 1969. С. 81.: Брюсов В. Я. Стихотворения. М., 1990. С. 76.? Гиппиус 3. Н. Живые лица. В 2 тт. Т. I. Тбилиси, 1991. С. 95.
- [11] Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л., 1969. С. 81.: Брюсов В. Я. Стихотворения. М., 1990. С. 76.? Гиппиус 3. Н. Живые лица. В 2 тт. Т. I. Тбилиси, 1991. С. 95.
- [12] Белый Л. Символизм // Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 тт. Т. 1. М., 1994. С. 261,263. См. также: Эллис (Кобы-линскийЛ. Л.) Русские символисты. Томск, 1996.