Экзистенциальные ценности.
Теоретические проблемы философии
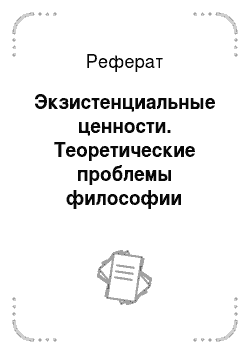
В. Давидович, несомненно, прав, когда оспаривает утверждения тех философов, которые отрицают реальность бытия человечества, признавая лишь существование различных возникающих и исчезающих «локальных цивилизаций», однако те аргументы, которые он приводит в пользу наличия единого человечества, имеют онтологический характер — единство биологической организации рода Homo sapiens, социальной формы его… Читать ещё >
Экзистенциальные ценности. Теоретические проблемы философии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Понятие «экзистенциальная ценность», употреблявшееся уже Э. Гуссерлем и Г. Марселем, встречалось затем все реже в аксиологической литературе, потому что определение смысложизненных позиций личности чаще всего приписывалось нравственному сознанию. Между тем наиболее строго мыслившие этики, например О. Дробницкий и И. Зеленкова — справедливо отмечали, что в этом разделе аксиосферы заключено гораздо более широкое, чем нравственное, содержание. Во всяком случае, М. Вебер имел все основания считать религию такой формой деятельности, которая решает «проблему смысла» человеческого бытия, а В. Франкл, обобщая предложенные до него трактовки этого явления, заключал: «Стремление к смыслу представляет собой мотив sui generis, который несводим к другим потребностям и невыводим из них». Что же касается уместности использования в данном случае эпитета «экзистенциальная», то это объясняется непосредственной связью осознания человеком смысла своей жизни с пониманием самой экзистенции как кратковременного перехода от одного состояния небытия к другому, то есть движения от рождения к смерти. Экзистенциализм не выдумал потребность нашего сознания осмыслить жизнь как движение к смерти — он лишь сформулировал на языке XX столетия проблему отношения бытия и небытия человека, которая вошла в культуру с самого начала истории человечества в мифологии, религии, искусстве.
Уже в одном из древнейших в истории культуры поэтических сказаний — в эпосе о Гильгамеше — говорилось: «Когда боги создали человека, они дали ему в удел смерть, а жизнь они сохранили для себя». Возможность преодоления смерти и становится в религиозном сознании переселением в мир богов, и, соответственно, ценность кратковременной и трудной земной жизни если и сохраняется, то в аксиологической иерархии оказывается более низкой, чем ценность потусторонней вечной жизни… В. Джемс заметил однажды: «Для огромного большинства людей белой расы религия означает прежде всего бессмертие — и, пожалуй, ничего больше. Бог есть создатель бессмертия».
Прошли тысячелетия, но вопрос о смысле жизни сохранял свою связь с основной экзистенциальной проблемой — жизни человека перед лицом смерти. И. Ильин писал: «Смерть ставит перед нами вопрос о самом главном, об основах нашего земного существования, личной жизни в целом… Она ставит нас перед основным вопросом: «ради чего ты живешь? во что веришь? чему ты служишь? в чем смысл твоей жизни?». Об этом же говорил и Ж.-П. Сартр: «выбираемый вами смысл» является вашей высшей ценностью.
О смерти как феномене культуры и важном источнике ценностных представлений о бытии и об идее бессмертия есть прекрасные исследования американского философа К. Ламонта «Иллюзия бессмертия» и французского историка культуры Ф. Арьеса, точно названное ученым «Человек перед лицом смерти», ибо именно и только «перед лицом смерти» человек способен осознать ценность своей жизни, а философская аксиология — ценность жизни вообще: как хорошо сформулировал это Б. Кузнецов: «Печаль об уходящем мгновении, о дне, о периоде и, прежде всего, об уходящей индивидуальной жизни человека — это эмоциональная сторона признания ценности и неповторимости индивидуального и локального бытия».
Но если экзистенциализм сводил экзистенцию к индивидуальному существованию как единственно реальной форме бытия субъекта и, справедливо отрицая априорность ценностей, рассматривал проблему смысла жизни как проблему онтологии и аксиологии личности, то логика проводимого мной анализа приводит к более широкой постановке проблемы: поскольку смысложизненная рефлексия, как и все другие формы ценностного сознания, не является свойством человеческой природы, абстрактно-психологически понимаемой психики, а представляет собой один из атрибутов человека как субъекта, постольку осознание этого смысла должно характеризовать субъекта во всех трех его масштабных модификациях — индивидуальной, групповой и родовой.
В самом деле, и отдельной личности, и нации (вспоминается прекрасное определение В. Белинского: «Нации суть личности человечества»), сословию, классу, полу и, наконец, всему человечеству как субъектам деятельности необходимо осознать: в чем смысл их существования и есть ли он вообще, этот смысл? Необходимо это всем модификациям субъекта деятельности потому, что — снова процитирую В. Франкла — «смысл смысла в том, что он направляет ход бытия»; при этом В. Франкл приводит прекрасные слова А. Эйнштейна: «Человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден для жизни».
Представляется вполне естественным, что основные формы ценностного сознания — религиозная, политическая, нравственная, эстетическая — стремились узурпировать каждая решение смысложизненной проблемы, дабы подчинить себе человека не внешним, директивным, а несравненно более эффективным — внутренним, ценностным — путем; отсюда такие ее решения, как «служение Богу», с уходом в монастырь как идеальным способом реализации этого выбора; или «служение революции», с соответствующим превращением ценности в практическое действие; или «служение искусству», и т. д. и т. п. Единственной альтернативой всем этим позициям является широко распространившееся в XX веке убеждение в отсутствии у жизни какого-либо смысла, в полной бессмысленности, абсурдности бытия; практическое воплощение такого убеждения — либо суицид, либо проповедь теми или иными средствами этого убеждения (сошлюсь хотя бы на широкое художественное движение, которое так и именовало себя — «театр абсурда», «сюрреализм», «фовизм»), либо превращение своего существования в погоню за всяческими удовольствиями, призванную компенсировать отсутствие общезначимого смысла жизни (впрочем, такой крайний гедонизм можно рассматривать как особое понимание смысла жизни, получающее даже в определенных социально-исторических условиях философическое обоснование, — так К. Маркс объяснял возникновение «философии наслаждения», которая «всегда была лишь остроумной фразеологией известных общественных кругов, пользовавшихся привилегией наслаждения» (например, французской аристократии предреволюционной поры).
Общая закономерность осознания каждым совокупным социальным субъектом смысла своего бытия состоит в том, что его ценностное истолкование оказывается либо утверждением обретенного данным субъектом способа существования, либо воплощением мечты о желанном, но пока недоступном бытии. Сошлюсь в этой связи еще на одно тонкое суждение К. Маркса о том, что на определенной ступени исторического развития происходит превращение «класса в-себе» в «класс для-себя», то есть вырабатывается его самосознание, одним из необходимых аспектов которого является осознание его идеологами смысла его существования в истории человечества. Могу лишь добавить, что и процесс становления нации связан с таким же процессом ее превращения из «нации в-себе» в «нацию для-себя», связанным с осознанием ее идеологами и художниками смысла ее бытия в истории человечества, — вспомним, как проявилось это в нашей стране в XIX веке в полемике славянофилов и почвенников с западниками, а в XX веке — в выработанном гитлеризмом ценностном самосознании арийской расы, в смысложизненном содержании концепций сионизма, негритюда, латино-американизма…
Казалось бы, определенное представление о смысле своей жизни должно иметь и человечество, как самый крупномасштабный совокупный субъект. И действительно, стремление решить эту задачу мы находим в религиозном сознании, однако отмечавшаяся выше групповая конфессиональная узость религии не позволяла достичь этой цели; к ее достижению устремлялось нередко и светское искусство, но и его усилия оказывались безуспешными, поскольку художественно-образное воссоздание мира укоренено в недрах того или иного типа культуры, конкретно-образным самосознанием которого оно является; художник, по известному пастернаковскому образу, «вечности заложник у времени в плену», а вместе с тем «в плену» и у нации, и у некоего социального слоя общества; поэтому самый великий художник может постигать смысл жизни человечества лишь в преломлении его смысложизненными позициями групповых субъектов — христиан или мусульман, крестьян или аристократов, воинов или монахов, политическими идеями консерваторов или революционеров, художественной богемы или деклассированных люмпенов, «отцов» или «детей». .
То, что было недоступно религии и искусству, оказалось привилегией философии. Ее существенная особенность состоит в к том, что она способна на абстрактном языке теоретического дискурса осознавать смысл жизни человечества как единого субъекта социокультурного бытия и деятельности, — Н. Бердяев не без основания полагал, что для философии «постигнуть смысл жизни… есть самое важное и единственно важное дело…» Если до сих пор философия не нашла убедительного для всех решения этой задачи, оставаясь вместе с другими формами ценностного сознания в плену частных, групповых интересов (социальных, национальных, конкретно-исторических), то только потому, что род людской лишь в наше время, перед лицом возможного самоуничтожения, начинает осознавать свое субъектное единство и делает первые шаги к обретению единого самосознания.
В. Давидович, несомненно, прав, когда оспаривает утверждения тех философов, которые отрицают реальность бытия человечества, признавая лишь существование различных возникающих и исчезающих «локальных цивилизаций», однако те аргументы, которые он приводит в пользу наличия единого человечества, имеют онтологический характер — единство биологической организации рода Homo sapiens, социальной формы его бытия, исторического происхождения, тогда как проблема эта имеет и аксиологический аспект, то есть отсутствие единых общечеловеческих ценностей, что влечет за собой культурную раздробленность человечества. Поэтому соглашаясь с философом в том, что именно в наше время, «несмотря на продолжающиеся (а иногда и усугубляющиеся) коллизии интересов, вопреки наличным идейно-политическим противостояниям, экономическим столкновениям, геополитическим и военно-стратегическим конфронтациям, проглядывается тенденция к нарастанию планетарного единства», не могу поддержать его стремление найти все же некие «вечные ценности», порождаемые «общечеловеческими интересами» и «общечеловеческими идеалами», ибо оказывается, что их содержание почему-то вообще «не поддается строгим определениям», а попытки определить его приводят к универсализации частных ценностей представителей определенной «культуры, веры, традиции».. Пытаясь все же преодолеть этот субъективизм точки зрения своей культуры, философ называет общечеловеческими «ценность жизни», которая, «чтобы быть действительной ценностью, должна быть свободной», что делает второй общечеловеческой ценностью саму свободу, третьей ценностью такого масштаба является человеческое «достоинство», а четвертой — «справедливость». Представляется, однако, совершенно очевидным, что весь этот набор ценностей специфичен для современного этапа истории европейской культуры — он был неведом, например, культуре русского Средневековья и он совершенно чужд современной мусульманской культуре. Более того, сама «ценность жизни» отнюдь не является абсолютной — не говоря уже о ситуации, выразительно сформулированной Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — напомню о самосожжениях раскольников, о ритуальных самоубийствах типа самурайского харакири, о декадентском культе смерти в западноевропейской и русской культуре конца XIX — начала XX веков, о «некрореализме» в современном искусстве… Несколько лет тому назад в Перми вышла книга Л. Трегубова и Ю. Вагина «Эстетика самоубийства», в которой всесторонне рассмотрена психологическая и идеологическая основа суицида, которая и состоит в признании ценности смерти, а не жизни. Нельзя, наконец, не понимать и того, что основные религиозные концепции исходят из идеи «смертью смерть поправ», то есть видят в смерти путь к лучшей и вечной потусторонней жизни.
Приходится признать, что культурное, духовное, а значит, и ценностное, единство человечества является — увы! — лишь возможностью, а не действительностью, и что не было его не только на протяжении всей, раздиравшейся непрерывными кровавыми схватками, прошедшей его истории, но не обретено оно еще и в наши дни, так что многие наши современники считают реализацию этой возможности очередной утопией; все же сейчас начинают складываться объективные материальнопрактические предпосылки для превращения практическиединого бытия людей на поверхности планета Земля в его ценностно-осознанное единство, то есть превращения «человечества в-себе» в «человечество для-себя», в подлинного и полноценного субъекта единой деятельности, направляемой едиными ценностями. Разумеется никто не может гарантировать, что превращение это осуществится — в социокультурной сфере грядущее может быть только предметом веры, но не знания, однако вера эта не беспочвенна и наивно-прекраснодушна — она основывается на том, что альтернативой такому варианту нелинейного развития человечества может быть в XXI веке только самоубийство…
В этой связи можно оценить по достоинству вывод О. Конта, что высшая стадия исторического прогресса — не сменившая «теологическое» и «метафизическое» состояния и основанная на научном познании мира «позитивная» стадия истории, как он первоначально считал, а «второй теологический синтез» или «позитивная религия», который, несмотря на применяемые философом традиционные религиозные термины, будет в действительности культом человечества как единого существа. В конечном счете, и идеи Л. Толстого, М. Ганди, А. Швейцера были по существу нравственными учениями, «мистифицировавшими религию и лишавшими ее тем самым ее психологического основания.
Между тем работы русских религиозных философов, касающиеся данной проблемы, исполнены упорным стремлением доказать, что обретение смысла жизни возможно только при условии признания существования высшей силы — Бога, соотнесенность с которой и придает смысл индивидуальному бытию. Подобные рассуждения порождаются естественным у мыслителей такого рода убеждением, что признание Бога является точкой отсчета «истинного» мировоззрения, ибо — следует ссылка на известное изречение Ф. Достоевского — «Если Бога нет, то все дозволено». Между тем признание вседозволенности, заключенное в индивидуалистическом сознании, есть тоже определение смысложизненной позиции — реальная история культуры показывает неосновательность утверждения, например, С. Франка, что вне Бога «бессмысленна каждая единичная личная жизнь человека» и даже «общая жизнь человечества», — в обоих случаях наличие или отсутствие осмысленности жизни, как и конкретное понимание придаваемого ей смысла, зависит от самого субъекта, ибо смысл этот — или бессмыслица — существует только для него самого, как аспект его самосознания, а не является чем-то внеположенным субъекту и витающим в некоем платоновском «мире идей»; не говорю уже о том, что — как свидетельствует опять-таки реальный опыт истории — и отдельные люди, и нации, и классы, и микрогруппы находили нередко смысл своего существования вне апелляции к Богу, — скажем, в содействии прогрессивному развитию человечества, в освобождении своего народа от иноземных поработителей, в революционной борьбе за более справедливый общественный строй, в утверждении нового, истинного научного знания или нового способа художественного воссоздания мира…
Точно так же неосновательны опасения Ж.-П. Сартра, что, признав самоцельность стремления человека к свободе и проистекающее отсюда его право «самому устанавливать ценности», мы тем самым утверждаем индивидуалистический произвол в этой сфере человеческого бытия. Но это означает лишь, что, рассматриваемая абстрактно, свобода не может быть признана абсолютной позитивной ценностью — она бывает и источником зла, становясь губительной для человека силой. Ценность свободы потенциальна, и только конкретная реализация этой возможности позволяет вынести позитивное или негативное ценностное суждение. Но преодоление индивидуалистическо-эгоистического своеволия не ведет фатально к религиозному пониманию трансцендентности — свободный выбор надличностного политического мерила Петром Великим был не менее ценностно полноценен, если так можно выразиться, чем выбор патриарха Никона, и свободный выбор Н. Чернышевским нравственного мерила своего поведения не менее продуктивен и ценностно значим, чем выбор Ф. Достоевским религиозного мерила.
Как справедливо отмечает И. Зеленкова, существуют два подхода к определению смысла жизни — «трансцендентный подход», предполагающий поиск этого смысла «за пределами» реального человеческого бытия, и «имманентный подход», который ищет этот смысл в самом существовании человека. Теоретическая аксиология не вправе абсолютизировать тот или другой, поскольку оба принадлежат к аксиосфере культуры.