Значение «фикций». Психология, психотерапия и социальная педагогика а. Адлера
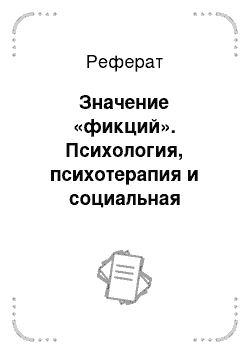
Фикции есть, конечно, и у нормальных людей, но у них они, по мысли Адлера, выступают просто как ориентиры, отделяют от реальности, тогда как невротик гипостазирует эти фикции и понимает их буквально. Если для ребенка буквальное понимание фикций может быть еще вполне нормально, то для взрослого это может являться признаком патологии. Но в целом Адлер склонен считать, что количественный характер… Читать ещё >
Значение «фикций». Психология, психотерапия и социальная педагогика а. Адлера (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Адлер ссылается на философию «как будто бы» Файхингера, утверждая, что у невротиков именно таким образом обстоит дело. Точнее, так обстоит дело у всех людей, но наиболее ярко это проявляется у невротиков, поэтому на материале изучения невротиков Адлер тоже приходит к основным идеям этой философии. Невротик как будто говорит: «Я должен поступать как настоящий мужчина». То есть он хочет кем-то казаться, но он не является тем, кем хочет казаться. В сущности, это то, что Ф. Ницше, на которого также ссылается Адлер, называет волей к видимости. Другими словами, согласно Адлеру, наше Я, наша личность формируются волей к видимости и сами представляют собой «видимость», маску, употребляя термин К. Юнга.
Эта маска и есть, согласно Адлеру, Я ребенка, его личность. Но это Я может быть только видимостью, как у невротика, а может быть тем идеалом, к которому ребенок реально стремится, преодолевая свои реальные недостатки, через реальную, социально значимую деятельность. И благодаря такой деятельности ребенок может чувствовать приближение к своему идеалу, а также иметь реальные переживания того, что благодаря его работе произошли изменения и в его собственной личности. Таким образом, он может стать способным принимать свое реальное Я и различать свое Я-идеальное и Я-реальное. Это направление исследований, намеченное Адлером, продолжили гуманистические психологи.
Так или иначе все люди, как больные, так и вполне здоровые, в детстве получают определенные фикции. Адлер пишет: «Здоровый человек тоже потерялся бы в этом мире, если бы не сопоставлял с фикциями свою картину мира и свои переживания» (Адлер А., 1997, с. 53). Для здорового ребенка они тоже являются ориентирами по жизни, а в минуты неуверенности они выступают еще отчетливее, они могут становиться императивами идеалов, веры и способами выражения свободной воли. Но помимо прочего, «они действуют обычно и в тайном, в подсознании» (там же). Это связано с тем, что эти идеалы не всегда согласуются с общественными идеалами и требованиями социального чувства. Эти абстрактные положения, которые ребенок извлекает из своего опыта, так сказать, его детские обобщения, опираются на негативный опыт детства, который ребенок, а потом и взрослый человек стремятся забыть, вытеснить из сознания, потому что они снижают его чувство собственного достоинства.
В целом Адлер считает, что наши действия детерминированы объемом опыта, определенного и акцентированного с точки зрения управляющей фикции. С точки зрения этой фикции мы и оцениваем наши ощущения и переживания: «Сами наши оценочные суждения соответствуют фиктивной цели, а не „реальным“ ощущениям и не чувству удовольствия» (там же, с. 85). То есть вся наша деятельность находится под управлением фикций, а конкретные действия осуществляются под видом апробации нашего самоутверждения, но с разрешения, с одобрения или по приказу фиктивной цели и фиктивного идеала. А управляющая фикция всегда является средством освобождения от чувства неполноценности. Именно она заводит механизм компенсации, берет в услужение защитную тенденцию и соответствующую работу для создания видимости по поводу собственной личности или заводит механизм реальной, социально значимой деятельности для достижения цели. Структура неполноценности через посредство фикций формирует у ребенка первичное ощущение себя, на основе которого формируется идеал себя, желаемый образ себя для других, Я ребенка и цель жизни.
Этот будущий образ Я ребенка, как считает Адлер, будет идентичен с образом отца, матери, старшего брата и сестры, учителя или героя, какого-то зверя и «даже бога» (там же, с. 83). Какие из образов будут выбраны, зависит от семейной ситуации ребенка, от глубины его чувства неполноценности и от массы других факторов. Но в целом выбор таких образцов для идентификации будет соответствовать структуре чувства неполноценности ребенка, и они будут всегда направлены на его компенсацию, на защиту своего Я от этого гнетущего чувства. «Все эти руководящие образымодели показывают путь к достижению силы, власти, знания и умения в целом и все вместе представляют собой символ для формирования фиктивной абстракции» (там же). Такие фиктивные абстракции, как идолы, наделяются силой и жизнью благодаря работе фантазии. И эти идолы начинают затем активно воздействовать на психику, которая их когда-то породила. Адлер утверждает, что такое развитие психической ориентировки напоминает формирование психоза. Далее он говорит, что действительно возник бы психоз, «если бы ребенку не была дана возможность в любой момент ускользнуть из-под власти чар своей фикции», если бы он никак не мог принимать в расчет свои проекции, если бы он использовал только «стимул, который вытекает из этой вспомогательной линии» (там же).
Действительно, нормальный ребенок в игре может чувствовать себя медведем, героем или рыцарем, но, когда мать зовет его к столу, он выходит из своей роли и возвращается к реальности. Эти идентификации, с одной стороны, являются защитами, но, с другой стороны, также играют важную роль в развитии ребенка. Что касается фантастических идентификаций, то именно внутренняя неуверенность ребенка толкает его к фантастическим идентификациям, но и здоровый ребенок, и невротик всегда способны возвратиться от этих идентификаций к реальности. Адлер пишет: «Неуверенность толкает его к тому, чтобы ориентироваться на фантастические цели, но она все же не так велика, чтобы обесценить реальность и превратить модель идентификации в догму, как это бывает при психозе» (там же). Что касается психоза, то здесь происходит персистолкование реальности вообще или полный отказ от нее. Но это, согласно Адлеру, просто крайний случай компенсации чувства неполноценности, крайний вариант защиты своего Я. В неврозе индивид просто ищет предлоги, чтобы обойти реальность, но не игнорирует ее полностью. В сущности, Адлер склонен считать различие между неврдзом и психозом преимущественно количественным.
Фикции есть, конечно, и у нормальных людей, но у них они, по мысли Адлера, выступают просто как ориентиры, отделяют от реальности, тогда как невротик гипостазирует эти фикции и понимает их буквально. Если для ребенка буквальное понимание фикций может быть еще вполне нормально, то для взрослого это может являться признаком патологии. Но в целом Адлер склонен считать, что количественный характер имеют различия не только между неврозом и психозом, но и между неврозом и нормой. Они определяются количеством и мерой идентификации с ведущей фикцией. Этим определяются структура Я индивида и характер различия между направляющей фикцией и реальным (субстанциональным) Я человека. «Невротическая психика по сравнению со здоровой характеризуется только более сильным удерживанием ориентации, более сильным вчувствованием в нее» (там же, с. 101).
При объяснении характера развития индивида Адлер придает большое значение ранним его впечатлениям и воспоминаниям. Если они болезненны, то на их основе обычно формируются невротические компенсации, невротические обходные пути, невротические защитные ориентации. Все это есть и у здоровых людей, но не в такой мере выраженности. У здоровых людей фикции выполняют функцию ориентации в действительности, но здоровый человек отделяет себя от них и не идентифицируется с ними полностью.
Фикции нс только дают людям определенные ориентиры в жизни, но и задают им некоторые рамки: «Общечеловеческое в этом механизме то, что апперцептирующая память оказывается под властью управляющей фикции. Тем самым единое мировоззрение для всех людей дается в определенных границах» (там же, с. 83).
Следует сказать, что во всякой культуре существуют определенные рациональные структуры мышления и идеалы, которые, с одной стороны, ограничивают человеческое самосознание и мышление, а с другой стороны, являются важными ориентирами социальной жизни человека. Они управляют людьми, выступая как ориентиры в социальной и культурной жизни, говоря словами И. Канта — регулятивными идеями. Невротичный ребенок или взрослый невротик просто чрезмерно отождествлен с этими идеями.
Задача культуры состоит в том, чтобы с помощью определенных приемов и фикций вогнать в жесткие формы все хаотическое и изменчивое, чтобы стабилизировать окружающий мир. Так вообще поступают люди, но так же происходит, согласно Адлеру, и в неврозе. Можно предположить, что Адлер считает, что развитие неврозов происходит в целом по культурным образцам. Таким образом, невроз представляет собой как бы культуру в культуре, или особую субкультуру. Напомним, что и Фрейд говорил о неврозе как о современном внутреннем монастыре. Отсюда, а также опираясь на другие источники, можно сделать вывод, что невроз является культурно-историческим явлением и формируется по законам культурно-исторического развития (см., например: Олсшкевич В. И., 1997, 2002).
Становясь взрослым, индивид вступает в период, когда он, по мнению Адлера, должен осуществить три основные жизненные задачи.
Во-первых, человек должен испытать чувство любви и создать семью. Во-вторых, он должен овладеть профессией. И наконец, в-третьих, и, вероятно, это самое главное (у Фрейда этого требования не было), он должен наладить взаимоотношения с сообществом. Адлер убежден, что в этой перспективе следует рассматривать все новые проблемы, которые появляются у индивида в процессе дальнейшего взросления.