Проблемы религиозности в мировоззрении и лирическом наследии А.С. Пушкина
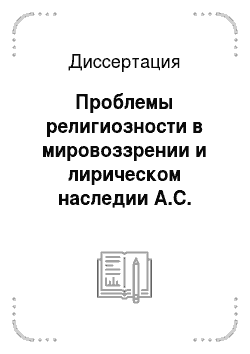
Исследуя проблемы религии в мировоззрении и творчестве Пушкина, мы используем в качестве базисного достаточно широкое понятие -«религиозное сознание», а не, к примеру, «православное мышление» или «церковность», так как в последние определения не укладывается постоянно развивающийся, динамичный процесс становления взглядов Пушкина на религию. Касаясь соотношения церковности и христианства… Читать ещё >
Содержание
- Глава. [. Pro и contra: К истории вопроса
- Глава II. Проблемы религиозно-философской эволюции Пушкина в его мировоззрении
- Глава III. Мифопоэтические и религиозные мотивы в ранней лирике
- А.С. Пушкина (1813−1820)
- Глава IV. Пути и перепутья
- В поисках веры в лирике поэта периодов Южной и Северной ссылок (1820−1826)
- Глава V. Внутренний диалогизм веры и безверия в поздней лирике Пушкина (1827−1836)
Проблемы религиозности в мировоззрении и лирическом наследии А.С. Пушкина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Современное литературоведение радикально перестраивается после долгих лет застоя и господства схематизма, идеологического диктата. В науке постепенно совершается переворот: строится новая концепция истории русской словесности, острая необходимость в которой уже давно назрела. Эта концепция стремится учесть многоплановость русской культуры во всем ее многообразии, истоки и традиции национальной литературы, в том числе и религиозные. Создается новый критериальный подход к анализируемым текстам, ученые переосмысливают наследие русских писателей с точки зрения христианского православного идеала, чего по понятным причинам не могло сделать советское литературоведение. Прямым образом это коснулось и пушкинистики.
Целые десятилетия преимущественно и целенаправленно доказывался атеизм Пушкина. В других случаях «опасная» тема вовсе не затрагивалась. Так, в пушкинском семинарии конца 1950;х годов Б. С. Мейлаха и Н. С. Горницкой тема религиозности поэта и его героев вообще игнорируется.1.
В нашу эпоху положение с изучением названной проблемы стало меняться. Показателен в этом отношении пушкинский семинарий Л. Г. Фризмана, вышедший в середине 1990;х гг. (240, 367с). В нем приводится целый ряд разработанных по данной проблеме тем, указана к ним минимальная литература.
Однако сегодня возникают сложности иного характера. В большом количестве тиражируются работы, бросающие читателей в другую крайность: в них Пушкин предстает глубоко верующим христианином, национальным православным поэтом, правда, заблуждавшимся вначале, но вернувшимся в конце своего жизненного пути в лоно церкви. Такая трактовка предстает не только в работах деятелей церкви, но и в исследованиях современных крупных ученых — пушкиноведов.
1 Мейдах B.C., Горнникая Н. С. Л. С. Пушкин: Семинарий/Б.С. Мейлах, Н. С. Горпицкая. — Л., 1959. -266с. В дальнейшем ссылка на шлаиие помешается в тексте согласно порядку it СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: первая цифра обозначает цитируемую книгу, вторая — страницу.
Указанные крайности истолкования пушкинских позиций в интересующем нас аспекте («атеистически-материалистические» или безусловно конфессиональные) до недавнего времени были преобладающими. Однако следует отметить, что в современном изучении этого вопроса постепенно начинает брать верх некая «срединная» точка зрения, согласно которой эволюцию поэта, его постоянный поиск истины, в том числе религиозной, с однозначной определенностью нельзя отнести к какому-либо завершенному результату, нельзя сказать, что Пушкин в итоге своего сложного духовного развития пришел либо к законченному атеизму, либо к глубокой православной вере. Не случайно многие видные русские философы конца XIX — начала XX века, изучая отношение Пушкина к этике и эстетике христианства, приходили к выводам о многосложности, многосоставности пушкинского мироощущения.
Безусловно, и мир художественных творений Пушкина, и биографические данные представляют интереснейший и богатейший материал для исследователя религиозности поэта. Ветхий Завет, Евангелие, Псалтырь, Деяния апостолов, — все это не только традиционно входило в круг чтения русского человека пушкинской эпохи, но и воспринималось изустно, во время обязательного посещения церковного богослужения, и не учитывать влияния Библии на творчество поэта — значит обеднять и искажать его реальное духовное содержание, измельчать смысловые глубины художественного образа.
Однако, думается, очень важно не сделать крен в противоположную сторону, не превратить Пушкина в национальный православный символ поэта-пророка, выпрямляя его динамичную духовную эволюцию, лишенную успокоенности, сотканную из противоречий, говорящую о напряженном поиске истины, постоянном диалоге-споре с собой. Нельзя не учитывать неустанный, подчас мучительный, поиск поэтом смысла жизни, веры, точки опоры в постоянно меняющемся мире, даже богоборческие мотивы. На наш взгляд, Пушкина надо воспринимать не «выборочно», а во всей полноте жизненного и творческого пути.
Особую сложность для исследователя представляют ситуации непосредственного включения библейской (чаще — евангельской) цитаты, иногда сужающейся до одного слова, в авторский текст.
Современными учеными-философами и литературоведами остро ставится вопрос о методологических основах взаимодействия в рамках одного текста сакрального религиозного слова и авторского слова. Эта проблема исследуется в работах П. Е. Бухаркина (37), В. А. Котельиикова (114), Е. Г. Новиковой (157), И. Сурат (216) и др.
Е.Г. Новикова, изучая «механизмы включения евангельского текста в авторский контекст, принципы их взаимодействия между собой, то текстовое поле, которое возникает за счет их контакта, и те процессы и напряжения, которые происходят между ними и определяют специфику данного поля» (157, 8), вводит очень удачный, с нашей точки зрения, термин — «текст-контакт». Учитывая различную природу библейского текста (как божественного, хотя и зафиксированного людьми) и «земную» природу авторского текста, исследовательница, между тем, не приходит к выводу о непреодолимой ценностной иерархии двух типов текста. Новикова считает, что «введение евангельской цитаты в авторский контекст меняет их взаимный статус как собственно двух фрагментов текста и в этом текстовом качестве создает между ними новый тип отношений (коммуникации): отношения как акт со-положения двух фрагментов некоего становящегося „здесь и теперь“ единого текста. Отсюда их со-отношение в этом качестве между собой, отношение равенства как двух фрагментов некоего теперь единого текста. Иначе говоря, такой акт коммуникации осуществляется как взаимо-отношение, взаимо-действие двух текстов» (157,9). Эти наблюдения ученого представляются особенно ценными для нашей работы, согласуются с нашей философской и методологической позицией. Понимание взаимодействия библейского и авторского текстов как образование нового единого текста — контакта будет использоваться в диссертации при анализе лирических и прозаических произведений А. С. Пушкина.
Итак, важнейший аспект диссертации — анализ образно-идейного уровня литературного произведения, воплощенного в нем диалога религиозных мифологем, образов, идей с собственно пушкинским «основным эмоциональным тоном», «сверхнастроением» (113, 64), анализ вновь образовавшегося смыслового поля за счет столкновения порой противоположных и в чем-то дополняющих друг друга позиций.
Однако при исследовании проблемы религиозного сознания поэта невозможно ограничиться только рамками художественного текста. По справедливому замечанию П. Е. Бухаркина, «с неизбежностью встает задача расширить предмет наблюдений, выйти за пределы только литературного творчества и обратиться к другим сторонам культуры, в частности, к проблеме организации человеком своего духовного пути» (37, 49). Поэтому столь важным представляется проследить эволюцию взглядов Пушкина на религию, учитывая ее реальную сложность и неоднозначность.
Исследуя проблемы религии в мировоззрении и творчестве Пушкина, мы используем в качестве базисного достаточно широкое понятие -«религиозное сознание», а не, к примеру, «православное мышление» или «церковность», так как в последние определения не укладывается постоянно развивающийся, динамичный процесс становления взглядов Пушкина на религию. Касаясь соотношения церковности и христианства, сошлемся на мнение П. Е. Бухаркина: «Абсурдно отрицать близость и родство данных категорий — христианства и церковности. Однако при всем их сходстве они не тождественны. И христианство какого-либо писателя вовсе не означает обязательной его церковности» (37, 33). Так, в биографической и творческой судьбе Пушкина представления о церковности и христианстве то сближались, то резко разграничивались, но всегда эволюционировали.
Феномен религиозного сознания Пушкина рассматривается нами как одна из важнейших составляющих миропонимания поэта, где христианские догматические установки постоянно подвергаются сомнению, где ищет, колеблется не только разум, но и сердце.
Итак, спорная, проблематичная ситуация, сложившаяся в современной науке о литературе вокруг религиозности Пушкина, определяет актуальность' нашего исследования. Она состоит в рассмотрении проблемы религиозности А. С. Пушкина в контексте идейно-творческой эволюции поэта и его философского мировоззрения, в прочтении лирики Пушкина как отражения всего диалогически-многосложного спектра его религиозных и философских взглядов. Думается, такой подход позволит четче определить сущность и характер религиозности Пушкина. Научная новизна работы обусловлена исследовательским подходом, учитывающим разнополюсные тенденции сознания писателя, динамичный диалогизм его религиозных взглядов.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования результатов и материалов исследования в разработке лекционных курсов и практических занятий по истории русской литературы XIX века, при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по проблемам пушкиноведения.
Пушкинский гений поистине могуч и универсален. Он проникает в разные эпохи, выступает носителем сознаний самых разных народов (в том числе и различных религиозных конфессий). Но гений — явление не статичное, движущееся, как и все в мире.
Главной цель ю нашего диссертационного исследования будет определение основных векторов пушкинского духовного развития, сочетания взаимоисключающих и взаимно дополняющих элементов религиозного сознания поэта, в том числе, соотношения в нем веры и безверия.
Объектом исследования являются лирика, письма, автобиографическая проза, литературно-критические и исторические статьи.
1 Здесь и далее разрядка моя, курсив принадлежит цитируемым авторам.
Пушкина, а также переписка и воспоминания его современников, характеризующие своеобразие религиозных взглядов и жизни поэта.
Предметом исследования выступает особый сложный характер религиозного сознания А. С. Пушкина, диалогическое сосуществование в нем полярно противоположных элементов.
Задачами исследования являются:
1. рассмотрение и классификация трактовок религиозности А. С. Пушкина;
2. изучение влияния культурно-исторической и конфессиональной атмосферы в России в 1820—1830-х гг. на формирование религиозно-философских взглядов Пушкина и его противостояние ей, «самостоянье» поэта в поисках истины, в том числе и религиозной;
3. определение особенностей эволюции пушкинских религиозных воззрений, обозначение этапов в его творчестве.
4. исследование диалогичности и динамизма религиозных взглядов Пушкина на материале его литературно-критических, исторических статей и лирики.
М е т о д о л о г и я исследования. Впервые проблема религиозности А. С. Пушкина рассматривается с позиций методологии диалогизма, послужившего основой концепции человека и мира в философской системе великого поэта. Контрапунктный диалог, пронизывающий все творчество Пушкина, как и эволюцию его религиозно-философских взглядов, выявляется в работе на внутри текстуальном и межтекстуальном уровнях. Методология исследования опирается на труды М. М. Бахтина, Б.О. ЬСормана, Б. Т. Удодова, работы русских религиозных философов конца XIX — начала XX веков и других выдающихся русских ученых.
Структура исследования. Работа состоит из Введения, пяти глав, Заключения и Списка использованной литературы, включающего 263 наименования.
Заключение
.
Подводя итоги, следует еще раз обратиться к наиболее принципиальным моментам пушкинского видения мира, его историософских, религиозных воззрений и художественно-философской системы в целом.
В ходе разработки нашей темы было выявлено, что на каждом этапе пушкинского творчества шел направленный поиск поэтом истины, в том числе религиозной, подчас мучительный. И никогда поэт не становится однозначным приверженцем атеистической, богоборческой или ортодоксальной религиозной идеи. Рядом с мнением у него всегда стоит сомнение, в своей совокупности образующие напряженный внутренний диалог — внутритекстуальный и интертекстуальный.
Пристальное внимание проблеме характеристики религиозности сознания Пушкина и его поэзии уделила русская религиозная философия конца XIX — начала XX века. В научно-критических и религиозно-философских концепциях предлагается, как правило, особый взгляд авторов на проблемы религиозности мышления поэта, и почти всегда они спорят между собой. Многообразие мнений, которые мы анализировали в первой главе работы, думается, не случайно, оно отражает истинную сложность пушкинского сознания.
Рассматривая различные определения русскими философами и современными исследователями сути и характера религиозности Пушкина, его историософские, религиозные и художественно-эстетические воззрения и собственно художественную практику поэта, мы приходим к следующим выводам.
Большинство наиболее глубоких, вдумчивых исследователей данной проблемы отмечали сложный, далеко не однозначный характер религиозности Пушкина, говоря либо о многочисленных составляющих его веры (как писали в своих работах М. Гершензон, Г. Федотов, Д. Мережковский, Ф. Степун, П. Струве, В. Розанов и др.), либо о мучительных сомнениях, живших в душе поэта и пронизывающих все его творчество (В.
Ходасевич, В. Иванов, А. Амфитеатров), либо приходя (зачастуюимплицитно) к утверждению внутреннего постоянного диалога разных «правд», сосуществующих в сознании поэта (С. Франк, А. Панченко, В. Кулешов, С. Бочаров, А. Иезуитов, Е. М. Таборисская, Б. Удодов).
Мы стремились на конкретном анализе показать многоэтапность внутренней эволюции Пушкина, особо подчеркивая, что у поэта нет резких поворотов и переломов на разных этапах его творчества, в котором не видно явных «швов», а значит — Пушкин шел в своем развитии не через внутреннюю «революцию», а через непрерывную эволюцию, в которой нельзя найти однозначных решений или поставить завершающую точку на каком-то этапе по причине непрерывности и постоянства самого процесса пушкинского развития. Как нам представляется в результате исследования, пребывание на каждом этапе в диалоге-споре с самим собой предопределяло несогласие Пушкина с любыми застывшими истинами и самыми высокими авторитетами во всех сферах сознания, в том числе и религиозного.
Анализируя увлечение юного Пушкина Вольтером, мы констатируем, что даже в лицейский период, во многом подражательный и ученический, Пушкин не принимал полностью мировоззрение ни одного из своих кумиров. Уже в пору лицейской юности очевидна особая «многосоставность» сознания Пушкина: ирония, а подчас и фривольный цинизм в отношении к обрядовой стороне религии (церковности) соседствует у него с мучительным поиском веры, дающей надежду на бессмертие души, что нашло выражение уже в раннем, но не по летам глубоком «Безверии» (1817).
В период жизни Пушкина, на который многие литературоведы поставили штамп «атеистический», — период Южной ссылки, мы наблюдаем факт вступлевшя поэта в масоны 4 мая 1821 г. Рассматривая дневниковые записи и лирические признания поэта, делаем вывод, что отнюдь не мода того времени на масонство и тем более не увлеченность мистическими ритуалами Братства вольных каменщиков привели молодого Пушкина в это тайное общество. Пресловутый пушкинский гедонизм в кишиневский период его творчества вовсе не абсолютен, поэт серьезно размышлял над вечными вопросами жизни и смерти, пытался найти удовлетворяющие его ответы на свои духовные вопросы в масонстве, но, очевидно, так и не смог этого сделать.
Для уяснения религиозных и историософских убеждений Пушкина чрезвычайно важным представляется его диалог с П. Я. Чаадаевым. Мы отмечаем и сходство, и различие в историко-религиозных концепциях этих двух выдающихся личностей.
Воззрения на религию и Чаадаева, и Пушкина трудно однозначно отнести к какой-либо из существующих формальных конфессий. Становление религиозности происходило у Чаадаева и у Пушкина путем постижения разумом положений, доктрин определенных вероучений, через сравнения, сопоставления их между собой, а потом уже оценки степени близости религии сердцу.
Однако существенны и различия во взглядах Пушкина и Чаадаева. Так, призывы Чаадаева к пророческому служению одной религиозной идее, которая должна питать все поэтическое творчество Пушкина, не были приняты поэтом. Взгляд Пушкина на действительность в этом смысле был прямо противоположен чаадаевскому: для его мировоззрения характерно сопоставление и соединение противоположных начал, являвшееся необходимым условием его творчества и осмысления мира. Пушкин не мог стать проповедником какой-то одной религиозной истины, как того страстно желал Чаадаев, потому что не нашел ее, не успокоился на однозначных ответах, противопоставляя им все новые сомнения и возражения.
В эволюции пушкинских взглядов на религию происходило изменение отношения поэта к обрядности: в стихотворениях последнего периода жизни церковный ритуал оказывается более наполненным духовным содержанием, в христианском обряде им выявляется глубинная нравственная сущность русского народа, что мы наблюдаем в ряде пушкинских писем, литературно-критических, исторических статей и лирических произведений.
Глубокое знание Пушкиным библейских текстов все больше наполняет его произведения христианской образностью, оказывает влияние не только на смысловую, но и на ритмическую и стилистическую организацию текстаего суждения в переписке, в исторических и литературных заметках имеют множество параллелей с текстами Священного Писания. Однако из серьезного осмысления Пушкиным православных христианских текстов нельзя делать вывод, как это делают многие, о том, будто поэт в конце жизни стал истинным православным христианином. Такое признание было бы явным упрощением реальной динамики его духовной и творческой эволюции. К тому же, соотнесенность пушкинских произведений с этикой и эстетикой православного вероучения не отменяет влияния на пушкинское сознание и, следовательно, на его художественную систему, античной традиции, коранических мотивов, католической образности. Поэт в действительности универсален своей многомерностью и многомирностью, связью с различными культурами и эпохами.
Этапы творческой эволюции Пушкина, при всем их различии, плавно «перетекают» один в другой, на чем и зиждется открытость в будущее каждого временного отрезка творческого пути Пушкина, динамика его особого «неустойчивого равновесия». Каждый этап творческой эволюции поэта содержит одновременное и непрерывное взаимодействие полярных начал. Одна из нескольких диалогических разнонаправленностей может, на первый взгляд, доминировать, однако ей постоянно противостоит другая, находящаяся в глубине смысловой системы, но всегда ощутимо присутствующая.
Указанные доминанты иногда трактуют как философско-струкрурную «бинарность». Однако сознание Пушкина во всех его видах не укладывается в эту структуру с ее двойственной оппозиционностью. Проделанная нами работа, на наш взгляд, свидетельствует о том, что пушкинское мышление и его творческая манера базируются на внутреннем диалогизме, на полицентрическом видении поэтом мира — это наиболее универсальная закономерность его восприятия всех бытийных явлений. Об этом убедительно говорит и постоянный внутритекстуальный и межтекстуальный диалог, буквально пронизывающий тексты Пушкина разных жанров и стилей на всех этапах его творческого процесса (от замысла — до воплощения).
В многополярной и полицентрической вселенной Пушкина многообразие явлений рассматривается не по принципу «или — или», а скорее по принципу «и — и», что мы и наблюдаем как в отдельных произведениях, так и в творчестве поэта в целом.
В связи с этим и религиозное сознание поэта зиждется на противостоянии и взаимодействии многочисленных полярностей: на постижении религии умом и сердцем, на иронически насмешливом отношении к церковнослужителям и осознании священного таинства обряда, различных составляющих веры и безверия, желании «сионских высот» и ощущении неизбежной греховности, на ограниченности человеческого существования и на устремленности к «горним» религиозным идеалам, и на укорененности в земной жизни человека, сотканного из антиномий.
Сложнейший и многообразный спектр религиозных проблем никогда не решался Пушкиным однозначно. Последняя точка в поиске поэтом истины не была поставлена, вместо нее предстает выразительное многоточие.
Список литературы
- Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т./А.С. Пушкин. М., 1981.
- Пушкин А.С. Полн.собр.соч.: В 16 т./А.С. Пушкин. М., 1949.
- Абрамович С.Л. Пушкин в 1833 г.: Хроника/С.Л. Абрамович. М., 1994.-616с.
- Абрамович С.Л. Пушкин. Последний год. Хроника. Январь 1836 — январь 1837/С.Л. Абрамович. М., 1991.-619с.
- Августин (архимандрит) (Никитин). Церковь Михайловского замка/А. Никитин/УХристианская культура: Пушкинская эпоха. СПб., 1996. — Вып.XII. — С. 106−111.
- Адамович Г. В. Пушкин/Г.В. Адамович//А.С. Пушкин: PRO Et CONTRA. Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология: В 2 т. СПб., 2000. — Т.2. — С.265−269.
- Айхенвальд Ю.И. Пушкин/Ю.И. Айхенвальд//А.С. Пушкин: PRO Et CONTRA. Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология: В 2 т. СПб., 2000. -Т.1.- С.374−397.
- Александров Н.Д. Силуэты пушкинской эгтохи/Н.Д. Александров. М., 1999.-320с.
- Амфитеатров А.В. «Святогрешный»/А.В. Амфитеатров//Советская культура. 1989. — 18 февр.
- Анастасий (митрополит). Пушкин и его отношение к религии и Православной Церкви/Анастасий (митрополит). М., 1991. — 62с.
- Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху/П.В. Анненков. -Минск, 1998.-359с.
- Антология русской поэзии: В 2 т. М., 1997. — Т. I. — 558с.