И власть, и ответственность — — на места
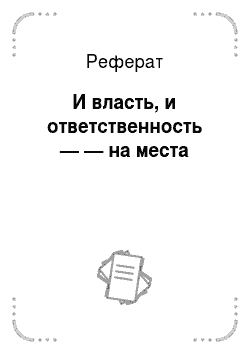
Интересно, что в то же время домоуправления столкнулись с феноменом «гордой бедности»: некоторые (преимущественно пенсионеры из сел) стеснялись заполнять заявление о пособии. Центральные усадьбы колхозов и совхозов, крупные села и сельскохозяйственные городки застраивались многоквартирными домами с центральным отоплением, а падение доходов больнее всего ударило по селу. Люди, всю жизнь жившие… Читать ещё >
И власть, и ответственность — — на места (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Теплоцентрали, водоканалы и ЖЭКи предприятий были переданы местным самоуправлениям и переведены на хозрасчет. Кроме оказания услуг населению, коммунхозы и ЖЭКи стали посредниками между производителями тепла и поставщиками воды, с одной стороны, и жильцами, с другой. Органы местной власти получили право устанавливать предельные цены на отопление, воду и другие коммунальные услуги. И вовремя: настала зима 1991—1992 года, а с ней — ясность, что российские газ и нефтепродукты, которыми отапливались дома, придется закупать не по внутренним, установленным для субъектов СССР/СНГ ценам, а по общемировым. Первый же порыв ветра свободы оказался леденящим. Квартирные счета начали расти. Графа «отопление и горячая вода» стала наводить на жильцов оторопь. При средней зарплате в 50 долларов квартирный счет в 20 долларов для многих был катастрофой. Небогатые местные бюджеты при всем своем желании не могли скомпенсировать населению ценовой шок. Денег едва хватало на содержание школ, больниц, бань и жилищное хозяйство было отпущено в вольное плаванье. Предприятия и организации одно за другим отказывались от центрального отопления, ставшего в один момент роскошью, и у теплоэнергетиков осталось, собственно, два клиента: объекты, финансируемые местным самоуправлением и население. (Забегая вперед, скажу, что децентрализация отопления продолжилась и отката назад за эти десять лет не было).
Но рост стоимости теплоносителей — это лишь одна причина шока. Вторая причина — подчеркнуто либеральная экономическая политика государства, предложившего решать проблемы на местах, проявлять инициативу и надеяться только на себя. Каждому. Именно поэтому право принятия решений, и ответственность за них были спущены вниз, местной власти.
В уездах стали искать источники дешевого топлива. Их было немного: щепа, торф, на северо-востоке — горючие сланцы. Кое-какую экономию они давали. Но платежеспособность населения продолжала падать. Началась безработица. Разумеется, местные самоуправления регулировали цены на тепло, воду и коммунальные услуги, которые значились в листочках, ежемесячно получаемых жильцами. Муниципалитетам было дано право устанавливать предприятиям теплоэнергетики предельные цены на мегаватт и начальники муниципальных коммунотделов зарывались по уши в справочники, ловчась с помощью сложных формул прикинуть цены на тепло таким образом, чтобы они были посильны для людей и одновременно, обеспечивали теплоэнергетикам доход, достаточный для существования — нет, для выживания. Если же в головы «начальников тепла» приходили мысли о неизбежном износе и следующих за ним необходимых реновациях теплохозяйства, они тут же изгонялись. Денег трагически не было.
Но кроме еды, люди должны были платить за свет, за телефон и за общественный транспорт — а ведь цены на них тоже росли. Росла бедность, росло социальное напряжение.
В особенно сложной ситуации оказались крохотные городки, выросшие вокруг производств, не вынесших испытания рынком. Закрытие таких предприятий означало для города полный коллапс, так как работы в округе не было. И дальше по цепочке: нет работы — нет денег для оплаты жилья — коммунальное предприятие умирает вместе с городом. Исчезающе малый госбюджет даже при желании не смог бы справиться с бедствиями, которые терпели Ору (закрыт торфобрикетный комбинат), Выхма, выросший возле покойного мясокомбината, городок работников льнофабрики Синди. Такого рода зоны бедствия получали кое-какую помощь из государственных резервов, но от людей не скрывали, что вопрос выживания государство решить не сможет. Стоимость жилья в таких городах упала до цены бутерброда. Трехкомнатную благоустроенную квартиру предлагали за 8—10 тысяч крон (до 800 долларов). Но покупателей не было.
Послышались протесты. Они были слабыми и плохо организованными. Общество было расколото по национальному признаку и немногие акции протеста — как правило, это были тихие пикеты отчаявшихся людей — тоже проводились отдельно русскими и эстонцами.
Люди выживали, кто как умел. В поисках работы уезжали туда, где она есть (такого рода «отходничество» не исчезло и поныне). Пытались выжить, занявшись мелким предпринимательством. Нанимались на любые работы. В этой ситуации очень достойно повели себя пресса и телевидение: сдержанные, ничего не скрывающие репортажи непременно сопровождались рассказом представителя местной власти о том, как они ищут выход из тупика, что делается сейчас и что будет сделано потом. Из газет и телепередач все знали, что помощи ждать неоткуда. Политиков, пытавшихся сделать имя на популизме, резко обрывали именно снизу, предлагая для начала назвать источники обещаемых ими благ.
Именно тогда на теплоэнергию для населения и на используемые для отопления дрова, мазут, уголь, щепу и сланец было решено установить нулевую ставку налога с оборота. Это было сделано, несмотря на заявленную уже в 1993 году цель — вступление в Евросоюз, законодательство которого, как известно, диктует государствам-членам установление единой величины этого налога для всех продаваемых товаров и услуг. Нулевая ставка продержалась до 30 июня 2000 года. Сейчас теплоэнергия для населения облагается пятипроцентным налогом и все громче поговаривают об унификации величины налога с оборота до общепринятых в стране 18%.
Но мы отвлеклись. Вернемся в день вчерашний.
Пока мы говорили только о тепле, а ведь водо-канализационное хозяйство было не в лучшей ситуации. В домах нужно было проводить хотя бы текущие ремонты, работы по благоустройству и поддержанию порядка. Наводящие ужас цифры в квартирных счетах не обманывали никого: собираемость квартплаты снижалась, а число задолжников росло. И все ширились «народные хитрости», изобретенные для получения дармовых коммунальных услуг. Стоимость эксплуатации благоустроенного жилья варьировалась незначительно и стабилизировалась примерно в 1995—1996 гг., достигнув 1,5—2,5 доллара за квадратный метр в месяц.
В это время местные самоуправления наладили связи со своими коллегами в западных странах. Там было чему поучиться — и коммунальщики поехали учиться. Семинары непременно сопровождались практическими занятиями. Опыта руководства хозяйством в экстремальной ситуации не было ни у кого, всему приходилось учиться на ходу. Оказалось, что самое сложное — это социальная работа.
Люди дисциплинированные и обязательные, получив зарплату, первым делом неслись в банки, чтобы оплатить квартирный счет. Но многие, попав в денежные ямы и ухабы (дело происходило, не забудем, в первой половине 90-х), обреченно махали рукой и оставляли неоплаченным счет текущего месяца. А затем следующего. И еще. И еще. Пока не становилось ясно: этот долг уже не выплатить, как ни крутись.
С самого начала было решено, что никаких государственных дотаций предприятия не получат. Средств на это не было и, таким образом, стартовые условия были для всех одинаковы. Что касается людей, страдавших от роста цен и подступившей безработицы, то систему социальных пособий было решено сделать максимально адресной. Деньги шли не предприятиям, а напрямую людям — пенсионерам, безработным, низкооплачиваемым. Была введена (и сохраняется сейчас) система детских пособий. Средства на пособия выделялись местным самоуправлениям из собранных сумм социального налога. Заработали отделы социальной помощи, ведавшие квартирными компенсациями и прожиточными деньгами.
Пособия назначались и рассчитывались, исходя из некого прожиточного минимума, который должен был оставаться у семьи после оплаты квартирного счета. Компенсировалась часть, недостающая до этого самого минимума, который обычно был до дрожи низок. Безработные имели право на получение квартирного пособия в течение трех месяцев (потом этот срок был продлен до полугода, а сейчас составляет девять месяцев). Пенсионеры тоже получили право на пособие. Вот приблизительная схема, по которое происходит начисление жилищных пособий и прожиточных денег.
Месячный доход семьи, состоящей из безработного, его жены и ребенка — 700 крон (сюда входит пособие на ребенка).
Прожиточный минимум, который должен оставаться после оплаты счета за квартиру — 1100 крон.
Квартплата — 800 крон.
Решение: начисляется 800 крон квартирного пособия, поступающего прямо на счет коммунального предприятия, и прожиточные деньги в сумме 400 крон, которые выплачиваются семье.
И местные самоуправления, и министерство социальных дел были в курсе, что огромная часть справок о зарплате, на основании которых начислялись и выплачивались прожиточные деньги, не имела ничего общего с реальной зарплатой, выплачиваемой в конвертах. Но государство не имело возможностей устанавливать истинные доходы людей; создание мощной фискальной службы было отложено на будущее. А пока, чтобы не навредить тем, кто действительно нуждался в пособии, его стали назначать всем, кто предъявлял справки о минимальной зарплате.
Выплата пособий происходила, как правило, в безналичной форме, для чего каждый получатель пособия был обязан завести счет в банке. Причина — безналичный оборот дешевле (и прозрачней) «налички». Исключения сделали для крохотных деревенек, где не было банковских контор, — сюда пособия поступали по почте. (Надо сказать, что с 2001 года порядок выплаты пособий несколько изменен и вся начисленная сумма поступает прямо на счет ходатайствующего о помощи, а уж заплатить за квартиру он должен сам).
Интересно, что в то же время домоуправления столкнулись с феноменом «гордой бедности»: некоторые (преимущественно пенсионеры из сел) стеснялись заполнять заявление о пособии. Центральные усадьбы колхозов и совхозов, крупные села и сельскохозяйственные городки застраивались многоквартирными домами с центральным отоплением, а падение доходов больнее всего ударило по селу. Люди, всю жизнь жившие своим трудом и не имевшие долгов, попросту стыдились своей нищеты. Доходило до того, что коммунальщики ходили по домам должников, прося подписать заполненные заявления на пособие. Что ж, предприятия коммунального хозяйства тоже хотели выжить — ведь без социальных денег-пособий падение сбора квартплаты угрожало невозможностью оплатить счета поставщиков и, как следствие, банкротством.