Методы правового регулирования и законность их реализации
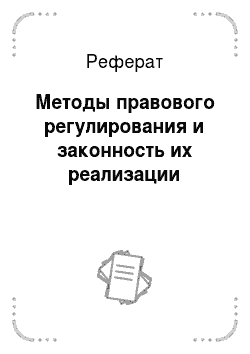
В этом отношении позитивную роль должна играть хорошо отработанная связь «правоприменитель — законодатель — правоприменитель», и, наоборот, отсутствие подобной связи отрицательно сказывается на законности уголовно-правового регулирования. Так, если в советское время анализ состояния законности позволял правильно понять причины правонарушений, точно определить их виды, то в настоящее время, хотя… Читать ещё >
Методы правового регулирования и законность их реализации (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
К числу основных методов уголовно-правового регулирования относятся: запрет, дозволение, предписание. В качестве дополнительных требуется рассматривать методы рекомендации и поощрения.
Применительно к указанным методам необходимо обозначить условия законности, позволяющие обеспечить надлежащее отражение в уголовном законе наиболее целесообразных требований. Рассмотрим их применительно к каждому из обозначенных методов.
Наиболее распространенным в уголовном законе методом правового регулирования является запрет. На его основе выстроена Особенная часть Уголовного кодекса РФ. Законность в данном случае должна обеспечиваться совокупностью правил формирования норм и институтов указанной части уголовного закона.
Метод дозволения применяется при формировании главы 8 УК «Обстоятельства, исключающие преступность деяния». Законность уголовно-правового регулирования может обеспечиваться полнотой юридического установления алгоритма соответствующего деяния, по своим криминальнообразующим элементам хотя и подпадающего под признаки преступлений, но в силу их общественной полезности таковым не являющегося.
Предписание, как метод уголовно-правового регулирования, в уголовном законе нашло свое отражение, в частности, в положениях главы 10 УК РФ «Назначение наказания» и разделе VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера». Данное условие можно сформулировать как совокупность требований к правоприменителю, из которых следует исходить при принятии соответствующего решения по уголовному делу. В этом случае действует одно условие обеспечения законности: чем более точно предписание, чем уже и конкретнее сфера судейского усмотрения, тем меньше опасность нарушения законности.
Как уже было отмечено, наряду с основными методами упорядочения общественных отношений, существенное значение в уголовноправовом регулировании имеют и методы дополнительные, а именно, рекомендации и поощрения. Законность при их реализации может обеспечиваться посредством установления нормативных требований, из которых следует исходить при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности и наказания (данные нормы в большинстве своем имеют рекомендательный характер и предоставляют органам расследования и суду право принять соответствующее решение), а равно могут рассматриваться и в качестве поощрения, являясь результатом соглашения между участниками уголовно-правовых отношений.
Наличие правоприменительного усмотрения и субъективного фактора как условия принятия решения и создают угрозу нарушения законности уголовно-правового регулирования. Следовательно, если добиться минимизации негативного воздействия указанных факторов, то уровень законности возрастет. Сделать это можно также более полной нормативной регламентацией и включением в качестве условий принятия решений объективных критериев. Например, в ст. 76 УК РФ следует конкретизировать категории преступлений, по которым возможно освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Полагаем, что их перечень следует ограничить лишь преступлениями частного и частно-публичного обвинения, в том числе преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Законность как режим уголовно-правового регулирования. Режим в переводе с латинского regimen означает точно установленный распорядок чего-либо, совокупность правил, необходимых для достижения той или иной цели. В правовой науке наиболее разработано понятие политического, государственно-политического и государственно-правового режима [100, с. 174], а также применительно к некоторым видам деятельности используется термин «правовой режим». Это понятие применяется, как правило, в том случае, если законодатель считает необходимым установить какие-либо правоограничения или правовые превенции и акцентировать внимание на этом.
Применительно к уголовно-правовому регулированию об особом режиме законности сказано в ч. 3 ст. 331 УК РФ: «Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяются законодательством Российской Федерации военного времени».
Руководствуясь приведенным предписанием можно сделать несколько выводов относительно понятия режима как правовой категории. Во-первых, режим — это определенный нормативными актами порядок, обеспечивающий (создающий условия) решение какой-либо задачи и достижение соответствующей цели. Во-вторых, правовой режим — это один из необходимых элементов правопорядка[1], выступающего одновременно и гарантией законности уголовно-правового регулирования. В этом аспекте он связан с термином «законность». Тем самым подчеркивается способ достижения цели посредством надлежащего правового регулирования. Законность в этом случае выступает в качестве антипода целесообразности, предусматривающей возможность достижения цели любыми средствами и методами, в том числе неправовыми или даже противоправными.
В связи со стремительным развитием общества в период радикальных перемен законодательство может отставать (как правило, отстает) от данного социального процесса, может и не совпадать с ним. Поэтому именно законность должна определять пределы применения уголовного законодательства, чтобы избежать перекосов, связанных с реализацией уголовной ответственности в соответствии с требованием целесообразности. Последнее нашло свое отражение в ст. 80.1 УК РФ. В ней содержится основание освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. При этом законодатель включил в эту норму пространное понятие «обстановка», определяемое в каждом конкретном случае на основе усмотрения правоприменителя.
Таким образом, под правовым режимом обеспечения законности реализации уголовной политики следует понимать нормативный порядок, создающий юридические (нормативные) предпосылки для безколизионной охраны общественных отношений и обеспечивающий реализацию права в точном соответствии с буквой закона.
Понимание же законности непосредственно как режима, скорее, подходит для реализации права, чем для правового регулирования. Более того, режим законности — это та правовая оболочка, в которой применяется уголовный закон. Ее составляют нормы уголовно-процессуального законодательства. Уголовный кодекс в этом случае создает необходимые предпосылки для обеспечения режима законности. Именно в нем устанавливаются те или иные правоограничения и ответственность за их нарушение. В качестве примера следует привести нормы главы 31 УК РФ «Преступления против правосудия». Поэтому полагаем, что для правовой регламентации более верно использовать термин «фактор», т. е. движущая сила процесса упорядочения общественных отношений уголовным законодательством и определяющая его характер в целом и отдельные черты, в частности.
Именно указанный термин дает основание рассматривать законность не в качестве самодостаточной дефиниции, а как необходимый элемент правового регулирования, связующий все его стадии, концептуально формирующий его внутреннюю архитектуру.
Действительно, законность как фактор уголовно-правового регулирования определяет основную черту этого процесса — поддержание нормативного механизма, призванного регламентировать общественные отношения посредством уголовного законодательства, т. е. эффективно и в точном соответствии с «буквой» нормативных актов разного уровня создавать правовые предпосылки для реализации целей и задач уголовного закона.
Это позволит минимизировать субъективный произвол и ведомственный волюнтаризм в уголовно-правовой политике, а все стадии уголовно-правового регулирования выстроить на строго законодательной основе[2].
В этом отношении позитивную роль должна играть хорошо отработанная связь «правоприменитель — законодатель — правоприменитель», и, наоборот, отсутствие подобной связи отрицательно сказывается на законности уголовно-правового регулирования. Так, если в советское время анализ состояния законности позволял правильно понять причины правонарушений, точно определить их виды, то в настоящее время, хотя много и говорится о необходимости соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, однако конкретных мер не принимается. По мнению авторов, одна из причин такого положения дел — в несоответствии принимаемых мер реальному состоянию правопорядка в стране. Отсутствие объективных ориентиров в обеспечении законности порождает формирование искаженной отчетности, а она, в свою очередь, влечет принятие ошибочных решений в плане реформирования уголовного законодательства и в особенности системы наказаний, не связанных с лишением свободы.
Законодатель предпринимает попытки усилить уголовную ответственность за отдельные наиболее актуальные в современной России преступления, но без дифференциации наказаний это не получается, поскольку суды вынуждены проводить подобную дифференциацию на основе собственного судейского усмотрения и действующей системы наказаний, не предусматривающей широкого спектра взысканий, которые не связаны с лишением свободы и реально могут быть применены к осужденным, совершившим тяжкие преступления. Так, согласно отчету о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 6 месяцев 2013 г., из 104 991 осужденных к лишению свободы 98 636-ти такое наказание назначено условно[3].
Более того, принимаемые решения по уголовным делам в части назначения наказаний не находят положительной реакции и в обществе, следствие — «страдает» законность, как социально-правовая категория. И, несмотря на то, что в последние годы законность в научном плане исследуется с различных точек зрения достаточно часто, радикальных сдвигов в ее осознании нет. Большинство авторов либо поддерживают классическую теорию законности, разработанную еще римскими юристами, как режима безусловного соблюдения законов, либо подвергают такое ее понимание критике, при этом не конкретизируя собственных концепций. Парадоксально, но факт, что в настоящее время в России господствует еще советская трактовка законности, для которой характерен приоритет исключительно государственных и общественных интересов, несмотря на смену юридической риторики.
Представляется, что проблема в этом случае, как и в случае с правовым регулированием, связана с пониманием сущности права, с определением его социальной роли, путей воздействия присущих ему правовых средств на общественные отношения. А между тем от фиксации конкретных (присущих той или иной отрасли права) целей и задач зависит предмет и пределы обеспечения законности.
Законность как принцип правового регулирования. Традиционно законность рассматривают и как общеправовой (стержневой) принцип права, пронизывающий многие другие его принципы и принципиальные положения[4], не говоря уже об отдельных нормах и правовых институтах. Более того, воздействие законности происходит не только на отраслевом, но и на межотраслевом уровнях. Именно данный принцип позволяет смягчить влияние на правоприменительный процесс правовых коллизий и конкуренции норм права. Законность также позволяет достичь наиболее целесообразного восприятия правовых норм в процессе их разъяснения компетентными органами, определить параметры правоприменительного усмотрения.
В этой связи авторы полагают, что законность как общеправовой принцип — это совокупность теоретических воззрений и нормативных предписаний, служащих обеспечению и защите прав, свобод и законных интересов личности, а также поддержанию правопорядка в стране.
При этом надо отметить, что подобное понимание законности отличается от его понимания в качестве конституционного принципа. Первый является не нормативным предписанием, а доктринальным представлением о должном. Второй — это принцип законодательства — формально определенная, не предусматривающая каких-либо исключений из общих правил, т. е. обязательная для исполнения всеми участниками правоотношений, норма-принцип.
В Конституции РФ законность отражена в нескольких статьях. Так, согласно ст. 4 Конституция РФ, и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. В ст. 15 Основного закона определено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Находит свое конкретное воплощение проблема законности и во многих других статьях Конституции РФ.
В связи с этим можно констатировать, что конституционные положения о законности в своем содержании имеют несколько векторов воздействия на общественные отношения. Первый — обеспечение и защита прав и свобод граждан органами государства и их должностными лицами, поскольку нормы Конституции РФ имеют высшую силу и прямое действие. Второй вектор проявляется в том, что Конституция РФ — правовая основа всего российского законодательства. На его базе сформировано в том числе и уголовное законодательство, о чем прямо сказано в ч. 2 ст. 1 УК РФ.
На основании изложенных положений следует сделать вывод, что применительно к уголовно-правовому регулированию законность необходимо рассматривать как многогранное понятие. Как и в общей теории права, в настоящем исследовании законность предлагается рассматривать как метод, режим и принцип. Но вот относительно содержания каждой из обозначенных форм, применительно к уголовно-правовому регулированию, следует определить специфические черты. Так, законность как метод уголовно-правового регулирования непосредственно связана с созданием в форме норм Уголовного кодекса РФ моделей уголовно-правовых отношений, т. е. со сферой нормотворчества.
Представление о законности реализации уголовно-правовой политики как режиме правового регулирования, наоборот, в большей степени сопутствует процессу применения уголовного законодательства.
Законность, как принцип уголовной политики в сфере уголовноправового регулирования, в отличие от законности уголовной ответственности имеет более сложное содержание. С одной стороны, это принцип, определяющий общие, фундаментальные подходы к упорядочению общественных отношений с помощью уголовно-правовых средств. В этом отношении под ним следует понимать конституционный принцип, устанавливающий иерархию нормативных актов, воздействующих на уголовное законодательство, и порядок их реализации в уголовном праве. С другой стороны, это принцип правореализации, т. е. совокупность основополагающих нормативных положений, определяющих основные и необходимые параметры (основания) установления и применения уголовной ответственности и наказания. В данном аспекте он полностью совпадает по содержанию с положениями ст. 3 УК РФ.
При этом проявления различных форм законности в сфере уголовноправового регулирования находятся между собой в сложных диалектических системных связях и оказывают взаимное воздействие друг на друга.
Вместе с тем во всех своих проявлениях интересующий нас аспект законности выступает как правомерность деятельности и других явлений, как строгое и неуклонное соблюдение и исполнение норм уголовного права. При этом, исходя из особенностей материально-правового подхода к обеспечению и охране законности в сфере уголовно-правового регулирования, следует акцентировать внимание и на особом пути достижения указанных задач. Этот путь непосредственно связан с созданием системы правил, и прежде всего нормативных, по форме своей фиксации создающих и поддерживающих надлежащий правовой режим достижения целей и решения задач уголовного законодательства в рамках реализации функций уголовного права.
Некоторые вопросы реализации законности в сфере уголовно-правового регулирования. Значение законности понимается не только на законодательном уровне. Проведенное авторами совместно с А. А. Куприяновым эмпирическое исследование доказывает, что необходимость в правопорядке, основанном на законности, осознается и специалистами в области юриспруденции и населением в целом. Так, более 50% всех опрошенных респондентов (79 из 150)[5] полагают, что законность относится к числу существенных факторов, обеспечивающих стабилизацию общественных отношений в государстве. Это наглядно свидетельствует о том, что, несмотря на негативные социальные факторы, граждане заинтересованы в режиме законности, стабильности правопорядка, защищенности своей жизни, имущества, реализации своих законных интересов. Неотвратимое наказание вора или взяточника, строгое соблюдение трудового, налогового или административного законодательства, охрана жилищных прав, справедливое разрешение жалобы на нарушение прав, свобод и законных интересов личности — именно на этих или подобных им фактах, касающихся конкретного лица, его родных и близких, граждане и получают представление о режиме законности, приобретают уверенность в его устойчивости либо, напротив, разочаровываются в практике его соблюдения, а значит, в целом и в возможности государства обеспечить правопорядок.
Реальное состояние законности в нашей стране далеко от идеала. Так, в частности, на вопрос: «Как Вы оцениваете состояние законности в нашей стране?» — только 9 респондентов (9,2%) из 97 опрошенных юристов ответило, что состояние законности находится на высоком уровне, подавляющая же часть юристов полагает, что законности придается недостаточное значение, при этом, правда, 51 респондент (52,6%) думает, что в последнее время наблюдается улучшение ситуации. При этом следует заметить, что подобное суждение высказано преимущественно будущими юристами (студентами юридических факультетов). В отношении последних напрашивается один вывод: подобную точку зрения у них выработали преподаватели, чей жизненный опыт позволяет судить о происходящем с практических и научных позиций, т. е. авторитетно.
Среди тех, кто не принадлежит к армии юристов, скептиков значительно больше. Так, только 3 из 53 респондентов (5,7%) уверены, что ситуация в стране улучшается (коррупция в государственных органах стала меньше). По мнению 11 из 53, — ситуация только ухудшается. 27 респондентов от общего количества опрошенных (18,9%) полагают, что в уголовном праве положение с законностью наименее удовлетворительное. Еще 9 интервьюентов (17%) в этой связи назвали и процессуальные отрасли права (преимущественно уголовный процесс), а 10 опрошенных (19%) недовольны законностью в сфере административно-правового регулирования. Следовательно, более половины опрошенных граждан, не имеющих отношение к юриспруденции, считают, что угроза нарушения законности исходит именно от охранительных отраслей права.
Поэтому обеспечение законности тесно связано с общей задачей укрепления правоприменительной практики. Немаловажное значение имеет и законность уголовно-правовых средств воздействия на преступность, что в современных условиях, вероятно, следует рассматривать как центральный аспект законности уголовно-правовой политики.
В этом отношении результаты эмпирического исследования соответствуют задачам уголовно-правовой политики государства, сформулированным в Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, подготовленной в 2012 г. Общественной палатой РФ. В числе таковых программный документ называет обеспечение адекватности уголовного законодательства актуальным криминальным угрозам и ведущим тенденциям в развитии преступности; достижение полного соответствия уголовного законодательства и практики его применения конституционным и международно-правовым стандартам прав человека и безопасности.
В этой связи следует обратить внимание на одну немаловажную причину недостаточной эффективности принимаемых в последнее время законов — противоречия между реальной криминогенной ситуацией в стране и вносимыми в уголовный закон поправками[6]. В настоящее время эти противоречия связаны с двумя противоположными тенденциями: демократизацией и гуманизацией институтов уголовной ответственности, с одной стороны, и необходимостью усилить борьбу с опасными формами преступной деятельности (терроризмом, экстремизмом, коррупцией и пр.), с другой. Найти баланс между ними нелегко. В частности, подобная ситуация отчетливо проявилась при исключении из УК РФ положения о конфискации имущества как наказания. Несмотря на его малоэффективность (за первое полугодие 2003 г. (последний год действия конфискации имущества в качестве уголовного наказания) по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. число лиц, получивших данную меру наказания в судах среднего звена, сократилось на 34, 9% и составило всего 1,4 тыс. осужденных[7]), многие теоретики считают это серьезным превентивным аргументом в борьбе с корыстными должностными преступлениями.
Так, по мнению профессора В. П. Ревина, исключение конфискации имущества как вида наказания без обоснованных и понятных аргументов со ссылкой, что это неэффективный вид наказания, не выдерживает критики, поскольку он являлся весьма эффективным уголовно-правовым средством противодействия преступлениям против собственности в сфере экономической деятельности и противодействия коррупционной преступности [44, с. 123].
Но, несмотря на негативную практику применения анализируемого наказания, законодатель учел наличие превентивного потенциала данной меры государственного принуждения и в 2006 г. восстановил институт конфискации имущества, но в виде иной меры уголовно-правового характера.
И хотя такая новелла по содержанию (отсутствие возможности применения ст. 104.1 УК РФ ко всем преступлениям корыстной направленности) не устроила приверженцев традиционного похода к правовому регулированию конфискации имущества, с точки зрения формы принятое законодателем решение соответствует принципу законности, так как дифференциация ответственности была названа в Концепции уголовного законодательства принципиальным направлением реформы уголовного законодательства [101].
А как обстоит дело в правоприменительной практике? По прошествии семи лет можно подвести некоторые итоги. В отчете Судебного департамента при Верховном суде РФ говорится, что если в 2007 г. рассматриваемая мера было применена всего 73 раза, то уже за первое полугодие 2013 г. ст. 104.1 УК РФ была применена к 308 осужденным. Как видим, рост существенный, но, учитывая, что судами за указанный период было осуждено 2121 лиц (это только должностные преступления, предусмотренные гл. 30 УК РФ), то результат в форме превентивного воздействия следует признать весьма скромным.
Однако можно привести и обратный пример. Так, Федеральным законом от 21 июля 2004 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации»1 ч. 1 ст. 57 изложена в следующей редакции: «1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности».
Подобные изменения, по мнению авторов, приняты с явным нарушением конституционного принципа законности, поскольку, согласно ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.
При этом в ст. 57 УК РФ, вопреки положениям ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, в соответствии с которой не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные в том числе ст. 20 Конституции РФ, были внесены изменения, касающиеся ужесточения ответственности за терроризм (ст. 205 УК РФ).
Напомним, что в соответствии со структурой Особенной части УК РФ терроризм относится к преступлениям против общественной безопасности, а не к преступлениям против жизни. Следовательно, изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ Законом от 21 июля 2004 г. и подтвержденные затем Законом от 27 июля 2006 г., не соответствуют принципу законности, определенному в ч. 1 ст. 15 Конституции РФ. Согласно этому конституционному положению, законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации (в нашем случае это Уголовный кодекс РФ), не должны противоречить Конституции РФ.
Приведенный анализ законодательных новелл последнего десятилетия говорит об отсутствии четкой связи уголовно-правовой политики с уголовно-правовым регулированием.
В свое время В. Н. Кудрявцев предлагал разрешать противоречия между теоретическими и практическими подходами к противодействию преступности в рамках режима законности. По его мнению, необходимо всегда выполнять два условия. Во-первых, в обязательном порядке приходить к консенсусу между теоретиками и практиками при их совместном участии в законотворческом процессе. При этом академик В. Н. Кудрявцев подчеркивал, что подобное соглашение как результат компромисса возможен только в рамках Конституции РФ и концептуальных основ правового государства. Во-вторых, повышение профессионализма сотрудников правоохранительных органов и судей как важнейшее условие противодействия преступности в условиях уважения прав личности [102, с. 9].
Таким образом, значение законности состоит в том, чтобы как в ходе разработки и принятия нормативных актов, так и в процессе их реализации обеспечить верховенство закона «по отношению к другим видам правового регулирования» [11, с. 35].
В целом это будет способствовать укреплению законности и составит необходимую основу для ограничения и сокращения преступной активности, поскольку разрастание в последние годы коррупции и иных видов преступности тесно связано не столько с экономическими проблемами, сколько с ослаблением государственной власти в результате незавершенной административной реформы 2003—2004 гг. Это как раз и привело к той ситуации, которая имеет место в современной России: ухудшение криминогенной ситуации в государственном управлении; рост коррумпированности чиновников; резкое снижение эффективности деятельности надзорно-контрольных органов и, как следствие, пренебрежение к поддержанию необходимого уровня законности в деятельности правоохранительных органов и т. д. И хотя на теоретико-правовом уровне наметилась государственная воля противодействовать отмеченным недостаткам, практической реализации указанная стратегическая линия еще не получила. Однако необходимо осознавать, как бы ни развивались дальнейшие события, без интенсивного восстановления государством своих властных, контрольных, организаторских и охранительных полномочий невозможно позитивное воздействие на состояние законности в сфере уголовно-правового регулирования.
- [1] Правопорядок — это состояние упорядоченности общественных отношений, основанное на праве и законности. (Афанасьев В. С. Законность и правопорядок. Общаятеория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. М.: Юрисгь, 2002. С. 268).
- [2] На необходимость совершенствования правового регулирования как средстваобеспечения законности обращает внимание и Т. К. Примак. (Примак Т. К. Совершенствование законодательства как средство обеспечения законности (по материалам деятельности органов внутренних дел): Дис. … канд. юрид. наук. М., 1998).
- [3] Судебный департамент при Верховном суде РФ. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции [Электронный ресурс] //Режим доступа: http://www.cdep.ru/
- [4] К последним, в частности, можно отнести нормы, включенные в главу 2 УК РФ"Действие уголовного закона во времени и в пространстве".
- [5] По специально разработанной анкете авторами опрошено 150 граждан, занятыхв различных сферах деятельности. Среди них были не только специалисты в областиюриспруденции (это 97 преподавателей, адвокатов, следователей, судей, студентов юридических высших учебных заведений и т. д.), но и 53 лица, деятельность которых не связана как с правовой наукой, так и с юридической практикой.
- [6] В свое время на это обращали внимание А. Я. Сухарев, А. И. Алексеев и М. П. Журавлев — авторы книги «Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель» (М.: Норма, 1997).
- [7] Работа федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей Российской Федерации в первом полугодии 2003 года // Российская юстиция. 2004. № 1. С. 70.