Политико-правовые теории второй половины XX в
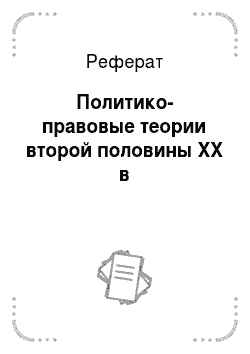
Тоталитаризм, по Хайеку, подступает постепенно и незаметно; он оказывается непреднамеренным результатом самых возвышенных устремлений самых достойных людей. Погоня за дорогими нашему сердцу идеалами приводит к последствиям, в корне отличающимся от ожидаемых, — таков лейтмотив «Дороги к рабству». Чтобы это произошло, нужно совсем немного: поставить себе цель организовать жизнь общества по единому… Читать ещё >
Политико-правовые теории второй половины XX в (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Политико-правовой анализ тоталитаризма (Ф. А. фон Хайек и Ж. Желев)
Если К. Шмитт в своих произведениях заложил основу критики тоталитаризма, то его развернутая критика была дана в работах немецко-американского политолога Ханы Арендт, югославского политолога Милована Джиласа, австрийского экономиста и политолога Фридриха Хайека и болгарского политолога Желю Желева. Их основные труды «Истоки тоталитаризма» (Арендт), «Новый класс» (Джилас), «Дорога к рабству» (Хайек) и «Фашизм. Тоталитарное государство» (Желев) стали классическими. На двух последних остановимся подробно.
Жизненный путь Фридриха Августа фон Хайека (1899— 1992), внешне ровный и мало насыщенный событиями, исполнен глубокого драматизма: времена, когда его идеи приковывали внимание научного мира, сменялись долгими годами забвения.
Делом чести для Хайека была защита «классического либерализма», неглубокого, как считалось, прекраснодушного и давно отжившего свой век течения мысли.
Хайек родился 8 мая 1899 г. в Вене. После окончания Венского университета, где ему присуждаются ученые степени доктора права и доктора политических наук, он какое-то время состоит на государственной службе. В 1927 г. Хайек становится основателем (совместно с Л. фон Мизесом) и первым директором Австрийского института экономических исследований.
В 1931 г. он принимает приглашение Лондонского университета и начинает преподавать в Лондонской школе экономики. В 1930;е годы одна за другой выходят главные работы Хайека по экономической теории, которые приносят ему широкую известность в научном мире. Он завоевывает признание как один из лидеров новоавстрийской экономической школы. Занимаясь проблемами экономического цикла, теории капитала и теории денег, он становится главным оппонентом Дж. М. Кейнса.
Однако в 1940;е годы полемика на какое-то время затихает, и Хайек обращается к спору с самым опасным, как он полагает, противником — социализмом. В 1944 г. он публикует «Дорогу к рабству» — книгу, сыгравшую в известной мере поворотную роль в его дальнейшей судьбе. К удивлению самого Хайека, книга стала бестселлером и привлекла внимание многих серьезных ученых и мыслителей, вызвав сочувственные отзывы Дж. Кейнса и И. Шумпетера, К. Ясперса и Дж. Оруэлла.
" Дорогу к рабству" можно считать водоразделом между «ранним» и «поздним» Хайеком. С середины 1940;х годов направление его научной деятельности меняется, изыскания в области экономической теории постепенно уступают место более общим исследованиям социально-философского плана.
В 1952 г. выходит трактат по теоретической психологии «Структура восприятия», в 1954 г. — сборник «Капитализм и историки», посвященный демифологизации истории промышленной революции в Англии, в 1960 г. — «Основной закон свободы» — труд, который многие поклонники Хайека оценивают как его opus magnum. Он представлял собой систематическое изложение принципов классического либерализма или, по собственному определению Хайека, «философии свободы». Трилогию «Право, законодательство и свобода» (1973—1979) можно рассматривать как попытку дальнейшего развития и углубления философии либерализма (первый том — «Правила и порядок»; второй — «Мираж социальной справедливости»; третий — «Политический строй свободного народа»).
" География" научной и преподавательской деятельности Хайека разнообразна: в 1950 г. он становится профессором социальных наук и этики Чикагского университета (США), в 1962 г. — профессором экономической политики Фрейбургского университета (ФРГ), в 1969 г. — профессором-консультантом Зальцбургского университета (Австрия), а в 1977 г. возвращается вновь во Фрейбург. 50—60-е годы XX в. — самая трудная полоса жизни Хайека.
Однако в 1974 г. Хайеку, в 75 лет, присуждается Нобелевская премия по экономике, что для него самого явилось полной неожиданностью. Кризис политики кейнсианского макроэкономического регулирования, пришедшийся на 1970;е годы, позволил Хайеку перейти в контрнаступление на кейнсианство. С не меньшей энергией атакует он систему неограниченной демократии и «государства благосостояния», от которой, по его убеждению, исходит новая угроза принципам свободного общества. Широкий резонанс получают его проекты парламентской реформы и денационализации денег.
В 70-е годы прошлого века Хайеку довелось стать свидетелем крушения кейнсианской модели государственного регулирования, в 80-е — кризиса «реального социализма», однако ни то, ни другое не было для него неожиданностью. На его глазах произошли коренные изменения в интеллектуальном климате, когда ценности классического либерализма — личная независимость и добровольное сотрудничество, индивидуальная собственность и рынок, правовое государство и ограниченное правительство — будто обрели второе дыхание.
Возвращаясь к произведению «Дорога к рабству», следует отметить, что главным в нем являются политические, нравственные и духовные последствия тоталитаризма.
Взяться за работу над данной проблемой Хайека побудили соображения практического порядка. Известно, что в периоды войн, когда государство вынуждено брать на себя многие хозяйственные функции, популярность идеи централизованного планирования неизменно возрастает. И если государстве способно справляться с военными задачами, то отчего бы ни наделить его еще большими полномочиями для решения проблем мирного времени? Автор убедительно показал, что тоталитаризм чреват не только моральной деградацией общества, но и неминуемым провалом в сфере экономики, означающим катастрофическое падение уровня жизни людей. И главной причиной является то, что в рамках централизованного планирования огромная масса информации оказывается невостребованной, а координация поступающей — чрезвычайно неэффективной. В итоге централизованная экономика обречена на расчетный, или калькуляционный, хаос.
" Дорога к рабству" задумывалась как предостережение левой интеллигенции и была обращена прежде всего к сторонникам социалистической идеи, как это ясно из посвящения — «социалистам всех партий». Первых читателей книги больше всего шокировало обнаружение фамильного сходства большевизма и социализма с фашизмом и национал-социализмом, хотя очень скоро такого рода сближения перестали быть редкостью в западной литературе. Однако не это было для Хайека главным.
Замысел книги раскрывает эпиграф из Юма: «Свобода, в чем бы она ни заключалась, теряется, как правило, постепенно». Образ дороги в заглавии не случаен: Хайек показывает, куда, по его мнению, ведет дорога, вымощенная благими намерениями социалистов… Вступив на эту дорогу, невозможно остановиться на полпути: логика событий заставляет проделать его весь до конца, пока и общество, и отдельная личность не будут поглощены государством и не восторжествует тоталитарное рабство.
Тоталитаризм, по Хайеку, подступает постепенно и незаметно; он оказывается непреднамеренным результатом самых возвышенных устремлений самых достойных людей. Погоня за дорогими нашему сердцу идеалами приводит к последствиям, в корне отличающимся от ожидаемых, — таков лейтмотив «Дороги к рабству». Чтобы это произошло, нужно совсем немного: поставить себе цель организовать жизнь общества по единому плану и последовательно стремиться к реализации этой цели на практике. Стоит только встать на эту дорогу — остальное довершит неотвратимая логика событий. Вслед за заменой спонтанного рыночного порядка сознательным плановым руководством неминуемо начинают рушиться одна за другой все ценностные скрепы и опоры свободного общества — демократия, законопорядок, нравственность, личная независимость, свободомыслие, что равносильно гибели всей современной культуры и цивилизации.
Процесс разворачивается с железной последовательностью: поскольку руководство по единому всеобъемлющему плану подразумевает, что государство вовлекается в решение необозримого множества частных технических проблем, то очень скоро демократические процедуры оказываются неработоспособными. Реальная власть неизбежно начинает сосредотачиваться в руках узкой группы «экспертов». План устанавливает иерархию четко определенных целей, и концентрация власти выступает необходимым условием их достижения — система централизованного управления, когда решения принимаются исходя из соображений выгодности в каждом отдельном случае, без оглядки на какие-либо общеобязательные принципы права, являет собой царство голой целесообразности. Твердые юридические правила и нормы сменяются конкретными предписаниями и инструкциями, верховенство права — верховенством политической власти.
В то же время органы власти физически не в состоянии издавать приказы по каждому ничтожному поводу. Образующиеся пустоты заполняются квазипринципами квазиморали. «Квази» — потому что она предназначена для нижестоящих, и ее когда угодно могут перекроить в соответствии с изменившимися условиями момента.
В отсутствие системы нравственных ограничений вступает в действие механизм «обратного отбора»: выживают и оказываются наверху «худшие», те, кто полностью свободен от ненужного бремени нравственных привычек и не колеблясь решается на самые грязные дела.
В условиях централизованного контроля за производством человек попадает в зависимость от государства при выборе средств для достижения своих личных целей: ведь имение оно в соответствии со своими приоритетами определяет что и сколько производить, кому и какие блага предоставлять. Сужается диапазон свободы не только потребительское выбора, но и выбора профессии, работы, места жительства. Это означает размывание и исчезновение защищенной законом сферы частной жизни, где человек был полновластным хозяином принимаемых решений.
Общество насквозь политизируется: его членами признаются лишь те, кто разделяет установленные цели. Несогласие с общепринятым мнением становится несогласием с государством, т. е. политической акцией. Формализуется новый человек — «человек единой всеобъемлющей организации», которому причастность к коллективу заменяет совесть. Происходят необратимые психологические изменения: достоинства, на которых держалось прежнее общество, — независимость, самостоятельность, готовность идти на риск, способность отстаивать свои убеждения — отмирают, потому что человек привыкает обращаться за решением всех своих проблем к государству.
В итоге в описании Хайека стоит выделить два принципиальных момента. Первое: фундаментом всех прав и свобод личности оказывается свобода экономическая; с ее уничтожением рушится все здание цивилизации. Второе: утверждение тоталитаризма — неизбежный результат переноса на современное общество принципов, по которым живут автономные организации типа фабрики или армии, а кровавые приметы тоталитарных режимов вытекают из возвышенного и на первый взгляд безобидного стремления переустроить жизнь общества в соответствии с некой единой, рациональной, наперед заданной целью.
Книга Ж. Желева (род. 1935) «Фашизм. Тоталитарное государство», изданная в России в 1990 г., представляет собой попытку добросовестно, на документальной основе восстановить политический скелет тоталитарного мамонта. Главное, что привлекло внимание публики — это полное совпадение двух вариантов тоталитарного режима — фашистского и коммунистического. Хотя специально в книге не проводится аналогии, тем не менее ее внутренняя логика позволяет сделать вывод о том, что между нацистской и коммунистической политическими системами не только нет существенной разницы, но если какая-то разница и есть, то она не в пользу коммунизма.
Впервые в истории тоталитарный режим и тоталитарное государство были созданы коммунистами. Абсолютная монополия Коммунистической партии в политической сфере должна была закономерно привести к сращиванию партии с государством, и прежде всего партийного аппарата с государственным, вследствие чего во главе государства и партии оказываются одни и те же лица, обладающие неограниченной и бесконтрольной властью. То же самое происходит и на всех прочих уровнях государственной и хозяйственной иерархии.
И чтобы эта политическая система оставалась незыблемой, абсолютная монополия государства и партии, точнее партии, а не государства, еще точнее — партии-государства, такая абсолютная монополия должна была охватить не только надстройку, но и экономический базис общества. В государственную собственность должны были превратиться крупная частная собственность путем экспроприации, мелкая — путем насильственной, кровавой сталинской коллективизации.
С окончанием процесса огосударствления собственности тоталитарный режим полностью построен. Так создается коммунистический вариант тоталитарного режима, который остается и по сей день самой завершенной и самой совершенной в истории моделью тоталитарного режима. Фашистская модель — ее часто представляли как антипод коммунистической — в сущности отличается лишь тем, что недостроен, незавершен ее экономический базис, вследствие чего она менее совершенна и стабильна. Это можно проследить на примере архитектоники нацизма и нацистской системы, представлявшей собой самый совершенный фашистский режим. В нацистской системе абсолютная монополия партии не распространяется на экономический базис или по крайней мере охватывает не весь экономический базис. В ней существует частная собственность, разные ее виды, что, естественно, не порождает стремления к сцеплению, целостности, монолитности, скорее, наоборот — создает неоднородность, различия, которые в критических ситуациях легко перерастают в противоречия. Монолитная надстройка и разнородный базис — таково несоответствие внутри фашистского тоталитарного режима. Это-то и делает его нестабильным и недолговечным. Поэтому все фашистские режимы погибли гораздо раньше наших, коммунистических. Одни — как нацистская Германия и фашистская Италия — в пламени Второй мировой войны, другие — франкистская Испания и салазаровская Португалия — после войны, так сказать, в мирных условиях.
Фашистские режимы не только погибли раньше, они и появились позже, и это подтверждает, что они — лишь жалкая имитация, плагиат оригинала, подлинного, аутентичного, совершенного и завершенного.
Фашизм нельзя понять в его основе, если не рассматривать его как тоталитарный режим, как разновидность тоталитарной системы. Без модели тоталитаризма не увидеть места феномена «фашизм» в масштабах XX в., не раскрыть его связь с другой версией тоталитаризма — коммунистической, не постичь общее и различия между ними.
Когда книга «Фашизм» увидела свет, власти не случайно реагировали такими масштабными репрессиями против тех, кто был связан с ее изданием. По реакции публики, по возбуждению и энтузиазму части интеллигенции они ощущали: на открытое обсуждение выносятся самые острые проблемы нашего времени, среди которых и вопрос о судьбе социалистического государственного строя.